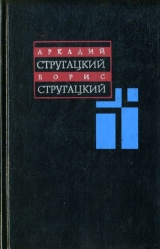
Текст книги "Том 7. 1973-1978"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц)
Я открыл дверь. Это оказался Захар.
– Здрасьте, Митя, извините, ради бога, – произнес он с какой-то искусственной развязностью.
Я невольно посмотрел вниз. Но там никого больше не оказалось. Захар был один.
– Заходите, заходите, – сказал я. – Очень рад.
– Понимаете, решил заглянуть к вам... – все в том же искусственном тоне, который совершенно не вязался с его стеснительной улыбкой и интеллигентнейшим общим обликом, продолжал он. – Вайнгартен куда-то подевался, черт бы его побрал... Звоню ему весь день – нет. А тут вот собрался к Филипп... э... Палычу, дай, думаю, загляну, может быть, он у вас...
– Филипп Павлович?
– Да нет, Валентин... Вайнгартен.
– Он тоже пошел к Филиппу Павловичу, – сказал я.
– Ах так! – с огромной радостью произнес Захар. – Давно?
– Да с час назад...
Лицо у него вдруг на мгновение застыло – он увидел молоток у меня в руке.
– Обед готовите? – произнес он и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил: – Ну что ж, не буду вам мешать, пойду... – Он двинулся было обратно к двери, но остановился. – Да, я совсем забыл... То есть не забыл в общем-то, а просто не знаю... Филипп Палыч... Какая у него квартира?
Я сказал.
– Ага, ага... А то он, понимаете ли, позвонил мне, а я... как-то, знаете ли, забыл... за разговором...
Он еще попятился и открыл дверь.
– Понятно, понятно, – сказал я. – А где же ваш мальчик?
– А у меня все кончилось! – радостно выкрикнул он, шагнул через порог и...»
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
20. «...подвигнуть меня на генеральную уборку этого свинарника. Я еле отбился. Договорились, что я сяду заканчивать работу, а Ирка, раз уже ей совсем нечего делать, раз уже ей, понимаешь, так неймется, раз уж она совсем не в состоянии полежать в ванночке с последним номером «Иностранной литературы», – пусть разберет белье и займется Бобкиной комнатой. А я беру на себя большую комнату, но не сегодня, а завтра. Морген, морген, нур нихт хойте. Но уж до блеска, чтобы ни одной пылинки.
Я расположился за своим столом, и некоторое время все было тихо и мирно. Я работал, и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовольствием. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное угрюмое удовлетворение, я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей: он один, он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного поля, перебегающих фигурок в чужих мундирах и низкого унылого неба, и знает также, что это правильно, что иначе нельзя, и гордится этим. И некий сторож у меня в мозгу, пока я работал, внимательно и чутко прослушивал и просматривал все вокруг, помнил, что ничего не кончилось, все продолжается и что тут же под рукой, в ящике стола, лежит устрашающий молоток с топориком и шипастым набалдашником. И в какой-то момент этот сторож заставил меня поднять голову, потому что в комнате что-то произошло.
Собственно, ничего особенного не произошло. Перед столом стояла Ирка и молча смотрела на меня. И в то же время, несомненно, что-то произошло, что-то совсем уж неожиданное и дикое, потому что глаза у Ирки были квадратные, а губы припухли. Я не успел слова сказать, как Ирка бросила передо мной, прямо на мои бумаги, какую-то розовую тряпку, и я машинально взял эту тряпку и увидел, что это лифчик.
– Что это такое? – спросил я, совершенно обалдев, глядя то на Ирку, то на лифчик.
– Это лифчик, – чужим голосом произнесла Ирка и, повернувшись ко мне спиной, ушла на кухню.
Холодея от ужасных предчувствий, я вертел в руках розовую кружевную тряпку и ничего не понимал. Что за черт? При чем здесь лифчик? И вдруг я вспомнил обезумевших женщин, навалившихся на Захара. Мне стало страшно за Ирку. Я отшвырнул лифчик, вскочил и бросился на кухню.
Ирка сидела на табуретке, опершись локтями на стол и обхватив голову руками. Между пальцами правой руки у нее дымилась сигарета.
– Не прикасайся ко мне, – произнесла она спокойно и страшно.
– Ирка! – жалобно сказал я. – Иришка! Тебе плохо?
– Животное... – непонятно сказала она, оторвала руку от волос и поднесла к губам дрожащую сигарету. Я увидел, что она плачет.
...«Скорую помощь»? Не поможет, не поможет, при чем здесь «скорая помощь»... Валерьянки? Брому? Господи, лицо-то у нее какое... Я схватил стакан и налил воды из-под крана.
– Теперь все понятно... – сказала Ирка, судорожно затягиваясь и отстраняя локтем стакан. – И телеграмма эта понятна, и все... Докатились... Кто она?
Я сел и отхлебнул из стакана.
– Кто? – тупо спросил я.
На секунду мне показалось, что она хочет меня ударить.
– Это надо же, какая благородная скотина, – проговорила она с отвращением. – Не захотел, значит, осквернять супружеское ложе... Ах, как благородно... У сына в комнате развлекался...
Я допил воду и попытался поставить стакан, но рука меня не слушалась. Врача! – металось у меня в голове. Ирка моя, маленькая, врача!
– Ладно, – сказала Ирка. Она больше не смотрела на меня. Она смотрела в окно и курила, поминутно затягиваясь. – Ладно, не будем. Ты сам всегда говорил, что любовь – это договор. У тебя всегда это очень красиво получалось: любовь, честность, дружба... Только уж могли бы проследить, чтобы лифчики за собой не забывали... Может быть, там еще и трусики найдутся, если поискать?
У меня словно шаровая молния лопнула в голове. Я сразу все понял.
– Ирка! – сказал я. – Господи, как ты меня напугала...
Конечно, это было совсем не то, что она ожидала услышать, потому что она вдруг повернула ко мне лицо, бледное милое заплаканное лицо, и посмотрела на меня с таким ожиданием, с такой надеждой, что я сам чуть не разревелся. Она хотела только одного: чтобы все сейчас же разъяснилось, чтобы все это оказалось чепухой, ошибкой, нелепым совпадением.
И это был последний камушек. Я больше уже не мог. Я больше не захотел держать это при себе. И я обрушил на нее всю лавину ужаса и сумасшествия последних двух дней.
Не знаю, наверное, вначале мой рассказ звучал как анекдот. Скорее всего, так оно и было, но я говорил и говорил, ни на что не обращая внимания, не давая ей возможности вставить язвительное замечание, кое-как, без всякого порядка, плюнув на хронологию, и я видел, как выражение недоверия и надежды на ее лице сменилось сначала изумлением, затем беспокойством, затем страхом и, наконец, жалостью...
Мы уже сидели в большой комнате перед распахнутым окном – она в кресле, а я на ковре рядом, прижавшись щекой к ее колену, – и тут оказалось, что за окном – гроза, фиолетовая туча развалилась над крышами, хлещет ливень, и свирепые молнии ввинчиваются в темя двенадцатиэтажника, уходя в него без остатка. Крупные холодные брызги шлепались в подоконник, залетали в комнату, порывы ветра вздували желтые шторы, а мы сидели неподвижно, и она тихонько гладила меня по волосам. А я испытывал огромное облегчение. Выговорился. Избавился от половины тяжести. И теперь отдыхал, прижав лицо к ее гладкому загорелому колену. Гром грохотал почти непрерывно, и разговаривать было трудно, да, в общем-то, мне и не хотелось больше разговаривать.
Потом она сказала:
– Димка. Ты только не должен на меня оборачиваться. Ты должен так решать, как будто меня нет. Потому что я все равно буду с тобой всегда. Что бы ты ни решил.
Я крепче прижался к ней. Собственно, я знал, что она так скажет, и толку от этих ее слов, собственно, никакого не было, но все равно я был ей благодарен.
– Ты меня прости, – продолжала она, помолчав, – но в голове у меня это никак не укладывается... Нет, я верю тебе, верю... только как-то уж очень страшно все это получается... Может быть, все-таки какое-то другое объяснение поискать... более... ну, что ли... попроще что-нибудь, попонятнее...
– Мы искали, – сказал я.
– Нет, я, наверное, не то говорю... Вечеровский, конечно, прав... Не в том прав, что это... как он говорит... Гомеостатическая Вселенная... он в том прав, что дело-то не в этом. Действительно, какая разница? Если Вселенная, то нужно сдаваться, а если пришельцы, то нужно бороться? В общем, ты меня не слушай. Это я просто так говорю... от обалдения...
Она зябко передернулась. Я приподнялся, втиснулся рядом с ней в кресло и обнял ее. Сейчас мне хотелось только одного – на разные лады повторять, как мне страшно. Как мне страшно за себя, как мне страшно за нее, как мне страшно за нас обоих вместе... Но это, конечно, было бессмысленно и даже, наверное, жестоко.
Мне казалось, что, если бы ее не было на свете, я бы точно знал, как мне поступить. Но она была. И я знал, что она гордится мною, всегда гордилась. Я ведь человек довольно скучный и не слишком-то удачливый, однако гордиться можно и мною тоже. Я был когда-то хорошим спортсменом, всегда умел работать, голова у меня варит, и в обсерватории я на хорошем счету, и в дружеских компаниях я на хорошем счету, умею веселиться, умею острить, спорить умею... И она всем этим гордилась. Пусть немножко, но все-таки гордилась. Я же видел, как она смотрит на меня иногда... Просто не знаю, как бы она в действительности отнеслась к моему превращению в медузу. Наверное, я и любить-то не смогу ее по-настоящему, даже на это не буду способен...
И, словно в ответ на мои мысли, она вдруг сказала, оживившись:
– А помнишь, мы когда-то с тобой радовались, что все экзамены теперь позади и ничего сдавать больше не придется до самой смерти? Оказывается, не все. Оказывается, остается еще один.
– Да, – сказал я, а сам подумал: только это такой экзамен, что никто не знает, пятерку лучше получить или двойку. И вообще неизвестно, за что здесь ставят пятерку, а за что – двойку.
– Димка, – прошептала она, повернув ко мне лицо. – А ведь, наверное, ты действительно какую-то великую штуку выдумал, если они так за тебя взялись... На самом-то деле тебе гордиться надо... и вообще всем вам... Ведь сама госпожа Вселенная на вас внимание обратила!
– Гм... – сказал я, а сам подумал: Вайнгартену с Губарем гордиться уже вообще нечем, а что касается меня, то это дело пока под большим вопросом.
И опять-таки, словно подслушав мои мысли, она произнесла:
– И совсем неважно, какое решение ты примешь. Важно, что ты оказался способен на такое открытие... Ты мне хоть расскажешь, о чем там речь? Или это тоже нельзя?
– Не знаю, – сказал я, а сам подумал: что же это она – утешает меня, или действительно так думает, или сама, бедняжка, напугана до того, что подталкивает меня на капитуляцию, или просто золотит пилюлю, которую мне – она уже это знает – придется проглотить? Или, может быть, наоборот, толкает меня на драку, дотлевающую гордость мою ворошит...
– Свиньи они, – сказала она тихо. – Только им все равно нас не разлучить. Правда? У них это не получится. Верно, Димка?
– Конечно, – сказал я, а сам подумал: об этом и речь, маленькая. Сейчас – только об этом.
Гроза уходила. Туча, неторопливо свертываясь, уплывала на север, открывая затянутое серой мглой небо, с которого лился уже не ливень, а сыпал мелкий серенький дождик.
– Дождик я привезла, – сказала Ирка. – А я-то думала, мы с тобой в Солнечное закатимся в субботу...
– До субботы еще далеко, – сказал я. – Может, и закатимся...
Все было сказано. Теперь надо было говорить о Солнечном, о книжных полках для Бобки, о стиральной машине, которая опять сдохла. Обо всем этом мы и поговорили. И была иллюзия обычного вечера, и чтобы продлить и усилить эту иллюзию, было решено выпить чайку. Была вскрыта свежая пачка цейлонского, заварочный чайник тщательнейше, по науке, прополоснут горячей водой, на стол водружена торжественно коробка «Пиковой дамы», и потом мы оба стояли над чайником и внимательно следили за водой, чтобы не пропустить момент ключевого кипения, и произносились традиционные шутки, и, расставляя чашки и блюдца, я тихонько взял со стола сакраментальный бланк стола заказов, и записку насчет Лидочки, и паспорт Сергеенко И. Ф., смял их и незаметно сунул в помойное ведро.
И мы прекрасно попили чайку – это был настоящий чай, «чай как напиток», – разговаривали о чем угодно, кроме самого главного, а я все думал, о чем сейчас думает Ирка, потому что у нее был такой вид, словно она уже успела забыть весь этот ужас, сказала мне все, что думает по этому поводу, и теперь с облегчением забыла, снова оставив меня один на один с моим выбором.
Потом она сказала, что будет сейчас гладить и чтобы я при этом сидел рядом и рассказывал ей про что-нибудь веселое. И я стал убирать посуду, и в это время раздался звонок в дверь.
Негромко напевая: «Лучше гор могут быть только горы...» – я направился в прихожую, бросив один только косой взгляд в сторону Ирки (она совершенно спокойно вытирала стол сухой чистой тряпкой). Уже поворачивая замок, я вспомнил о своем молотке, но мне показалось смешным и неловким возвращаться за ним в большую комнату, и я распахнул дверь.
Высокий, совсем молодой парень в мокром плаще и с мокрыми светлыми волосами равнодушно объявил: «Телеграмма, прошу расписаться...» Я взял у него огрызок карандаша и, приложив квитанцию к стене, написал дату и время по его подсказке, затем расписался, вернул карандаш и квитанцию, поблагодарил и закрыл дверь. Я знал, что ничего хорошего ждать нельзя. Тут же в прихожей, под яркой пятисотсвечовой лампой, я развернул телеграмму и прочитал ее.
Телеграмма была от тещи. «ВЫЛЕТАЕМ С БОБКОЙ ЗАВТРА ВСТРЕЧАЙТЕ РЕЙС 425 БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛУЮ МАМА». И ниже была приклеена полоска: «ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ТАК». Я прочитал телеграмму и перечитал ее, затем очень медленно сложил ее вчетверо, погасил свет и пошел по коридору. Ирка уже ждала меня, прижавшись спиной к двери в ванную. Я протянул ей телеграмму, сказал: «Мама с Бобкой приезжают завтра...» – и направился прямо к своему столу. На моих черновиках все еще валялся Лидочкин лифчик. Я аккуратно переложил его на подоконник, собрал листки, разложил их по порядку и сунул в общую тетрадь. Затем я достал новенькую папку для бумаг, вложил туда все, завязал тесемки и, не присаживаясь, написал на обложке чертежным шрифтом «Д. Малянов. К вопросу о взаимодействии звезд с диффузной материей в Галактике». Перечитал, подумал и густо зачеркнул «Д. Малянов». Потом я взял папку под мышку и пошел вон. Ирка все стояла у двери в ванную, прижав телеграмму к груди. Когда я проходил мимо нее, она сделала слабое движение рукой, то ли пытаясь задержать меня, то ли благословить. Я сказал не глядя: «Я к Вечеровскому. Скоро вернусь».
По лестнице я поднимался неторопливо, ступенька за ступенькой, то и дело поправляя папку, съезжавшую у меня из-под мышки. Свет на лестнице почему-то не включили, было сумрачно, и стояла тишина, слышно было только, как плещет вода, стекающая с крыши за открытыми окнами. На площадке шестого этажа, где в нише у мусоропровода целовались давеча те двое, я остановился и посмотрел вниз, во двор. Огромное дерево влажно поблескивало черной листвой, и двор был пуст, и блестели рябые от дождя лужи.
Я никого не встретил на лестнице, только между седьмым и восьмым этажами сидел, скорчившись на ступеньках, какой-то маленький жалкий человечек, положивши рядом с собою серую старомодную шляпу. Я осторожно обошел его и стал подниматься дальше, и вдруг он сказал:
– Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич...
Я остановился и посмотрел на него. Это был Глухов.
– Не ходите туда сейчас, – повторил он. – Не надо.
Он встал, подобрал свою шляпу, с трудом распрямился, держась за поясницу, и я увидел, что лицо у него вымазано чем-то черным – то ли грязью, то ли сажей, – смешные очки перекошены, а маленький рот плотно сжат, словно он терпит сильную боль. Он поправил очки и сказал, едва шевеля губами:
– Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции.
Я молчал. Он слабо похлопал шляпой по колену, словно отряхивая пыль, затем принялся чистить ее рукавом. Он тоже молчал, но не уходил. Я ждал, что он еще скажет.
– Понимаете, – проговорил он наконец, – капитулировать всегда неприятно. В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать. Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боялись проговориться под пытками, а просто было стыдно.
– В нашем веке это тоже случалось, – сказал я. – И не так уж редко.
– Да, конечно, – легко согласился он. – Конечно. Ведь человеку очень неприятно осознать, что он совсем не такой, каким всегда раньше себе казался. Он все хочет оставаться таким, каким был всю жизнь, а это невозможно, если капитулируешь. Вот ему и приходится... И все равно разница есть. В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими – перед обществом, перед друзьями... А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой. Понимаете, в наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится. Наверное, это так и есть. Не знаю, в чем здесь дело. Не знаю, что произошло... Может быть, потому что мир стал сложнее? Может быть, потому что теперь, кроме таких понятий, как гордость, честь, существует еще множество других вещей, которые могут служить для самоутверждения...
Он выжидательно посмотрел на меня, и я пожал плечами и сказал:
– Не знаю. Может быть.
– Я тоже не знаю, – сказал он. – Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени думаю об этом, только об этом, сколько убедительных доводов перебрал... Вот уж и успокоишься вроде бы, и убедишь себя, и вдруг заноет... Конечно, двадцатый век, девятнадцатый век – разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты о них уже забыл вовсе, а потом переменится погода, они и заноют. Уж так-то всегда было, во все века.
– Я понимаю, – сказал я. – Я все это понимаю. Но ведь есть раны и раны. Иногда чужие раны больнее...
– Ради бога! – прошептал он. – Я ведь совсем не к тому... Я бы никогда не осмелился. Я просто так говорю. Ни в коем случае не подумайте, что я вас отговариваю, что я вам что-то советую... где уж мне... Вы знаете, я все думаю... вот такие, как мы, – что это такое? То ли мы действительно так хорошо воспитаны временем, страной, то ли мы, наоборот, – атавизм, троглодиты? Почему мы так мучаемся? Я не могу разобраться.
Я молчал. Он вялым, расслабленным движением нахлобучил свою смешную шляпу и сказал:
– Ну что ж, прощайте, Дмитрий Алексеевич. Мы, наверное, никогда больше с вами не увидимся, но все равно было очень приятно с вами познакомиться. И чай вы отлично умеете заваривать...
Он покивал мне и стал спускаться по лестнице.
– Вы ведь можете лифт вызвать, – сказал я ему в спину.
Он не обернулся и не ответил. Я стоял и слушал, как он шаркает по ступенькам, спускаясь все ниже и ниже, слушал до тех пор, пока глубоко внизу не заскрипела, распахиваясь, дверь. Затем дверь бухнула, и снова стало тихо.
Я поправил папку под мышкой, миновал последнюю площадку и, придерживаясь за перила, одолел последний пролет. У дверей Вечеровского я постоял, прислушиваясь. Кто-то там был. Бубнили голоса. Незнакомые. Наверное, надо было бы вернуться и прийти попозже, но у меня не было сил на это. Надо было кончать. И кончать немедленно.
Я надавил звонок. Голоса продолжали бубнить. Я подождал, снова надавил звонок и не отпускал кнопку до тех пор, пока не послышались шаги и голос Вечеровского спросил:
– Кто там?
Почему-то я даже не удивился, хотя Вечеровский сроду открывал дверь всем на свете, ни о чем не спрашивая. Как я. Как все мои знакомые.
– Это я. Открой.
– Подожди, – отозвался он, и на некоторое время наступила тишина.
Теперь уже и голосов не было слышно, только далеко внизу кто-то грохотал люком мусоропровода. Я вспомнил, что Глухов сказал мне не ходить сюда сейчас. «Не ходите туда, Уормолд. Вас хотят отравить». Откуда это? Что-то страшно знакомое... Ладно, бог с ним. А идти мне больше некуда. И некогда. За дверью снова послышались шаги, щелкнул замок, и дверь распахнулась.
Я невольно отшатнулся и отступил на шаг. Такого Вечеровского я еще не видел никогда.
– Заходи, – сказал он хрипло и посторонился, давая мне дорогу...»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
21. «...Ты все-таки принес, – сказал Вечеровский.
– Бобка, – сказал я и положил свою папку на край стола.
Он кивнул и грязной рукой размазал сажу на грязной щеке.
– Я этого ждал, – сказал он. – Правда, не так быстро.
– Кто у тебя? – спросил я, понизив голос.
– Никого, – ответил он. – Нас двое. Мы и Вселенная. – Он посмотрел на свои грязные ладони и поморщился. – Извини, я все-таки умоюсь...
Он ушел, а я присел на ручку кресла и огляделся. У комнаты был такой вид, словно здесь взорвался картуз черного пороха. Пятна черной копоти на стенах. Тоненькие ниточки копоти, плавающие в воздухе. И какой-то желтый неприятный налет на потолке. И неприятный химический запах, кислый и едкий. Паркет изуродован обугленными вдавлинами странной округлой формы. И огромная обугленная вдавлина на подоконнике, словно на нем разводили костер. Да, здорово Вечеровскому досталось.
Я посмотрел на стол. Стол был завален. Посередине была раскрыта одна из огромных редакторских папок Вайнгартена, а другая лежала сбоку с завязанными тесемками. И еще лежала старомодная, сильно потертая папка с крышкой под мрамор, с ярлыком, на котором было напечатано на машинке: «США – ЯПОНИЯ. Культурное воздействие. Материалы». И были разбросаны листки, изрисованные какими-то, как я понял, электронными схемами, и на одном было написано корявым старушечьим почерком: «Губарь З. З.», а ниже – печатными буквами: «Феддинги». А с краю лежала моя новенькая белая папка. Я взял ее и положил себе на колени.
Вода в ванной перестала шуметь, и немного погодя Вечеровский позвал:
– Дима, иди сюда. Кофе будем пить.
Однако, когда я пришел на кухню, никакого кофе там не было, а стояли посередине стола бутылка коньяка и два бокала уникальной формы. Вечеровский успел не только умыться, но и переодеться. Изящный пиджак свой с огромной прожженной дырой под нагрудным карманом и кремовые брюки, измазанные копотью, он сменил на мягкий замшевый домашний костюм. Без галстука. Отмытое лицо его было необычайно бледным, отчего четче обычного проступали многочисленные веснушки, прядь мокрых рыжих волос свисала на огромный шишковатый лоб. И было в его лице еще что-то непривычное, кроме этой бледности. И только приглядевшись, я понял, что брови и ресницы у него сильны опалены. Да, Вечеровскому досталось основательно.
– Для успокоения нервов, – сказал он, разливая коньяк. – Прозит!
Это был «Ахтамар», очень редкий в наших широтах армянский коньяк с легендой. Я отпил глоток и просмаковал. Прекрасный коньяк. Я отпил еще глоток.
– Спасибо, Дима, – сказал Вечеровский.
– За что? – спросил я.
– Ты не задаешь вопросов, – сказал Вечеровский, глядя на меня сквозь бокал. – Это, наверное, трудно. Или нет?
– Нет, – сказал я. – У меня нет никаких вопросов. Ни к кому. – Я поставил локоть на свою белую папку. – Ответ – есть. Да и то один-единственный... Слушай, ведь они тебя убьют.
Привычно задрав опаленные брови, он отпил из бокала.
– Не думаю. Промахнутся.
– Торопиться им некуда. В конце концов попадут.
– А ля гер ком а ля гер, – возразил он и поднялся. – Ну вот. Теперь, когда нервы успокоены, мы можем выпить кофе и все обсудить.
Я смотрел ему в сутулую спину, как он, шевеля лопатками, ловко орудует своими кофейными причиндалами.
– Мне нечего обсуждать, – сказал я. – У меня – Бобка.
И эти мои собственные слова вдруг словно включили во мне что-то. С того момента, как я прочитал телеграмму, все мысли и чувства были у меня как бы анестезированы, а сейчас вдруг разом разморозились, заработали вовсю – вернулись ужас, стыд, отчаяние, ощущение бессилия, и я с невыносимой ясностью осознал, что вот именно с этого мгновения между мною и Вечеровским навсегда пролегла дымно-огненная непереходимая черта, у которой я остановился на всю жизнь, а Вечеровский пошел дальше, и теперь он пойдет сквозь разрывы, пыль и грязь неведомых мне боев, скроется в ядовито-алом зареве, и мы с ним будем едва здороваться, встретившись случайно на лестнице... А я останусь по сю сторону черты вместе с Вайнгартеном, с Захаром, с Глуховым – попивать чаек, или пивко, или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах и перемещениях, копить деньжата на «Запорожец» и тоскливо и скучно корпеть над чем-то там плановым... Да и Вайнгартена с Захаром я никогда больше не увижу. Нам нечего будет сказать друг другу, неловко будет встречаться, тошно будет глядеть друг на друга и придется покупать водку или портвейн, чтобы скрыть неловкость, чтобы не так тошнило... Конечно, останется у меня Ирка, и Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить. Потому что теперь у меня не будет права хотеть. Потому что он больше никогда не сможет мной гордиться. Потому что я буду тем самым папой, который «тоже когда-то мог сделать большое открытие, но ради тебя...». Да будь она проклята, та минута, когда всплыли в моей дурацкой башке эти проклятые М-полости!
Вечеровский поставил передо мной чашечку с кофе, а сам уселся напротив и точным изящным движением опрокинул в свой кофе остаток коньяка из бокала.
– Я собираюсь уехать отсюда, – сказал он. – Из института, скорее всего, уйду. Заберусь куда-нибудь подальше, на Памир. Я знаю, там нужны метеорологи на осенне-зимний период.
– А что ты понимаешь в метеорологии? – спросил я тупо, а сам подумал: от ЭТОГО ты ни на каком Памире не укроешься, тебя и на Памире отыщут.
– Дурацкое дело не хитрое, – возразил Вечеровский. – Там никакой особой квалификации не требуется.
– Ну и глупо, – сказал я.
– Что именно? – осведомился Вечеровский.
– Глупая затея, – сказал я. Я не глядел на него. – Кому какая будет польза, если ты из большого математика превратишься в обыкновенного дежурного? Думаешь, они тебя там не найдут? Найдут как миленького!
– А что ты предлагаешь? – спросил Вечеровский.
– Выброси все это в мусоропровод, – тяжело ворочая языком, сказал я. – И вайнгартеновскую ревертазу, и весь этот «культурный обмен», и это... – Я толкнул к нему свою папку по гладкой поверхности стола. – Все выброси и занимайся своим делом!
Вечеровский молча смотрел на меня сквозь мощные окуляры, помаргивая опаленными ресницами, затем надвинул на глаза остатки бровей – уставился в свою чашечку.
– Ты же уникальный специалист, – сказал я. – Ты же первый в Европе.
Вечеровский молчал.
– У тебя есть твоя работа! – заорал я, чувствуя, что у меня что-то сжимается в горле. – Работай! Работай, черт тебя подери! Зачем тебе понадобилось связываться с нами?
Вечеровский длинно и громко вздохнул, повернулся ко мне боком и оперся спиной и затылком о стену.
– Значит, ты так и не понял... – проговорил он медленно, и в голосе его звучало необычайное и совершенно неуместное самодовольство и удовлетворение. – Моя работа... – Он, не поворачивая головы, покосился в мою сторону рыжим глазом. – За мою работу они меня лупят почем зря уже вторую неделю. Вы здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, котики-песики. Все-таки я умею владеть собой, а?
– Провались ты, – сказал я и поднялся, чтобы уйти.
– Сядь! – сказал он строго, и я сел.
– Налей в кофе коньяк, – сказал он, и я налил.
– Пей, – сказал он, и я осушил чашечку, не чувствуя никакого вкуса.
– Пижон, – сказал я. – Есть в тебе что-то от Вайнгартена.
– Есть, – согласился он. – И не только от Вайнгартена. От тебя, от Захара, от Глухова... Больше всего – от Глухова. – Он осторожно налил себе еще кофе. – Больше всего – от Глухова, – повторил он. – Жажда спокойной жизни, жажда безответственности... Станем травой и кустами, станем водой и цветами... Я тебя, вероятно, раздражаю?
– Да, – сказал я.
Он кивнул.
– Это естественно. Но тут ничего не поделаешь. Я хочу все-таки объяснить тебе, что происходит. Ты, кажется, вообразил, что я собираюсь с голыми руками идти против танка. Ничего подобного. Мы имеем дело с законом природы. Воевать против законов природы – глупо. А капитулировать перед законом природы – стыдно. В конечном счете – тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Вот единственно возможный подход. Этим я и собираюсь заняться.
– Не понимаю, – сказал я.
– Сейчас поймешь. До нас этот закон не проявлялся никак. Точнее, мы ничего об этом не слыхали. Хотя, может быть, не случайно Ньютон впал в толкование Апокалипсиса, а Архимеда зарубил пьяный солдат... Но это, разумеется, домыслы... Беда в том, что этот закон проявляется единственным образом – через невыносимое давление. Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни. Но тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь. В конце концов, это не так уж уникально в истории науки. Примерно то же самое было с изучением радиоактивности, грозовых разрядов, с учением о множественности обитаемых миров... Может быть, со временем мы научимся отводить это давление в безопасные области, а может быть, даже использовать в своих целях... Но сейчас ничего не поделаешь, приходится рисковать – опять же не в первый и не в последний раз в истории науки. Я хотел бы, чтобы ты это понял: что, по сути, ничего принципиально нового и необычайного в этой ситуации нет.
– Зачем мне это понимать? – спросил я угрюмо.
– Не знаю. Может быть, тебе станет легче. И потом, я еще хотел бы, чтобы ты понял: это не на один день и даже не на один год. Я думаю, даже не на одно столетие. Торопиться некуда. – Он усмехнулся. – Впереди еще миллиард лет. Но начинать можно и нужно уже сейчас. А тебе... ну что ж, что ж, тебе придется подождать. Пока Бобка перестанет быть ребенком. Пока ты привыкнешь к этой идее. Десять лет, двадцать лет – роли не играет.
– Еще как играет, – сказал я, чувствуя на лице своем отвратительную кривую усмешку. – Через десять лет я стану ни на что не годен. А через двадцать лет мне будет на все наплевать.
Он ничего не сказал, пожал плечами и принялся набивать трубку. Мы молчали. Да, конечно, он хотел мне помочь. Нарисовать какую-то перспективу, доказать, что я не такой уж трус, а он – никакой не герой. Что мы просто два ученых и нам предложена тема, только по объективным обстоятельствам он может сейчас заняться этой темой, а я – нет. Но легче мне не стало. Потому что он уедет на Памир и будет там возиться с вайнгартеновской ревертазой, с Захаровыми феддингами, со своей заумной математикой и со всем прочим, а в него будут лупить шаровыми молниями, насылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов, в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце концов они таки ухайдакают его там. Или не ухайдакают. И может быть, он установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток... А может быть, вообще ничего этого не будет, а будет он тихо корпеть над нашими каракулями и искать, где, в какой точке пересекаются выводы из теории М-полостей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию, и это, наверное, будет очень странная точка пересечения, и вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению ею... А я останусь дома, встречу завтра Бобку с тещей, и мы все вместе пойдем покупать книжные полки.








