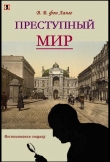Текст книги "Среди убийц и грабителей"
Автор книги: Аркадий Кошко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
КРАЖА В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ
Эта дерзкая кража произошла весной, в 1910 г.
Среди сладкого сна, часа этак в 4 утра, я был разбужен телефоном.
Дежурный чиновник мне сообщил об известии, только что переданном ему квартальным надзирателем из Кремля. Сообщение было весьма тревожное, а именно: часовой, дежуривший у кремлевской стены, близ Успенского собора, услышал звон разбиваемого стекла и в одном из окон собора заметил силуэт человека, по которому и выстрелил, но, видимо, безрезультатно. Духовные власти уже оповещены и сейчас приступят к открытию и осмотру собора.
Я в минуту оделся и на автомобиле помчался в Кремль. К собору я успел как раз к открытию дверей. С несколькими чинами полиции вошел я в храм и, приступив сначала к беглому, поверхностному осмотру, обнаружил сразу кощунственное злодеяние: слева от царских врат на солее, вплотную к иконостасу, находилась икона Владимирской Божьей Матери в огромном киоте, вернее божнице. Божница эта была в сажень высотой, аршина полтора шириной, с дверцей, и видом своим походила несколько на шкаф. Икона Владимирской Божьей Матери была древней святыней Руси и любимейшей царской семьи, так как иконой этой был благословен на царство первый из дома Романовых – царь Михаил Федорович. Золотая риза образа была богато изукрашена драгоценными камнями, но особую стоимость представлял собою огромный квадратный изумруд, величиной чуть ли не со спичечную коробку, зеленевший среди сверкающих бриллиантов.
При осмотре иконы оказалось, что камни эти вместе с кусками золотой ризы были грубо вырезаны каким-то острым инструментом и исчезли бесследно. Живопись самой иконы не была повреждена. На дне киота виднелись золотые обрезки и пыль, тут же валялся окурок.
Вор, видимо, свершал свое дело в самой божнице, прикрыв за собой дверцу для уменьшения шума.
Едва я кончил этот осмотр, как храм стал наполняться представителями властей предержащих. Кого-кого тут только не было: и градоначальник, и прокурор, и митрополит Владимир, и представитель дворцового ведомства, и проч., и проч. Такой необычайный интерес к случившемуся объяснялся, конечно, не только размером и дерзостью кражи, но также и живой заинтересованностью в происшедшем государя императора и всей царской семьи.
Я решил приступить к тщательному осмотру собора, дабы точно установить, не скрылся ли преступник или не скрыл ли он награбленного в самом храме. Так как Успенский собор велик, то мне пришлось вытребовать до пятидесяти агентов и, во главе со следователем по особо важным делам К., приступить к обследованию.
Осмотр этот оказался нелегким и занял весь день. Трон Бориса Годунова, гробницы патриархов, купол, крыша, равно как и самые потаенные уголки собора, были нами обследованы, но, увы, безрезультатно.
Особенно много времени занял иконостас, строго говоря, не иконостас, а та сплошная масса икон, что тянется во много рядов вдоль южных и северных стен собора. Иконы эти прочно скреплены друг с другом и стоят сплошными щитами, причем между задними сторонами икон и стенами храма находится пустое пространство, с пол-аршина шириною. Пространство это внизу шире, так как перед нижними иконами проходит сплошная полка, или, скорее, широкая и высокая ступень, высотою, примерно, в аршин и шириною – вершков в десять. Все это пустое пространство сверху донизу и вдоль всех стен было тщательно обшарено нами с помощью длинных шестов, но тщетно.
На правом подоконнике узкого окна, расположенного над иконами, а следовательно, на значительной высоте от пола, были обнаружены следы потревоженной вековой пыли, но весьма неясные и мало говорящие.
Стекло левого окна было разбито, несмотря на полувершковую толщину. Окно это, впрочем, как и все окна собора, было до того длинно, но узко, что напоминало собой скорее бойницу, и вряд ли человек мог из него вылезти. Однако, для большей достоверности, я отправил самого тощего и маленького агента, с чисто детским телосложением, для осмотра его, и оказалось, что и его комплекция вдвое шире окна.
Вечером, к концу осмотра, в храм приехал опять митрополит Владимир и, обратясь к следователю К., спросил: кончен ли осмотр и может ли храм быть открыт для обычных богослужений? К., не спрося моего мнения, ответил Владыке утвердительно, заявив, что грабитель, конечно, выбрался из храма. Я был решительно обратного мнения.
Ведь раз из окон вылезти нельзя, двери же храма с момента выстрела часового по силуэту в окно и до нашего прибытия не расставались со своими пудовыми замками и засовами, следовательно, вор должен находиться в храме и надлежит поставить засаду. Эти соображения я высказал Высокопреосвященнейшему и категорически просил на время отменить богослужения, в противном случае я снимал с себя ответственность за исход дела. Мои настояния возымели действие, и митрополит хотя и неохотно, но согласился их уважить.
В Петербург были посланы тотчас же телеграммы о случившейся краже, и вскоре был получен ответ от министра внутренних Дел, что государь император приказывает приложить все силы и средства как к разысканию похищенного, так и к обнаружению виновного.
Итак, я оставил в соборе засаду из двух надзирателей и двух городовых.
Прошла ночь – ничего. Прошел день – тоже. Прошла еще бесплодная ночь, и митрополит Владимир прислал мне сказать, что храм необходимо открыть. Я воспротивился, и он уступил. Прошли еще сутки безрезультатно, и Высокопреосвященнейший возобновил свои настояния. С огромным трудом мне удалось выпросить у Владыки еще сутки, по прошествии которых он решительно потребовал снятия засады, причем мне вежливо было дано понять, что, в сущности, не я, а следователь К. руководит следствием и находит со своей стороны засаду излишней. Кое-как мне удалось выпросить у Владыки еще несколько часов.
Тяжелые минуты настали для меня. Неужели же дело, волнующее самого императора, приковавшее к себе внимание обеих столиц, будет мною провалено? Обыски, организованные на Хитровке, Сухаревке и прочих обычных местах сбыта краденого, не дали также ничего. Допрос профессиональных, зарегистрированных воров не был успешнее. А тут как на грех случилось за эти же дни два крупных происшествия: это убийство 9 человек на Ипатьевском переулке и получение 300 000 рублей по подложной ассигновке из губернского казначейства, что, конечно, дробило силы сыскной полиции.
Мрачно сидел я в своем кабинете. Служебное самолюбие страдало.
Встревоженное воображение рисовало самые безотрадные перспективы.
Вяло зазвонил телефон, и я неохотно взял трубку:
– Кто говорит?
– Это вы, господин начальник?
– Я, конечно, я, Боже мой!… – был мой раздраженный ответ.
Это звонил надзиратель, стоявший на наружной охране собора, и сообщал, что в соборе слышна стрельба. Я пулей полетел в Кремль, пригласив с собою и своего помощника В. Е. Андреева. В дверях храма нас встретил один из дежуривших в нем надзирателей, Михайлов, расторопный и довольно интеллигентный малый.
– Ну, что у вас, Михайлов?
– Да все слава Богу, вор пойман.
– А что означает ваша стрельба, неужели оказал сопротивление.
– Какое там, господин начальник, он с голодухи чуть жив.
– Почему же вы стреляли?
Михайлов конфузливо помялся и спросил:
– Прикажете рассказать подробно?
– Говорите.
– Видите ли, господин начальник, сменили мы наших ночных товарищей, и те тут же, под троном царя Бориса, завалились спать.
Они спят, а мы с Дементьевым караулим. Как приказано, сидим смирно, не разговариваем. Кругом мертвая тишина. Спокойно смотрят на нас лики святых угодников, да где-то вдалеке мерцает синий огонек неугасимой лампады. Лишь изредка нарушит тишину треск сухого дерева, да заскребет иной раз мышь у свечного ящика.
Сидим мы и молчим, а в голове проносится былая жизнь на Руси, протекшая в этом храме. Сидишь под троном Годунова да думаешь: неужели было время, что царь Борис восседал именно здесь, на этом самом месте, над твоей головой? Или представишь себе те десятки тысяч отпеваний, что пропеты были здесь за минувшие столетия. Смотришь на царское и патриаршее место, и мерещатся тебе то Грозный-царь, то Никон-патриарх, и жутко становится как-то на душе. Сижу я это да поглядываю на своего соседа, а у того на лице те же чувства написаны.
В таком напряжении прошел час-другой, как вдруг ясно послышался стук, и еще, и еще. Мы встрепенулись, растолкали спящих товарищей и вчетвером принялись слушать. Непонятный шум продолжался: не то кто-то скребет, не то бьет в стену. Смотрим кругом, а никого не видно, и понять не можем, откуда эти звуки. А они все сильнее и сильнее. Я перекрестился, Дементьев стал шептать молитву. Мы прижались друг к другу и впились в иконостас глазами. Но вдруг случилось нечто ужасное: с самого верхнего ряда икон сорвался образ и с грохотом упал на плиты каменного пола.
От этого грохота пошел гул по всему собору и замер где-то в куполе. Шум временно затих, и наступила гробовая тишина. Наши сердца стучат, горло сжимается, во рту пересохло. Как вдруг на том месте, откуда упала икона, появилось нечто. Что это было – разобрать мы не могли, но нечто ужасное, какой-то серый ком, по форме вроде человека, но без глаз, носа, рта и ушей. Мы дико вскрикнули и, не целясь, открыли беспорядочную стрельбу из маузеров по страшному призраку. При первом же выстреле он, цепляясь и хватаясь за иконы, соскользнул на пол и на нем растянулся. Тут мы только разглядели, что перед нами человек.
Наши пули его не задели, да только грех большой приключился: одна пуля пробила икону святителя Пантелеймона. Но тут мы упавшего схватили, а вы и подъехали.
Войдя в самый храм, я отправился к вору. Вид его меня поразил: поистине, он походил скорее на призрака, чем на живого человека. Его голова, лицо, руки, платье были окутаны толстым, пушистым слоем вековой пыли. Этот «некто в сером» едва держался на ногах и производил самое жалкое впечатление.
Весть о поимке вора-святотатца быстро разнеслась по Москве, и толпы народа, горя жаждой мщения, хлынули к собору, желая самосудно разделаться с дерзким осквернителем святыни. Об этом донесли мне мои люди, уверяя, что вывести вора из собора главным выходом, через гудящую толпу, немыслимо, он неизбежно будет разорван негодующим народом. Поколебавшись, я решил вместе с В. Е. Андреевым вывести вора из храма задним ходом, через Тайницкие ворота и увезти его на извозчике, а не на автомобиле, что k дожидался нас со стороны Кремлевской площади. Этот маневр удался, и преступник благополучно был нами доставлен на Малый Гнездниковский переулок.
Здесь я тотчас же велел принести белье и платье моего старшего сына. Вора вымыли и переодели. Он назвался Сергеем Семиным, по ремеслу – ювелирным учеником.
– Что, Сережка, есть хочешь?
Он вместо ответа задрожал от одного представления об еде и принялся глотать слюни.
Из ближайшего ресторана ему были принесены две порции щей, две отбивные котлеты и огромная булка.
Мне впервые в жизни пришлось воочию наблюдать процесс насыщения поистине голодного человека. Он с жадностью глотал щи, запихивал в рот невероятные куски мяса, рвал хлеб и минут через пять уничтожил все без остатка.
– Хочешь еще?
– Да, если будет ваша милость!
– А не помрешь ли с голодухи-то сразу?
– Ничего-с, в лучшем виде-с съедим-с!
Ему принесли еще котлету и хлеба.
– Ну, а теперь, Сережка, попьем чайку?
– С превеликим удовольствием, господин начальник!
Нам принесли чаю, и я с ним выпил стаканчик.
Между тем за это время ко мне в управление пожаловали московские власти, желающие взглянуть на редкую птицу. Каждый из них подавал мне советы, какие меры и способы применить при допросе. Через градоначальника, генерала Андреянова, мне удалось, наконец, их вежливо сплавить. Но лишь представитель прокуратуры, товарищ прокурора В. В. Ш., настоял на своем присутствии при допросе.
– Ну, Сережка, поел-попил, а теперь поговорим о деле. Где камни?
– Да я передал их Мишке, с Хитрова рынка.
– Ну и дрянь же ты, Сережка. Вот ваш брат про сыскную полицию брешет небылицы: и пытают, и бьют будто бы вас. А ты видишь, как тебя приняли в сыскной полиции? Одели, накормили, напоили, а ты за это в благодарность врешь, как дурак. Ну и свинья же ты!
Сережка потупил голову, подумал, посмотрел исподлобья на В. В. Ш. и, обратясь ко мне, спросил:
– А кто они будут? – и он кивнул в сторону Ш.
– Это товарищ прокурора.
– Господин начальник, – неуверенно сказал Сережка, – позвольте им выйти вон.
Я смущенно повернулся к Ш. Он поспешно и утвердительно закивал головой и, с натянутой улыбкой подобрав портфель, вышел из кабинета.
Сережка облегченно вздохнул и принялся рассказывать. Оказалось, что все эти трое с лишним суток Семин скрывался за иконами.
Когда мы обшаривали шестами пустое пространство, то его не нащупали лишь потому, что ему удалось забиться в нижнюю выступающую часть сплошной иконной стены, так сказать, под ступеньку или полку, о которой я уже говорил. Шест, опускаемый сверху, доходил до полу, но, конечно, не мог проникнуть круто в сторону и зацепить укрывавшегося.
Семин в своей засаде пережил муки голода и жажды, так как за все время он съел лишь одну просфору и выпил бутылку кагору, найденные им в алтаре. Пытаясь выбраться, он полез наверх по иконной стене и случайно выдавил икону, падением своим столь напугавшую моих агентов.
План действий у Семина был заранее выработан и состоял в том, чтобы, по совершении кражи, спрятать в надежном, заранее облюбованном месте драгоценности и выбраться, разбив окно, наружу.
За похищенным же он намеревался явиться через месяц другой, словом, тогда, когда горячка уляжется. Все, очевидно, так бы и произошло, если бы законы перспективы не обманули Семина.
Вырабатывая план и осматривая будущее поле действия, он ошибся в размерах окна и, глядя снизу, нашел его достаточно широким, выполняя же преступление и разбив стекло, он тщетно пытался просунуть в окно голову и пролезть: окно оказалось чересчур узким.
Просвистевшая над головой пуля часового оповестила его о тревоге, и он кинулся искать убежища. Спустившись с разбитого левого окна, Семин принялся бегать по собору, и, увидав толстый шнур вентилятора, висящий у правого окна, он быстро поднялся по нему, влез на окно, а затем порешил, наконец, спуститься за иконную стену на пол. Отсюда и следы потревоженной пыли на правом окне.
– Куда же ты спрятал вещи?
– Да там же, в соборе, в одной из гробниц.
– Что ты врешь! Мы все гробницы осмотрели.
– Да вам не найти: так ловко запрятано! Видали вы две гробницы рядом под общим мраморным чехлом? Промеж них в мраморе у самого пола большая как бы отдушина, так, с пол-аршина шириной.
Вот ежели на животе в нее залезть, то очутишься между двумя металлическими гробами; затем, перевернувшись на спину и подняв правую руку, нужно запустить ее на правый же гроб; там, между ним и мраморным чехлом, – пустота. Тут-то и положены мною снятые драгоценности, завернутые в пиджак. Разве вы не приметили, господин начальник, что меня взяли без пиджака?
– А не врешь ли ты, Сережка? Как же это мои люди не достали их?
– Да, окромя меня, никому и не достать! Нужно умеючи.
– Ну, вот что, Сережка! Едем в собор, ты и достанешь.
Хотя я и боялся использовать его услуги, так как мало ли что, он мог еще там удавиться, но решил рискнуть. Однако все обошлось благополучно, и Сережка добыл вещи.
Я обратился к прокурору, прося вместо К. назначить другого следователя для избежания каких-либо трений со мной в дальнейшем течение следствия. Просьбу мою прокурор уважил, и был назначен следователь Головня. Лишь только вещи были найдены, начались поздравления и приветствия со всех сторон. Митрополит Владимир, лично приезжавший благодарить меня, чувствовал себя сконфуженным и горячо извинялся за свои сомнения в моих розыскных способностях. Из кусков стекла разбитого соборного окна я приказал сделать овальные стеклышки, прикрывающие крошечные фотографии Успенского собора, и в виде брелков подарил их на память каждому участвовавшему в раскрытии этого дела, причем и следователь К. не был мною забыт.
Вскоре ко мне явилась делегация от церковных властей и поднесла благословенную митрополитом Владимиром копию иконы Владимирской Божьей Матери, в кованой, серебряной ризе, с соответствующей надписью. Эта икона была передана мною моему сыну-стрелку и погибла в Царском Селе при разгроме большевиками его квартиры.
На суде, приговорившем Семина к восьми годам каторжных работ, защитник его пел долгие дифирамбы по адресу Московской сыскной полиции, указывая на вздорность слухов о жестоком якобы обращении в ней с преступниками, ставя ее на один уровень с европейскими полициями, (чем я, впрочем, был не особенно польщен).
Сам подсудимый в последнем слове, ему предоставленном, кратко заявил:
– Одно могу сказать, господа правосудие, что ежели бы не господин Кошкин, то не видать бы вам бруллиантов!…
И эти слова были для меня, конечно, лучшей наградой.
УБИЙСТВО В ИПАТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ
В дни нашумевшего дела о краже в Успенском соборе в Москве произошло другое событие, глубоко взволновавшее население Первопрестольной.
Сыскная полиция была извещена об убийстве 9 человек в Ипатьевском переулке.
Переулок этот представляет собой узкий, вымощенный крупным булыжником проезд, с лепящимися друг к другу домами и домишками, и ничем особым не отличается.
В одном из полуразрушившихся от ветхости домов, давно предназначенном на слом, в единственной относительно уцелевшей в нем квартире ютилась рабочая семья, состоящая из 9 человек. Четыре взрослых приказчика и пять мальчиков составляли эту семейную артель. Все они были родом из одной деревни Рязанской губернии, и работали в Москве все сообща на мануфактурной фабрике.
Злодейство было обнаружено после того, как жертвы не явились на работу. Встревоженная администрация предприятия в то же утро послала одного из своих служащих справиться о причине этой массовой неявки, и последний, войдя в злополучную квартиру, был потрясен видом крови, просочившейся из-под дверей ее комнат и застывшей бурыми змейками в прихожей. На его зов никто не откликнулся. В доме царила могильная тишина. Администрация нас тотчас же известила, и я лично немедленно направился в Ипатьевский переулок.
Старый, облезлый дом, с побитыми окнами, с покоробленной крышей, с покосившимися дверями и покривившимися лестницами, напоминал заброшенный улей. Никто, разумеется, не охранял этой руины. Ни дворников, ни швейцара в нем, конечно, не было. Поднявшись во второй этаж, я приоткрыл дверь единственной квартиры, еще недавно населенной людьми, а ныне ставшей кладбищем. Спертый, тяжелый дух ударил мне в нос: какой-то сложный запах бойни, мертвецкой и трактира. Волна воздуха, ворвавшаяся со мной, уныло заколебала густую паутину, фестонами висящую по углам комнаты. Это была, видимо, прихожая.
Открыв правую дверь и осторожно шагая по липкому, сплошь залитому застывшей кровью полу, я увидел две убогие кроватки, составлявшие единственную обстановку этой комнаты.
На них лежало два мальчика, один – лет 12, другой – лет 14 на вид. Дети казались мирно спящими, и, если бы не восковая бледность их лиц да не огромные, зияющие раны на их темени, – ничто бы не говорило об отнятой у них жизни. Та же картина была в левой от прихожей комнате, с той лишь разницей, что вместо двух там спали вечным сном три мальчика, того же, примерно, возраста. В соседней с нею комнате, с той же раной, лежал на постели взрослый человек, очевидно, приказчик.
Из прихожей прямо вел коридор в две смежные комнаты – первую большую, а за ней маленькую. В большой лежало два взрослых трупа. Из маленькой до моего приезда был увезен в больницу пострадавший, подававший еще некоторые признаки жизни. Посреди задней большой комнаты стоял круглый стол, на нем недопитые бутылки водки и пива, а рядом с ними вырванный листок из записной книжки, и на нем ломаным почерком было нацарапано карандашом:
«Ванька и Колька, мы вас любили, мы вас и убили».
Поражало обилие крови, буквально наводнившей всю квартиру.
Не только пол был ею залит, но подтеки и следы ее виднелись повсюду: и на стенах, и на окнах, и на дверях, и на печках.
Осмотр помещения привел к обнаружению в печке кучи золы, в которой оказался полуистлевший воротник от сгоревшей мужской рубашки, а из самых глубин печки была извлечена десятифунтовая штанга с отпиленным вместе с шаром концом. Этой своего рода булавой, видимо, и орудовали преступники, проламывая черепа своих жертв.
Имевшиеся в квартире сундучки, – обычная принадлежность простого рабочего человека, хранящая обыкновенно его незатейливый скарб, – были взломаны и говорили о грабеже.
Чувствовалось, что записка с дикой надписью не есть тот конец, ухватясь за который удастся распутать кровавый клубок. Несомненно, это была лишь наивная попытка направить розыск по ложному пути. Я говорю, – наивная, так как для чего же было убийцам оповещать уже мертвых любовников о своем авторстве?
Для чего было рисковать и оставлять чуть ли не визитные карточки?
Наконец, представлялось маловероятным, чтобы две женщины могли запросто осилить и убить 9 человек.
Как я говорил уже выше, дом был необитаем, следовательно, не у кого было справиться ни о жизни, ни о привычках убитых.
Не представлялось возможным выяснить, хотя бы даже приблизительно, обстановку не только в день убийства, но и за неделю, за месяц до него.
Прежде всего я обратился в лечебницу, куда был перевезен оставшийся в живых приказчик. Но он оказался при смерти, в полном забытьи, и лишь бессвязно бредил. Я просил медицинский персонал внимательно следить за его бредом. Но результат от этого получился ничтожный и довольно странный: мне сообщили, что среди бессвязного лепета раненый часто и отчетливо повторяет слово:
«Европа».
– Почему «Европа»? Почему эта часть света так полюбилась вдруг этому несчастному, в лучшем случае, только грамотному человеку?
Но через неделю и он умер, а с его смертью еще больше потускнела и надежда добиться истины.
Одновременно я обратился и в мануфактурное предприятие, где навел подробные справки о покойных служащих. Там я получил хотя и туманные, но все же кой-какие указания, а именно: некоторые из товарищей скончавшегося в лечебнице приказчика мельком слышали, что покойный намеревался открыть в сообществе с каким-то земляком какое-то торговое предприятие.
Так как земляка этого никто никогда не видел, то разыскать его представлялось далеко не легким делом. Между тем земляк этот представлялся мне если не ключом к загадке, то, во всяком случае, единственным имеющимся шансом к ее растолкованию.
Следовательно, он должен был быть разыскан. Я послал агента в Рязанскую губернию, чтобы составить в волостном правлении точный список всех крестьян волости, к которой принадлежал покойный, проживавших за последний год в Москве. Их набралось до 300. Я разбил Москву на участки, и десятки моих агентов принялись порайонно допрашивать всех помещенных в списке рязанцев. Их подробно расспрашивали о жизни и работе в Москве, будто ненароком справляясь и об убитом земляке. Конечно, предпринятая работа могла оказаться стрельбой по воробьям из пушки, но иного способа у меня не было и волей-неволей я остановился на этом.
Неделя прошла, не дав ничего. Как вдруг на второй неделе, при опросе рязанцев, проживавших в Марьиной роще, выяснилось, что одна из чайных этой части города была недавно продана старым владельцем, – рязанским крестьянином, Михаилом Лягушкиным, – новому, причем чайная эта носила громкое название «Европа».
Европа – это было уже ценное указание, принимая во внимание бред умершего приказчика.
Я принялся за поиски Михаила Лягушкина. В районе Марьиной рощи его знали почти все и в один голос говорили, что, продав чайную, он уехал на родину, в деревню. Но агент, снова посланный в Рязанскую губернию, выяснил, что Лягушкин туда не появлялся.
Однако недели через две по Марьиной роще, где продолжали дежурить мои люди, пронесся слух, что Лягушкин приобрел трактир в Филях и, отремонтировав его, открыл под той же вывеской – «Европа». Это подтвердилось, и Лягушкин в Филях был немедленно арестован и привезен в сыскную полицию. Он оказался крошечным человечком с птичьей физиономией и с черными, бегающими глазками.
Конечно, вину свою он упорно отрицал. Обыск в Филях ничего не дал, но детальный осмотр его белья, платья и обуви лишь усилил мои подозрения, так как в рубце между заготовкой и подошвой сапога были обнаружены следы старой, запекшейся крови. Присутствие ее Лягушкин объяснил своими нередкими посещениями бойни. Между тем химический и микроскопический анализы показали, что кровь человеческая. Полуистлевший воротник рубашки, найденный в печке, несмотря на свой крохотный, чисто детский размер, приходился Лягушкину впору.
Наконец, сравнение почерков хитроумной записки и торговых книг трактира «Европа» подтвердило их тождество. Но несмотря на эти улики, Лягушкин продолжал все отрицать.
Потребовав точного отчета об его местожительстве со дня убийства до дня открытия трактира в Филях, мы получили адреса трех углов, последовательно им перемененных за этот промежуток времени.
Сделав в них обыски, мы ничего не нашли. Однако в первой квартире хозяйка указала, что, до того как поселиться у нее, Лягушкин жил месяца три напротив, у сапожника, снимая там комнатку.
Сделали обыск и у сапожника.
Здесь мы обрели ценную находку.
В чуланчике, примыкавшем к комнатушке, некогда занимаемой Лягушкиным, была найдена отпиленная короткая часть штанги с шаром, которой недоставало у орудия преступника, обнаруженного в печке, на месте убийства.
Под тяжестью этой новой неопровержимой улики преступник, наконец, сознался.
Оказалось, что убитый приказчик давно уже решил купить у него чайную «Европа», в Марьиной роще, и в день смерти взял 5000 рублей, накопленные за долгую службу, намереваясь на следующий же день свершить купчую. Вечером к нему зашел Лягушкин, не раз навещавший его за эти месяцы.
Сделку заблаговременно «вспрыснули», и Лягушкин угостил, кстати, и проживавших в той же комнате двух других приказчиков.
В этот вечер он не раз бегал в соседний трактир за «подкреплением».
Наконец, когда хозяева отяжелели от вина, он распрощался и ушел, но… через час вернулся, прошел по коридору опять в большую комнату и, подкравшись к спящим приказчикам, уложил их обоих на месте; затем в следующей комнате покончил (вернее, смертельно ранил) и покупателя. Со дна его сундука он извлек злополучные пять тысяч и намеревался скрыться, как вдруг его взяло сомнение. Я привожу дословно его дальнейшее показание:
– «Нет, Мишка, – сказал я себе, – не валяй дурака, покончи и с остальными. Ведь все они мне земляки, стало быть, и по деревне молва пойдет, да и полиции расскажут, что вот, мол, такой то вчерась водку вместях с ними пил, и будет мне крышка.
Тогда я взял свою культяпку и прошел обратно в прихожую, а из нее сначала в одну, а потом и в другие две комнаты. Жалко было пробивать детские черепочки, да что же поделаешь? Своя рубашка ближе к телу. Расходилась рука, и пошел я пощелкивать головами, что орехами, опять же вид крови распалил меня: течет она алыми, теплыми струйками по пальцам моим, и на сердце как-то щекотно и забористо стало.
Прикончив всех, я заодно перерыл сундуки, да одна дрянь оказалась.
Кстати, переодел чистую рубаху, а свою, кровавую, пожег в печке для верности; туда же и гирьку запрятал».
Жутко было слушать исповедь этого человека-зверя с таким спокойствием излагавшего историю своего кошмарного преступления.
Суд приговорил Лягушкина к бессрочной каторге.