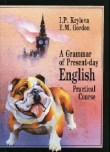Текст книги "Описание английского платья с открытой спиной"
Автор книги: Аркадий Драгомощенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Драгомощенко Аркадий
Описание английского платья с открытой спиной
Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО
ОПИСАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ПЛАТЬЯ С ОТКРЫТОЙ СПИНОЙ
Вечера по обыкновению казались ему бесконечными. Время уходило, хотя смысл этой фразы он всегда несколько недопонимал. Например, есть несколько вещей – нaходятся ли они во времени или же каждая из них его излучает. В первом случае картина напоминает некий ручей (сцена ритуала: обсидиановые ножи, старый буфет, камень, летящий в паутину стекла, первый этаж и так далее), в котором несколько камней-вещей образуют завихрения, различные уплотнения, – сохранение. Во втором все гораздо сложнее. Я знаю, что будет завтра. Это история о человеке, который однажды испугался. Он шел по улице и внезапно ощутил, как страх вошел в него через диафрагму, напоминая то, как если бы он влюбился. Смысл фразы уходил, хотя само – "исчезновение", "умаление" по обыкновению не поддавалось пониманию. Прежде всего возникало сомнение в предпосылках, в раковинах, которых было очень много вокруг, а именно, – в "возникновении" или "прибавлении", холодно переливавшихся муаром перламутра. Черные сады Тракля. В свое время, произнося какую-то фразу беспечно часто, он полагал, как теперь ему кажется, совершенно иное. Мы поворачиваемся по оси предположения. Жестикуляция. Бесконечное оказывалось вечерним обрывом световой нити, вившейся из угла глаза, или предложением, отказавшимся от подлежащего. Разрушение и восстановление равновесия – ничего более: не-письмо, которое происходит, не-речь, которая произойдет тогда, когда будет положен предел намерению создать. За этой чертой идет иной отсчет глубин реальности, невзирая на то, что подобное разграничение есть не что иное, как вспомогательная фигура риторики. Длительность измеряется скоростью прохождения тени. Красивы ли водоросли? Изменение временной модальности повествования избавляет от картезианской надменности сейчас осень, а тогда весна. Можно ли сказать, что водоросли намного красивей сухости во рту? Она входит в тень, которую отбрасывает красная кирпичная стена. Из узора трещин сочится теплая пыль, сухие мелкие листья акации, за всем этим или же во всем этом лежит тень железнодорожного состава. Мама сказала: "Тебе письмо от господина Кирико. Какое птичье, клоунское имя!" Вот, он произносит "мое детство" (вероятно есть и другое, о чем ему хотелось бы сказать...) и слышит, как шуршит в стене свет. Истины равны между собой. Из чего состоит ценность написанного? Вращение подсолнуха. Тогда и сейчас сосуществуют во времени высказывания, производящего длительность. Легкость согласной "с" не искупает запутанности в отношениях акта речи и устанавливаемого им реального. Я не знаю, что будет завтра, но я знаю вполне, чего не случилось вчера. Волка звали Эдип. Она зябко, невзирая на зной, поводит плечами. Эта пора также способствует усилению легкомыслия. Раскрытые черные зонты – указатели еще одного знойного весеннего дня: ветер нес жаркую пыль, но на кладбище благоухала неокрепшая зелень распустившихся накануне кленов и яблонь. Тело точка схода перспективы будущего и прошедшего – но является ли оно настоящим, благодаря которому возможны первое и второе? Я поворачиваю за угол и вижу раскаленную в полуденном мареве кирпичную стену. Вдали летают птицы, играя со своими текучими отражениями в воздухе. Слышишь голос? Закрой глаза, затаи дыхание и повтори фразу о птицах. Что, отвечай скорее, – что возникает в твоем воображении? Ничего. Следовательно, если фразу исключить из обихода, ничего не изменится? Ничего. Мне думается, что – да. Ничего не изменится. Ничего. Но я не хочу, чтобы это предложение меня оставило, потому как в миг его произнесения я начинаю помнить себя самого, впервые (пусть будет так) произносящего эти слова в такой очередности. В окне мерцают их следы. На столе у монитора тает след горячей чашки, действительно, я только что поднес ко рту чашку кофе. Мои прогулки удлинились, намеревается написать он в письме знакомому, имя которого нам остается неизвестным. Введение одного персонажа, потом четверых, затем следует вычитание. Но мы выбираем бумагу, касаемся острием карандаша невозмутимого поля предвосхищения. Отныне день, пишет он, будет начинаться с Петроградской стороны. Обходя Петропавловскую крепость со стороны Артиллерийского Музея, я оставляю позади – но этого еще не случилось, это покуда намерение, постепенно реализующее себя в движении мимо означенных вех и одновременного эфемерного писания "на память"; итак, позади остается мечеть, продолжал я продвижение, явственно ощущая затылком стяжение двух лазурей – купола и неба, выпуклых письмен и редких высоких облаков. Она с удивлением видит, как незнакомый человек выходит из-за угла, сменяя растровое дрожание паруса на поверхности зрачка. Их взгляды на мгновение встречаются. Сизый смерч пыли всплывает к синеве. Далее Пушкинский дом, Биржа, North Beach, Embarcadero, Николаевский мост, Telegraph Avenue, – собственно все то, что тебе и так хорошо известно. Укрупнение птичьего тела – стрижи ближе, след чашки медленно растворяется в кругах утренней прохлады. Я приду к тебе утром, я, пройдя сквозь створы архитектурных миражей, войду к тебе в комнату, отведу рукой золотую ветвь пчел, отру пот с твоего лба, наклонюсь, и никому не удастся меня оторвать, Мина, никому! – а когда наступит закат, мы двумя пригоршнями золы просыплемся на пол и станем единой протяженностью мелкого мусора и лепестков синего мака в целлулоидных сферах часов. Мелкие клочки изорванной бумаги, косой ветер в лицо, пчелы, мерный шум в ушах. Когда станешь прозрачен для самого себя. Ни одного утверждения. Беспрепятственное шествие сквозь несуществующее. Еще несколько терпеливых наслоений, и возможно будет говорить о структуре и логике его внутренних взаимоотношений. Повествовать о моих маршрутах неинтересно – какой, к примеру, смысл в том, что утром я обнаружил себя стоящим у кирпичной стены. Позади располагался холм, песок отвечал песку, и падали бесконечно долго навзничь вырезанные из зноя фигурки. Солнце не жгло, однако у меня болели глаза, будто всю ночь они наблюдали, как сворачиваются дроби ангелов, наподобие крови, пролитой на стекло. Слева я различил неяркий силуэт. Машина воображения предполагает постоянное проецирование прошлого в будущее при одновременном изменении опыта, производимого "прошлым". Последнее изменение также условно. Она стояла, вглядываясь в зыбкое сияние, играющее над асфальтом, затем обернулась. Полы ее черного, шелкового пиджака были отнесены воздухом. Лед и желтый свет, стоящий вокруг, как последние числа забытого доказательства, тлеющего лиловым в местах, где его касалось шелковое очертание. Во что она была одета, чем она была среди предметов и имен, навязывающих себя мне? Мешает свет. Диалоги. Инструкция: набрать в горсть земли, растереть ее с чемерицей, медленно высыпать под ноги, – урок слуху, капля за каплей. Намного любопытней – происходящее в моей голове. Тихая, полуденная оторопь чердаков, сирень внизу, шмели, застывшие дрожью в пионах, шелест речи непризнанной, неузнанной, неуследимой, и лица против солнца: все те же, приближаются, и в последний миг ускользают вдоль шевеления пальцев в старании объяснения, к старению вспять уходящей вести в серебряные короны листвы, и лишь быстрый нож, отраженный воспоминанием о весенней воде, бескровно разделяет потаенную тьму лета на бескорыстное прикосновение и тетиву молнии. Опрокинутый стакан, головокружение. Попробуй по-другому, найди иной подход, начни со степи. Помнится, мы закончили свой последний разговор на том, что в определенный момент человек перестает зависеть от чего бы то ни было. Что мы собой представляем, когда находимся в объятиях друг друга? Что кому принадлежит? Мы превращаемся в совладельцев одного и того же – одной кожи, одного дыхания, одних и тех же кровяных телец, лишенные воспоминаний на неизреченно краткий миг, опоясанные незримыми ураганами и песчаными смерчами. Ледяные ступени семейных альбомов. Возможно, это ожидаемо, также вероятно, что к этому мы стремимся и не исключено даже то, что такое ожидание составляет часть суммы значений, образовывающих (для кого-то извне, создающих самое "вне") нашу жизнь. Во что трудно поверить. Я и не намерен верить. С какой стати? Однако, я честен, когда пишу тебе это, поскольку ныне неукоснительно уверен в том, что любое мое слово безмысленно и существует всего-навсего как призрак, являющийся в особые мгновения сладостной слабости и определенных совпадений фаз луны, когда испарения нежно изменяют оптику круглых зеркал влажного шелеста. Я попросту жду, когда, – и это будет озарением, наградой, это будет тем неизъяснимым разрывом любви мое бессловесное тело разорвет лед, и дальше ничего не будет из того, чего бы следовало ожидать. Ранее в этом месте я часто принимался рассуждать о падении, как о резком изменении пропорций и масштабов. Но опять и опять сначала. Важны мотивы мутации. Мои ногти блестят, и каждый отражает по облаку, в каждом скрыта птица, в клюве каждой агатовая вишня. Веера сложены, но киноварь по-прежнему ищет свои сновидения на стекле. Скрип. Каждая умирающая клетка – колодец, в котором высказывание черпает целостность.
От своих желаний также. В этом случае было бы разумней говорить не об определенного толка зависимости, но об обретении довольно-таки легкого чувства внезапной непричастности. Время изменяет не только кожу на лице и на руках, но, осмелюсь сказать, и оболочку любого, облеченного порой даже в бормотание, намерения. Под чем я подразумеваю смутное тяготение к любому проявлению мира вне "меня". В моем распоряжении осталось всего несколько десятков слов. Каково будет мое повествование, когда исчезнут и эти? К тому же, то, что представлялось до некоторых пор неисчерпаемым источником обнаружения реального, идущего (хотелось думать) к тебе с разных сторон, и ожидающего соответствия твоего тела, подобно вогнутому зеркалу, изменяет собственную конфигурацию – можно сказать, превращаясь в выпуклое, рассеивающее, растрачивающее. В сквере на Стремянной он присел на скамью и зажег сигарету. Зовите меня просто Александр. Солнце несколько раз тяжело сверкнуло наверху в ветвях, упало вниз, но не достигло отсыревшей после дождей земли, а рассыпалось мокрым блеском в воздухе. "Что вам снилось, Александр?" – "Мне снилось вторжение гласных в мое имя и то, как они изменяли существо согласных." Тихие гравюры, оптика монет, сочленения легких сухих крыл. Откуда-то тянуло запахом горящей резины. В это лето дети с маниакальным постоянством жгли мусорные баки. Молодая женщина, сидевшая на другом конце скамьи, не обращаясь к нему произнесла: "Александр, попытайтесь представить, какие ощущения возникают у женщины, когда она с вами в постели, а из окна несет, вот, этой вонью..." Свет переломился по сгибу, и колесницы перемещались по небу со скоростью, отзывавшейся под кожей тягучим мятным онемением. Женщина у стены сделала шаг и приостановилась. Полдень свел лучи к переносице, словно залив крики чаек. Я вспомнил один свой сон. Сны странствовали по телу, подобно караванам, следующим в только им одним ведомые пункты назначения. Звезда пустыни и ложного удвоения переливалась на игле надира. До тех пор, пока ты не скажешь мне, почему ты вздумала у меня остаться. Убирайся. Мне кажется, что этот сон когда-то значил для меня очень многое. Однако изо всех оставшихся слов ни одно не в состоянии принять облик пусть совершенно незначительных, но для меня лично важных деталей, из которых состоит материя любого сна, и удержать их в сознании до той поры, покуда не придут иные сны, и благодаря которым мне будет легче их распознать мои они, либо принадлежат другим. Они отбрасывают тени, точно так же, как и слова, которые создаются себе подобными, с тем, чтобы порождать иные, как собаки, бегущие вдоль кирпичной стены, вывалив бархатные в стекле языки. Не забывай, что ты должен мне тридцать тысяч рублей – к моменту появления этой истории в свет "тридцать тысяч" будет означать совершенно иное "число" (меру?), нежели в момент написания этого выражения. Относится ли это к другим составляющим моего высказывания (глагола)? Книга горела невыносимо долго. Огонь укрывал своим напряженным светом – свет. Я переступлю порог твоего дома, я скажу, что мы открыли секрет исчезновения. Судороги страниц становились прозрачными западнями для мошкары. Влага сочилась из ствола вишни. Из угла рта пролился ручеек легкой крови, что на миг принесло облегчение и воспоминание о зиме. Но убирайся, ни слова, я ничего не понимаю. Ты разговариваешь с совершенно другим человеком. Вы переменились, Александр. Да. Зовите меня просто Скарданелли. Несколько мгновений тому наши тела изменились – прибавление и умаление, лишение: отказ. Судороги страниц, производящих пламя, становятся вратами запада для мотыльков. И да запишем мы это иглами нашего желания в уголках ваших глаз. У Гераклита Нарцисс изначально не может начать свое любовное расследование: кто ты, почему я тебя люблю, или же кого я так непосильно помню. Скорость вторгается очевидным искажением – отражение прекращает следовать предмету. Элементы отражения прекращают связываться между собой – элеаты входят в город.
Мне не понять почему. Иногда дожди шли очень долго, изматывающе долго. Одновременно водяная пыль, солнце, снег и туман. Заснеженные деревья горели потусторонней белизной на фоне грозового черно-фиолетового неба. Очки тотчас покрылись ледяной корой, в которой ярко зелеными и оранжевыми искрами дробился свет. Утром он поднес руку к глазам и внезапно понял всем своим рассудком, что это совершенно не та рука, которая когда-то, за порогом совершенно иного времени, сжимала тонкий прут орехового удилища (чтобы продолжить зигзагообразную мысль, прянувшую вертикально сверху в утреннюю тошноту, ничего не нашлось кроме "удилища", и даже не продолжить, не закрепить ее ощущение, ее вкус, тогда как по сути совершенно неважно, что именно сжимала рука, "тогда"), то есть ему, например, известно происхождение шрама на среднем пальце. Если прикрыть глаза, если распустить по паутинным нитям сегодняшний день, вот, можно, кажется, коснуться (чем? как?) повторить ту самую боль, когда рука соскользнула с колодезного ворота, тормозя его обжигающую кожу скорость, разворачивающую отполированное дерево в мягкий пасмурный блеск. Позволительно также коснуться губами запаха пыли, восстановить на миг темные вечерние очертания вещей в отдаленьи; но что останется спустя мгновение? То, что это, стало ему известно – остается недосказанным, впрочем, толкования случившегося отличаются друг от друга. Повелительное наклонение. К концу письма он упомянул о женщине и горящих колесах, отложил перо, откинулся на спинку стула и усмехнулся (снял с клавиатуры руки, вышел из программы, забрал почту, пробежал глазами несколько статей, напоминание приятеля из Австралии о сроках подачи материала на теле-конференцию, а на обратном пути "заехал" в забаву, изменил стратегию развития инфраструктуры провинции, сплел достаточно продуманную интригу с продажей сырья, вмешался во вторичный рынок, а затем навестил Мину). Потом вспомнил, как несколько месяцев назад на занятиях незнакомый студент спросил его о том, что он думает об истине. Вопрос не застал его врасплох, он действительно стал задумываться над тем, что это такое, и каким образом такое слово возникает среди других, требуя некоего пространства среди понятий и значений, прочно освоивших механику собственных чередований. Кончился июль. Разберем к примеру обстоятельства нескольких смертей.
Я попытаюсь изложить материал как можно проще и доступней. Ниже станет понятней, почему я обращаюсь к этой теме, которая мне самому кажется случайной, ни к чему не обязывающей. Случаев смерти – четыре. Три полных смерти и одна до сих пор пока не исполненная. Настоящее время предложения останется настоящим, навсегда вписывающим себя в чье-то небытие. В стечении обстоятельств, случившихся в один день, – в итоге мы правомочны говорить о времени решения, и только, – залегает тревожащая загадка, в которой не достает слишком многого, чтобы из фрагментов очевидного возможно было сложить нечто успокоительновразумительное, и которая к тому же исчезает – стоит лишь сфокусировать на ней внимание. Сейчас об этом пишется сценарий и вскоре возможно будет поставлен фильм. В качестве предпосылок имеется пустыня Анзо Боррега (северная оконечность Соноры), небольшой город Беркли, Калледж Авеню, далее – угол, на котором находится дом Боба Бьюклера, частного детектива, осененный тюльпанной магнолией. В часе езды на Сан-Рафаель имеется также тюрьма штата Санта Квентин. В наличии действующие лица, список которых впоследствии претерпел некоторые изменения: четверо молодых людей, решившие в один прекрасный день снять фильм о том, как однажды в пустыне (Анзо Боррега), терпит аварию автомобиль, и группа молодых людей (четыре человека), отправившихся снимать фильм (о чем? – за исключением одного эпизода это остается невыясненным), оказываются в совершенном одиночестве вдали от шоссе. Погрузив на себя оборудование, они пешком отправляются к ближайшему пункту рейнджеров. Таков сюжет небольшого фильма, который задумали снять четверо. Я бы сказал – начало сценария. В полдень, когда между ними вспыхивает ссора, кто-то, отвлекшись на мгновение, видит фигуру в черном на вершине пологого холма, который им нужно пересечь. В руках у фигуры в черном – ружье. Кто-то из группы, прикрывая глаза рукой от слепящего света, произносит – "Я знаю, кто это... Это смерть". Какой пол у смерти? Одушевленное ли это существительное? Существительное ли это, или же глагол? Возможно, смерть – это теорема, которая рано или поздно доказывает самое себя перед черной доской с мелом в руках. Каждый волен дописать свои диалоги.
Мне неизвестно ни продолжение задуманной ими истории, ни ее окончание. Однако, насколько я понимаю, молодым людям идея такого фильма кажется будоражащей, и они назначают день и время экспедиции. Между тем, им не известно (как впрочем и мне), что в этом же городе живет еще один молодой человек "X". Репутация его сомнительна. Родом он из Южной Калифорнии. Он любит свою Хонду и марихуану. Два отчетливо тяготеющих к овулярности согласных обретают образ туго заплетенной индейской косы. Однажды ему приходит в голову мысль посетить Сан Диего и заодно пустыню, где во время учебы в Ла Хойе они с друзьями проводили замечательные дни. "X" предлагает приятелю присоединиться. Приятель не исполняет никакой функции в повествовании – жизнь есть жизнь.
В это же время у Боба Бьюклера висят на шее два дела – одно достаточно простое, однако благодаря которому у него не прибавляется друзей среди полицейских штата (превышение полномочий при преследовании – два расстрелянных мексиканских подростка, уличенных в краже радиоприемника), а второе... как бы на самом деле действительно странное: м– р "Y" приглашает к себе на ужин двух подруг, любовником одной из которых является уже несколько лет. После ужина, шампанского и десерта он их убивает из Барреты. М-р "Y" приговаривается к смертной казни и ожидает ее в тюрьме Санта Квентин. Боб Бьюклер физически не справляется с делами. Он звонит Лин Хеджинян и просит ее на какое-то время стать его помощницей по второму делу. Ей предстоит опросить широкий круг знакомых убитых женщин. После ее первой встречи вечером того же дня я получаю письмо по e-mail, в котором она делится со мной своими мрачными ощущениями. Все молчат. М-р "Y" также хранит безразличное молчание. Постепенно этот случай рассеивается, уходит на задний план, а я становлюсь свидетелем того, как разворачивается, назовем ее так для удобства, наша кино– история.
Любитель марихуаны с приятелем добираются до Сан Диего, а затем не спеша едут по направлению в Тихуан. По пути они все же решают навестить места воспоминаний. В пустыне ломается Хонда. Они оставляют мотоцикл, спальные мешки, палатку, воду. Берут только бутылку с текилой, остатки травы, карабин и бредут к ближайшему кемпингу. Через некоторое время, когда они поворачивают за холм, их глазам открывается фигура в черном, неподвижно стоящая на склоне с ружьем, перекинутым через руку. Ветер развевает складки не то пончо, не то плаща. Поля шляпы закрывают лицо. Солнце падает вертикально.
В купоросном небе над Bad Land видны медленные точки орлов. Завидя фигуру на холме, "X" от неожиданности спотыкается и, закашлявшись от пыли, кричит, показывая рукой на фигуру – "Motherfucker! Oh, shit, I know what a hell it is! This is Death!" С этими словами он тащит из-за спины свой карабин и стреляет по фигуре. На выстрелы и на дикий крик своего приятеля из-за холма выбегают остальные члены съемочной группы. "X" продолжает стрелять. Спустя полчаса, в кемпинге он пытается рассказать что-то рейнджерам. Он просит пить. Ему дают воды. Он просит еще. Из слов почти невменяемого от текилы и марихуаны человека (куда делся приятель – неведомо, канва сюжета начинает расползаться), окружающие узнают, что буквально в двух шагах этот измученный пылью и жаждой человек почти в упор расстрелял смерть. Однако теологический оттенок случившегося оказывается очень нестойким и вопреки ожиданию не перерастает в отдельную тему, чему отчасти виной изнуряющая жара и неподготовленность окружающих. И так далее. Милая Елена, я подхожу к окончанию описания твоего изумительного английского платья, но прежде, чем завершить его, я хочу спросить – не столько, быть может, тебя... неужто изумление единым, восхищенье целокупностью, которые пророчит нам в молодости мир, оказывается гримасой в захватанном зеркале бритвы, в жале своем хранящей мед разделенности, блаженного бреда, в тигле которого так и не обретают окончательных очертаний ни воспоминания, ни упования? Но я спрашиваю об этом лишь для того, чтобы еще раз услышать, как быстро тает в моих ушах эхо этой фразы, чей смысл мне уже не вполне понятен.