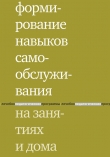Текст книги "Формирование"
Автор книги: Аркадий Драгомощенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Драгомощенко Аркадий
Формирование
Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО
ФОРМИРОВАНИЕ
Мне хотелось на этот раз быть конкретным и немногословным. Задача состояла в том, чтобы ничего никому не рассказывать. Чтобы по возможности не писать ни о чем том, что смогло бы посеять в ком-либо нечто даже отдаленно напоминающее сомнение. Поэтому начало предлагало себя в любом упоминании события, не посягающего... больше того, противостоящего достоверности. Веер диких перемен в замерзшем небе лагуны рассветал изображениями редких звезд. Но дать этим знать, что история творится в косвенном потоке. "Летящий пух от губ". Однако скважины немы, и воздух застыл. Меня интересует, почему или чем живы в сознании читающего или слушающего те либо иные сочетания слов. Почему: "звезды, вода, нежная кожа плеча, пламень глаз" и так далее вызывают по крайней мере у меня самого, читающего – ощущения несравнимо более приятные, нежели: "испражнения, гниющие зубы, немытое тело, идиотизм, разложение"? Огромная звезда, одна из тех, что появляются на склоне века, раскаляла туман низин тяжелым и душным огнем. Побережье стлалось под ноги вязким настом мокрого песка. Острова уходили вдоль незримой линии, которую привычно проводил к горизонту разум. Многие об эту пору увлекалось сказочной фантастикой – неземные создания опускались на невиданных летательных аппаратах и спасали достойных спасения. Демоны наблюдали происходящее с невозмутимыми лицами. По-видимому, они ожидали другого. Мы не знали другого. По истечении времени слово "освобождение" стало, по свидетельствам многих, означать различные вещи: утром, в дождь, оно несло смысл неприятной встречи с человеком в зеленых одеждах; зимним же погожим утром оно становилось белой карточкой со сделанной на ней твердой рукой надписью: "во время глубокого сна, когда все растворяется, окутанный мраком, он является в образе радости". Не исключено, что существовала черта, определявшая начало иной реальности, о которой себе никто не отдавал отчета.
Мне хотелось бы рассказать все это вам, с кем мы не так давно беседовали о скорости усложнения понятия материи и о голоде, который, мне казалось, – является не чем иным, как подобием зеркала титанов, стирающего лишние связи в перемещеньях незримого. Где же таится дитя? Вначале об утре, застигшем меня в небольшом городке вблизи северной границы. В руках я держал сияющую белую карточку тисненого картона, на которой вместо моего имени и адреса была разлита притягательная пустота (о, я знаю, насколько очаровывает она вас...). Я осознавал это, как явные признаки изменения порядка вещей, некое отрадное отклонение. Вследствие чего мне должно было заполнить ее обычным стихотворением, посвященным прощанию с местностью, которую я покидал неуклонно, входя в незнакомые пределы. Это был приказ. Подчиняясь ему, я вознамерился написать: "На тонкой черте, тающей небесным бессильем несосчитанных планет, или во мнимом пространстве рассудка встречаетесь вы, дуновения, не облеченные ни в забвенье, ни в образы. Стекла осколок, хрустнувший под ногами, освещает мне этот вечер". Но передумал, потому что вечер был далеко, под стать ближайшему предгорью, и помимо того, написанное было бы сочтено неправдой, что могло бы в дальнейшем квалифицироваться как должностное преступление, влекущее за собой медленное срезание кожи полуденными раковинами в прозрачных садах соли.
Улицы города были пусты, если не считать немногочисленных прохожих, занятых сложными танцующими исчислениями. Их губы безустанно шевелились, будто мозг их пропускал сквозь себя не числа, но имена Бога. "Это и есть имена", – произнес один и повел ладонью перед своими глазами. Его голубой румянец был нежен, как июньские ирисы, зрачки светлы и расширены. Воздух позади него был неспокоен – плечи дымились инеем. Они собирали картофель в полях. "Поля бесконечны", – сказал он. – Душа бесследно теряется в безграничных картофельных полях и хранилищах слов".
Мне хотелось бы рассказать вам не только о летающих серебряных иглах, впивавшихся с тонким пением в гортани повешенных женщин, чья нагота вовсе не смущала детей, пытливо глядевших снизу на них, покачивавших в такт им, покачивающимся на ветру, сожженными летними упражнениями головами. Не было никого, кто бы мог всецело принять музыку. Я был один, и солнце подымалось там, где положено. Телефонный разговор, о котором я упоминал вам, не полагал началом ровным счетом ничего – в силу некоторых условий он окончил одну мою не слишком длинную и совсем не утомительную мысль, которой я, если удастся, с вами поделюсь позже. Но не теперь. Рощи. Я на самом деле не понимаю, зачем думать о них, зачем это слово широкой тенью и покоем застит иные понятия и значения? Время еще не настало. Больше никого. Человек, позвонивший мне, говорил о еде. Он был, насколько я понимаю, поэтом, потому что безо всякого усилия сравнил еду с хрустальной призмой, рассеивающей монотонный луч удовлетворения простой потребности в радугу наслаждения, что мне лично кажется безусловно претенциозным. И, тем не менее, им долго не удавалось меня схватить, словно я был частью реальности. Немудрено. Смерть, шедшая со мной по глиняной дороге, иногда невольно накрывала меня своим плащом, который с исподу переливался слабыми, дымными многоугольниками звезд, напоминавшими ледяное небо лагуны в пятнадцатый день января, а также игру, которую недавно привез из Гонконга приятель. Сильный южный ветер дул нам в лицо. Я сказал, когда на мгновение меня прижало к ее боку: "Так, как же быть? Мне снился наш прежний дом, которого нет в помине. Мне снилось, что я подхожу к нему с улицы и вижу – у крыльца новые тесовые столбы, а во дворе там и сям разбросаны полки для цветов, тоже новые, и повсюду пахнет свежей стружкой. Утром я понял, что в эту ночь умерла моя мать. Но она позвонила днем и сказала, что неожиданно выздоровела..."
Розы ветров, вращаясь с низким гулом, раскрывали усеянные зрачками лепестки. Мы шли, и ее веер, который она несла перед собой раскрытым, с тем чтобы никто из встречных не глянул ей в глаза, напоминал брызнувший в стороны пук бритв, источавших силу беззвучия и неукротимости. Комья замерзшей земли ранили мои босые ноги, но раны не причиняли ни страдания, ни беспокойства. Я больше не подходил к телефонному аппарату, хорошо понимая, что мне следует продолжить монолог голоса о еде, потому что именно так и тогда я ничего не расскажу – это останется в вашей памяти простым изложением общеизвестных фактов. Вы не станете отрицать, что живете недалеко от площади, и из вашего окна открывается вид на крыши "пяти углов"... В тот вечер, я поднялся к вам совершенно измученный городской духотой. Мне хотелось плакать. На работе меня в тот день узнавали с трудом, а когда узнавали, то принимались безудержно смеяться. Над чем? Никто никому ничего не объяснял. Лето не было благоприятно. В юго-восточных районах города уже с неделю властвовала холера. Туда все чаще ездили в закрытых стеклянных шарабанах: смотреть. Карантин распространялся не на всех, – только уж совсем бедные не имели возможности позволить себе несколько часов созерцания и печали. Картофель стал еще дороже. Это слово было в ходу. Некоторые вспоминали прочитанное. Карты у цыганок Московского вокзала проросли безвольно свисающими странно-алыми линиями, издали напоминавшими стебли кувшинок, хотя те, бесспорно, потемней и потаенней. Те, кто не мог приобрести место в стеклянном шарабане, любовались разбитыми машинами на Английской набережной в закат. Там когда-то жил Евгений Рухин. Он сгорел заживо. И все же бамбуковые ширмы снов с прекрасными изображениями треугольников и птиц выставлялись на всеобщее обозрение к четырем часам дня на Фонтанке. Мне все больше нравилось проводить время на работе. Однажды я обнаружил, что не хочу возвращаться домой. Я сложил все свои деньги, а их было немало, в несколько штабелей у окна, поудобней прилег около них и стал отрешенно рассматривать, как бледнеет свет на потолке, на стенах, как там начинают плескаться отсветы воды. Я думал о любви. Мне хотелось понять, как я ее понимаю. Месяц до этого, приятель, возвратившийся из далекого путешествия, принес мне сандаловую свечу и новую игру – на темном экране монитора загорались пульсирующие цветные точки, похожие на те, что в Windows. Нужно было глазами сплести из них некий особенный узор памяти и познания. Если же этот узор совпадал с заданным условием, то есть, с ритмом "реальности" (я не знаю, зачем эти кавычки...), игравший терял сознание или, точнее, терялся в нем. Из его рта вырывался сноп огня (хотя мне кажется это было что-то на подобие внушения, гипноза, с чем тоже нужно будет еще хорошенько разобраться), который спустя несколько минут расслаивался на три фигуры, с каждой из которых происходил краткий, но обстоятельный разговор, воспоминание о чем, естественно, никоим образом не сохранялось. Кажется, у одной из них была голова Ибиса. Вторая напоминала рыбу, играющую в прозрачном зимнем водопаде. Третья состояла из вишни и облака смутного беспокойства, которое нужно было преодолеть, повторяя несколько раз кряду (не очень громко) фразу из "Исследования о растениях" Теофраста: "Он укрепляет и голос".
Над зеркальными кровлями висел сокол. Чешуя второго и седьмого солнца отливала пурпуром, растекавшимся в круг оцепенения каскадом лившихся отражений. В ваших глазах темнела река, виденная мною однажды в горах, где я вкусил сока, который течет только тогда, когда светло, когда камыш равен блеску, изначально равному самому себе. Вы говорили, что необходимо ясное намерение доказательства чего бы то ни было. Вы говорили, что даже сюжет со смертью на нечистом тротуаре, который в ту пору занимал меня как возможность проникновения в закономерность городского исчезновения и различения между анонимностью и автономностью, требует безукоризненных предпосылок и иного описания, постольку поскольку эстетика происходит от греческого "чувствовать", и на том, кто решился прибегнуть к именно такого рода познанию, лежит серьезная ответственность. Если мир безумен, отвечал я, следовательно перед тобой открываются две возможности: либо покончить с собой... "Нет, три!" поправили меня вы. Я продолжал – либо согласиться, что безумия как такового не существует. "А как же страх?" – спросили вы. Наверное, вы правы, но покуда в своем рассуждении мы не дошли до страха. Признать отсутствие безумия означает признать безумным себя, чему противится воля, как выигрышу, навязанному неумелым партнером. От первого, т. е. от самоубийства, удерживает безразличие. Остается только знать это. "И это немало..." – устало сказали вы. Да, это изматывает, сказал я, потому что полагает неустанное знать. Стоит лишь обернуться, нагнуться, чтобы шнурок завязать или же сьездить на пикник в холерный район, как получаешься вне "знать", – любая добродетель, любая вера – только охотники, ожидающие твоего самообнаружения. "Но знать и есть в какой-то мере обнаружение, изведение из отрицания?.. Я особенно не задумывалась, но так на первый взгляд мне кажется", сказали вы. Я посмотрел в окно и сказал: "Знать извне невозможно. Любой странствующий учитель несет предчувствие этого в себе. Можно только сознать, можно только сознавая это сознание не обнаруживаться, то есть, быть в том, что противоречит понятию бытия, "объективно определенного в каждом отношении". Здесь очень трудно говорить о сокрытости – любое упоминание о ней неминуемо приводит к обнаружению, к игре внутреннего и внешнего. К некоему вымогательству". Знойный туман стоял над крышами. Мне показалась необыкновенно прелестной внезапная складка, скользнувшая к углу вашего рта. Возникали новые тени, и в них блуждали другие измерения. Об этом, как и о многом другом я вспоминал, вступая на ледяные мостовые некоего северного города, думая о вас и о вашей привязанности к Александру Готлибу Баумгартену. На что нужно немалое мужество. Я хотел сказать – отвага. Тончайшие градации кислого, орошаемые невнятной сладостью... терпкость и горечь, пряди неожиданной пресности, без следа исчезающие в пульсирующих решетках специй, этих абстрактных величин кулинарии гарам масал, базилик, тмин. Я открывал ваши ладони и медленно сыпал на них из стеклянного кувшина золотистую пыль куркумы, растирая затем, втирая потом ее в вашу кожу, – волосы откликались ей своим зыбким цветом, – тогда как дремота приближалась к вашим очам, и беспокойство, по обыкновению охватывавшее в этот час сокола, нескончаемо падавшего в свое отражение, неизвестно как передавалось вам, уходившей из моих рук дрожью, напоминавшей осенние кустарники кизила. Я подымал ваши руки и прижимался приоткрытым ртом к вашим подмышкам – язык встречал вожделенный вкус пота, обоняние узнавало его терпкий морской дух водоросли на угасающих камнях, красное солнце в молоке заката, мириады кипящих мух, разбитые, как следы Медеи, черные мидии – руки опускались, а вслед им опускался я, вначале по пути восхождения голоса из времен, но вниз, к его едва бьющейся поросли, не отрываясь лицом от груди, слизывая капли, выступавшие на коже, краешком глаза схватывая дугу овала и сразу же темный ореол соска, чтобы еще через несколько мгновений, связав все ваши запахи в единое желание, выплеснуть их, выпить, опустошить, чтобы снова – ждать в пожирающем ожидании, изобличающем все, из чего мы состоим. Изреченности?
Стивен Тулмин пишет о неких датах-пунктах, в которых по мере исторического развития вступают в действие (неощутимо, однако необратимо, подчеркивает он) новые факторы, влияния или идеи, результаты чего непредсказуемы. Ничего ошеломляющего в этой мысли нет. Если не предположить, что в личностном опыте или в комплексе идеологических сценариев, заключенном в опыте и постоянно его образующем наряду с другими прагматическими данными, происходит тот же процесс замещения – при котором некоторые "идеи" точно так же неощутимо и необратимо вступают во взаимодействие с иными: обычный процесс перекрестного опыления и вживления. Отношения Федорова и Соловьева до какой-то степени являются примером того, как, невзирая на желание первого и сочувственное понимание второго, а, главное, несмотря на некоторые, привлекающие внимание сегодняшних исследователей, совпадения в высказываниях, такого "вживления" не произошло. Соловьев так и не высказал публичного одобрения идее "общего дела", причем, что важно, не ввел в сферу публичности и "потребления" (обмена) ее саму, чего от него упорно добивался и напрасно ждал Федоров более, чем десять лет. С момента своего письма, где он изливает раздражение и горечь, Федоров и его идея становятся одним экзотическим целым, обретая место на полях плохо сброшюрованного манускрипта русской философии, – вплоть до момента реинкарнации в Калуге. Его маргинальность, однако, продолжает питать альтернативную мысль, поскольку сама "концепция маргинальности", как пишет в 80-х Джордж Юдис (Marginality and the Ethics of Survival) есть, собственно, "концепция, оседлавшая модернизм и постмодернизм, – она [маргинальность] является оператором во множественных утопиях и радикальных гетеротопиях, следуя логике исключения в первых и тактике необычности в последних". Исключенная (по недомыслию?) из коммунистической утопии, но неустанно привлекающая внимание своей "необычностью" в обществе распада производственных отношений, которым обернулось утопия, идея воскрешения всех мертвых отцов может рассматриваться по-разному... Ее привлекательность и очарование, повидимому, заключается в том, что она как бы напоминает, подсознательно возвращает к привычно-устойчивым принципам онтологии марксизма действительно, она как бы заменяет идею Океана, Хроноса, пожирающего и порождающего себя, охватывающего и содержащего бытие мира, отделяя его от ничто (от Хаоса, не-из-реченности). Чтобы производить этот мир, эту реальность, необходимо, по словам Маркса, "соединяться известным образом для совместной деятельности", однако философия такого общего дела, не обладая возможностью вторжения/изменения парадигмы "конца и цели", изначально обречена на нескончаемое пародирование и самоизживание. Вторжение же в пространство этих двух терминов есть вторжение в актуальную реальность субъекта, то есть, обыкновенное изменение господствующего дискурса, языка, – скорее прагматическая, чем синтаксическая операция. Ничто, хаос есть отсутствие означающего. Воскрешение (не "матерей") Отцов есть не что иное, как желание воскрешения Означающего (принадлежащего Отцу, унесшему его с собой, и вина за символическую смерть которого лежит на "нас"), тоска по утверждающему языку власти, приказа, повеления, оскопления сонмами скоплений, простирающихся до воображаемой черты последней пустыни. Можно лишь догадаться, почему именно Соловьев так и не упомянул имени автора теории "общего дела" ни в одном из своих выступлений, хотя, говорят, не раз был близок к тому.
Сухая река снится мне третье десятилетие. Я иду вниз по ее струящемуся руслу, но дельты нет, извив за извивом, петля за петлей летят передо мной, как сообщение безо всякого адреса. Аллегория, приведенная мной, удерживается лишь угадываемым сходством. Иначе, чем же нам быть или жить, говорили вы, лия отвратительное вино в чашки, стоявшие на полу, где мы, охапки жасмина в хрустальных, надщербленных, однако очень удачно расписанных масляной краской вазах, доставшихся, конечно же, по наследству вместе с бесполезными роговыми гребнями, ввергнутыми в необратимое унижение вашей надменно обритой головой. Важен процесс нескончаемого распознавания, угадывания и создания доселе не существовавшего. Пытаясь проникнуть друг в друга тайными путями, скрытыми даже от желания. Вечер вел нас по царствам смерти, вовлекая в сладостную, блаженную одурь пата/пота в путаном фарсе отождествления "ты" и "я". Рано или поздно я опишу вам все это и принесу в короткий дождливый день, исполняя вашу просьбу быть обстоятельным, конкретным и немногословным, поскольку вам хочется, чтобы ничто не было рассказано, чтобы ничто, даже отдаленно напоминающее сомнение, не могло проникнуть в чтение. Перемены не имеют знаков. И значимости, добавите вы. Остается загнивающий залив. Луна. Черные мосты. Лед на дорогах и великое между "распадом" и "пламенем глаз" равенство – некогда легким вестником богов, легким даром пепла и различения пришедшее в мир, но утраченное в первой же попытке рассказа. Не заставшее нас.
Елене Долгих