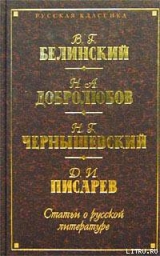
Текст книги "Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Пушкин. – Грибоедов. – Гоголь. – Лермонтов"
Автор книги: Аполлон Григорьев
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
VI
Гоголь еще только что выступил тогда на литературное поприще, и немногие понимали еще все его будущее великое значение для нашей литературы и нашей общественной жизни. Положительно можно сказать, что вполне понимавшими громадность этого тогда только что выступившего таланта были Пушкин, благословивший его, как некогда «старик Державин» благословил самого Пушкина, – Белинский и Плетнев.
«Г-н Гоголь, – говорит Белинский в тех же „Литературных мечтаниях“, – принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому неизвестны его „Вечера на хуторе близь Диканьки“? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности! Дай бог, чтобы он вполне оправдал поданные ими о себе надежды!»
Думал ли сам критик, когда писал он эти немногие, но глубоко сочувственные строки, о том, в какой мере суждено и осуществиться и потом разбиться его надеждам... Разумеется, нет. Он шел потом с Гоголем рука об руку, толкуя, поясняя его, разливая на массу свет его высоких произведений. Гоголь стал литературным верованием Белинского и целой эпохи, – и здесь место определить свойства его великой художественной натуры, до минуты ее болезненного разложения, – ибо этими свойствами определяются и степень и значение влияния его на всю последующую эпоху литературного движения.
Всякое дело получает значение по плодам его, и каков бы ни был талант поэта, одного только таланта как таланта еще недостаточно. Важное дело в поэте то, для чего у немцев существует общепонятный и общеупотребительный термин die Weltanschauung, что у нас, tant bien que mal[10]10
Худо ли, хорошо ли (фр.). – Ред.
[Закрыть], переводится миросозерцанием.
Миросозерцание, или, проще, – взгляд поэта на жизнь, не есть что-либо совершенно личное, совершенно принадлежащее самому поэту. Широта или узость миросозерцания обусловливается эпохой, страной, одним словом, временными и местными историческими обстоятельствами. Гениальная натура, при всей своей крепкой и несомненной самости или личности, является, так сказать, фокусом, отражающим крайние истинные пределы современного ей мышления, последнюю истинную степень развития общественных понятий и убеждений. Это мышление, эти общественные понятия и убеждения возводятся в ней, по слову Гоголя, в «перл создания», очищаясь от грубой примеси различных уклонений и односторонностей. Гениальная натура носит в себе как бы клад всего непеременного, что есть в стремлениях ее эпохи. Но, отражая эти стремления, она не служит им рабски, а владычествует над ними, глядя яснее многих вперед. Противоречия примиряются в ней высшими началами разума, который вместе с тем есть и бесконечная любовь.
Отношение такой гениальной натуры к окружающей ее и отражающейся в ее созданиях действительности только на первый взгляд представляется иногда враждебным. Вглядитесь глубже, и во вражде, в желчном негодовании уразумеете вы любовь, только разумную, а не слепую; за мрачным колоритом картины ясно будет сквозить для вас сияние вечного идеала, и, к изумлению вашему, нравственно выше, благороднее, чище выйдете вы из адских терзаний Отелло, из безвыходных мук морального бессилия Гамлета, – из грязной тины мелких гражданских преступлений, раскрывающейся пред вами в «Ревизоре», и пусть холод сжимал ваше сердце при чтении «Шинели», вы чувствуете, что этот холод освежил и отрезвил вас, и нет в вашем наслаждении ничего судорожного, и на душе у вас как-то торжественно. Миросозерцание поэта, невидимо присутствующее в создании, примирило вас, уяснивши вам смысл жизни. Поэтому-то создание истинного художника в высокой степени нравственно, не в том, конечно, пошлом и условном смысле, над которым поделом смеется наш век: избави вас небо от той нравственности, которая до сих пор еще готова видеть в Пушкине безнравственного поэта и в героях его уголовных преступников, которая до сих пор еще не прощает Мольеру его Тартюфа и доискивается атеизма в Шекспире. Нет, создание истинного художника нравственно в том смысле, – что оно живое создание. Оживите перед вами лица Шекспировых драм, обойдитесь с ними как с живыми личностями, призовите их вторично на суд, и вы убедитесь, что Немезида, покаравшая или помиловавшая их, полна любви и разума. Даже не нужно и убеждаться в том, что совершенно непосредственно сознается, осязательно чувствуется.
В сердце у человека лежат простые вечные истины, и по преимуществу ясны они истинно гениальной натуре. От этого и сущность миросозерцания одинакова у всех истинных представителей литературных эпох, различен только цвет. Одну и ту же глубокую, живую веру и правду, – одно и то же тонкое чувство красоты и благоговения к ней встретите вы в Шекспире, в Гоголе, в Гете и в Пушкине, – та же самая нота звучит и в напряженном пафосе Гоголя, и в мерно-ровном, блестящем течении творчества Гете, и в благоуханной простоте Пушкина, и в строго-безукоризненном величии Шекспира. Различие может быть только в степени и в цвете чувствования. Мы верим Гете, когда слышим из уст его слово его жизни, спокойное и твердое слово юноши-старца:
и понимаем, что эта великая натура, вопреки воплям Менцелей и писку разных насекомых, от сердца сказала: «О высоких мыслях и чистом сердце должны мы просить бога». Мы верим Пушкину, когда говорит он нам:
Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И знаю, будут мне минуты наслажденья
Средь горестей, забот и треволненья...
Мы, повсюду за живыми лицами Шекспировых драм, сочувствуем великой мужеской личности самого творца и внимаем разумно-любовному слову жизни; мы слышим тоску по идеале в созданиях Гоголя, все равно, с кем ни знакомит он нас, с Тарасом ли Бульбой или с Маниловым, с Акакием ли Акакиевичем или с ослепляющей, как молния, красотой Аннунциаты. И какое таинственное чутье указывает гениальной натуре пределы в создании, что охраняет ее от двух зол: от рабской копировки явлений жизни и от ходульной идеализации, что заставляет ее остановиться вовремя, что, наконец, хранит в ней самой так свято, так неприкосновенно завещанное ей ее слово жизни?.. Одна бы, кажется, недомолвка – и Акакий Акакиевич поразил бы вас не трагическим, а сентиментально-плаксивым впечатлением; еще бы одна черта – и Миньона Гете стала бы фальшивой, хотя блестящей Эсмеральдой; лишняя минута в жизни Татьяны или лишний порыв в простом рассказе о «капитанской дочке», и эти создания потеряли бы свою недосягаемую простоту; немного гуще краски в изображении Офелии или Дездемоны – и гармония, целость, полнота «Отелло» и «Гамлета» были бы нарушены!
Истинный художник сам верует в разумность создаваемой им жизни, свято дорожит правдою, и оттого мы в него веруем, и оттого в прозрачном его произведении сквозит очевидно созерцаемый им идеал: фигуры его рельефны, но не до такой степени, чтобы прыгали из рам; за ними есть еще что-то, что зовет нас к бесконечному, что их самих связывает незримою связью с бесконечным. Одним словом, как говорит Гоголь в своем глубоком по смыслу «Портрете», предметы видимого мира отразились сперва в душе самого художника – и оттуда уже вышли не мертвыми сколками с видимых явлений, а живыми, самостоятельными созданиями, в которых, как Гоголь же говорит, «просвечивает душа создавшего».
Гоголь, одна из таких предызбранных гениальных натур, пояснил нам отчасти процесс такого извнутри выходящего творчества. Вот это многознаменательное, хотя болезненное признание, подавшее повод в свое время к различным толкам. Великий художник, яснее и врагов своих и поклонников, определяет здесь и свойство и значение своего таланта, и пружины своего творчества, и, наконец, даже свою историческую задачу («Переписка с друзьями», стр. 141).
«Герои мои, – говорит Гоголь, – потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения – история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого, как писателя. Обо мне много толковали, разбирали кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого нет у других писателей».
Останавливаемся несколько здесь и заметим, что поэт напрасно боялся открыть это душевное обстоятельство. Оно, по нашему мнению, относится не к человеку Гоголю, а к художнику, в широкой натуре которого заключены и «добрая и злая». Гоголь как художник должен был быть таковым, чтобы сказать миру свое слово, и все, что говорит он о себе как о человеке, должно относить к художнику.
«Итак, вот в чем мое главное достоинство, – продолжает он, – но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною.
Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков, все равно, как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность, но зато, вместо того, во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств, но лучшее из них было желание быть лучшим. Я стал, – говорит далее поэт, – наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы точно содрогнулся».
Здесь мы оставляем нравственную, лично-человеческую сторону, забываем странное смешение признаний нравственных с эстетическими: берем эти места как материал, бросающий ясный свет на процесс художнического творчества, о чем Гоголь, разумеется, не думал в своей странной книге. Для нас – это ключ к гениальной натуре и к ее творчеству. Две черты ярко обозначаются в этом саморазложении: с одной стороны, природа многосторонняя, в которой божий мир отражается со всем разнообразием дурного и хорошего, с другой стороны, природа сосредоточенно-страстная, тонко чувствующая, болезненно-раздражительная. Эта сосредоточенная страстность, эта способность болезненно, то есть слишком чутко, отзываться на все и составляет, вместе с постоянным стремлением к идеалу, особенный цвет гоголевской гениальности. Гете спокойно, ясно отражал в себе действительность и, столько же многообразная, но сангвиническая натура, – отбрасывал ее от себя, как шелуху, высвобождаясь беспрестанно из-под ее влияния, установляя в себе одном центр. Пушкин был чистым, возвышенным и гармоническим эхом всего, все претворяя в красоту и гармонию; Шекспир постоянно носил в себе светлый характер Генриха V и, как тот из отношений с Фальстафом, – выходил цел и с ясным челом, с вечным сознанием собственных сил из мук Макбета, Отелло и Гамлета. Гоголю дано было все язвы износить на себе и следы этих язв вечно в себе оставить. Натура холерически-меланхолическая, склонная к бесконечной вдумчивости, подверженная борьбе со всеми темными началами, и между тем сама в себе носящая залог спасения, – «желание быть лучшим», стремление к идеалу, стремление, обусловленное в своей возможности той же страстностию и раздражительностию. Как до непомерно громадных размеров разрастаются в этой душе различные противоречия действительности, так отзывается же она и на красоту, истину и добро. Творец Акакия Акакиевича, с тем вместе и жарко чувствует красоту Аннунциаты, хотя, по особенному свойству таланта, не в силах создать сам живого образа красоты. В одну из страшных минут своей моральной жизни эта великая натура высказала стонами и воплями свое отношение к идеалу. «Замирает от ужаса душа, – говорит поэт, как бы пожираемый огнем той таинственной любви, которая и светит тихим светом, и жжет пламенем неугасимым, и поражает, как меч обоюдоострый, – при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений бога, перед которыми пыль все величие его творений, здесь вами зримых и вас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся».
Отношение подобной натуры к действительности, ее окружающей и ею отражаемой, выразилось опять-таки по ее же свойству в юморе, и притом в юморе страстном, гиперболическом. Историческая задача ее была: сказать, что «дрянь и тряпка стал всяк человек», «выставить пошлость пошлого человека», свести с ходуль так называемого добродетельного человека, уничтожить все фальшивое самообольщение, привести, одним словом, к полному христианскому сознанию, но спокойно, бесстрастно она сделать этого не могла. Двоякий путь предстоял художнику в обращении с этою действительностию: или дать волю собственному болезненному раздражению и негодованию, или просто списывать. Ни того, ни другого Гоголь по натуре своей сделать не мог. Не мог он холодно списывать, потому что сам на себе носил язвы, им изображаемые; не увлекся он и личною раздражительностию, потому что весь проникнут был желанием усовершенствования. Те чудовища, которые выливались, по его признанию, из-под пера его, для него были чудовищами и явились на свет божий в произведениях других, которые пошли по его пути, но не руководились его светом, явились в господине Голядкине, господине Прохарчине и других, запечатленных порою высокою даровитостию, но явно болезненных произведениях самого блестящего из представителей натуральной школы. С другой стороны, и голая копировка действительности выступила ярко во многих позднейших произведениях, как другая крайняя сторона того же Гоголя. В произведениях этих двух ветвей натуральной школы, бесспорно, высказалось много таланта, но как в болезненном до чудовищности юморе, под влиянием которого рождались различные чудовища без формы и вида, с одной громадной и вместе мелочной претензией личности, так и в дагерротипном изображении различных повседневных явлений раздвоился полный и цельный Гоголь.
VIII
Гоголь впервые выступил на литературное поприще с своими «Вечерами на хуторе близь Диканьки». Это были еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые, как украинское небо: все в них ясно и весело, самый юмор простодушен, как юмор народа; еще не слыхать того грустного смеха, который после является единственным честным лицем в произведениях Гоголя, и самое особенное свойство таланта поэта, «свойство очертить всю пошлость пошлого человека», выступает здесь еще наивно и добродушно, и легко и светло оттого на душе читателя, как светло и легко на душе самого поэта: над ним как будто еще развернулось синим шатром его родное небо, он еще вдыхает благоухание черемух своей Украйны. Здесь проявляется в особенности необычайная тонкость его поэтического чувства. Может быть, ни один писатель не одарен был таким полным, гармоническим сочувствием с природою, ни один писатель не постигал так пластической красоты, красоты полной, «существующей для всех и каждого», никто, наконец, так не полон был сознания о «прекрасном» физически и нравственно человеке, как этот писатель, призванный очертить пошлость пошлого человека, и по тому самому ни один писатель не обдает души вашей такой тяжелой грустью, как Гоголь, когда он, как беспощадный анатомик, по частям разнимает человека... В «Вечерах на хуторе» еще не видать этого беспощадного анализа; юмор еще только причудливо грациозен: в гомерическом ли изображении пьяного Каленика, отплясывающего гопака на улице в майскую ночь, в простодушном ли очерке характера Ивана Федоровича Шпоньки, в котором таится уже зерно глубокого создания характера Подколесина. В этом быте, простом и вместе поэтическом быте Украйны, поэт еще видит свою красавицу Оксану, свою Галю – чудное существо, которое спит в «божественную ночь, очаровательную ночь», спит, распустив черные косы, под украинским небом, когда на этом небе «серпом стоит месяц»; тут все еще полно таинственного обаяния: и прозрачность озера, и фантастические пляски ведьм, и лик утопленницы-панночки, запечатленный какой-то светлой грустью. А Сорочинская ярмарка с ее шумом и толкотнею, а кузнец Вакула, а исполинские образы двух братьев Kaрпатских гор, осужденных на страшную казнь за гробом, эти дантовские образы народных преданий? Все это еще то светло, то таинственно и обаятельно-чудно, как лепет ребенка, как сказки старухи няни.
Но не долго любовался поэт этим бытом, радовался беспечной радостию художника, воссоздавая этот быт. Он кончил его апотеозу эпопеею о Тарасе Бульбе и легендой о Вие, где вся природа его страны говорит с ним шелестом трав и листьев в прозрачную летнюю ночь и где между тем в тоске безысходной, в замирании сердца мчащегося с ведьмою по бесконечной степи философа Хомы Брута слышится тоска самого поэта и невольно переходит на читателя. Разделавшись навсегда с обаянием своего родного края в этой части своего «Миргорода», Гоголь уже взглянул оком аналитика на действительность: простодушно, как прежде, принялся было он чертить истинно человеческие фигуры Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны и остановился в тяжелом раздумье над страшным трагическим fatum, лежащим в самой крепости, в самой непосредственности их отношений: с гиперболически веселым юмором изобразил бесплодные существования Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича и, кончая свою картину, вынужден был воскликнуть: «Скучно на этом свете, господа». С этой минуты он уже взял в руки анатомический нож, с этой минуты обильно потекли уже «сквозь зримый миру смех незримые слезы». Но страшно ошиблись бы те, которые в этих слезах увидели бы только слезы негодования. Везде Гоголя выручает юмор, и этот юмор полон любви к жизни и стремления к идеалу, везде, одним словом, виден поэт, чуждый всякой задней мысли. Этот юмор достигает крайних пределов своих в «Носе», оригинальнейшем и причудливейшем произведении, где все фантастично и вместе с тем все – в высшей степени поэтическая правда, где все понятно без толкования и где всякое толкование убило бы поэзию...
Все глубже и глубже опускался скальпель анатомика, и наконец в «Ревизоре» один уже смех только выступил честным и карающим лицем, а между тем тому, кто понимает великое общественное значение этой комедии (а кто же не понимает его теперь и для кого оно не уяснилось?), очевидны сквозь этот смех слезы. Вся эта бездна мелочных, но в массе тяжких грехов и преступлений, разверзающаяся с ужасающею постепенностию перед глазами зрителей, прежде спокойная, невозмутимая, как болотная тина, и словно развороченная одним прикосновением пустого проезжего чиновника, этот страх перед призраком, принятым за действительную грозу закона, глубокий смысл того факта, что тревожная совесть городских властей ловится на такую бренную удочку, – все это ясно и понятно уже каждому в наше время; что же касается до господ, до сих пор еще удивляющихся тому, как мог городничий, обманувший трех губернаторов, принять за ревизора проезжего свища, то остается только подивиться чистоте их совести, которой никогда не тревожили призраки, вызванные ее собственным тревожным состоянием, или недобросовестности, озлобленной на русскую литературу вообще и на одного из великих ее представителей в особенности. Рассуждающие о несообразности этого происшествия вовсе не понимают ни поэтической гиперболы, ни смысла комедии Гоголя, не понимают, что чем пустее, чем глаже и бесцветнее Хлестаков, тем очевиднее комическая Немезида над беззакониями города.
Мы сказали, что особенное свойство гоголевского юмора обусловлено отношением натуры его к действительности. С одной стороны, это натура, по признанию самого Гоголя, многосторонняя и, стало быть, способная отражать в себе действительность со всем бесконечным разнообразием ее явлений, и притом отражать ярко и цельно, – с другой стороны, это – натура в высшей степени страстная, на которую все противоречия идеалу действуют болезненно. Руководи Гоголя только личное раздражение, будь он, одним словом, не в такой степени исполнен чутья жизни, он был бы только великим лириком-дидактиком; будь в нем меньше настоящего стремления к идеалу, раздражение его противоречиями действительности отзывалось бы пафосом, несколько натянутым. Вещи познаются по сравнению, и чтобы оценить Гоголя, стоит только сравнить его произведения с другими, тоже талантливыми произведениями. Есть, например, на первый взгляд, нечто общее между пафосом «Насмешки мертвеца», «Города без имени», «Квартиры с отоплением и освещением» и других произведений талантливого и мыслящего кн. Одоевского и пафосом «Невского проспекта», «Записок сумасшедшего», «Шинели», «Рима», но вглядитесь пристальнее, и вы увидите бесконечную разницу, вслушайтесь внимательнее – и в прекрасных дидактических рассказах Одоевского вы услышите только отрицательный пафос, пафос негодования пополам с горькою ирониею Гамлета, с улыбкою скорби скептика, с неопределенными стремлениями мистика. Вы чувствуете, что вражда не осилила здесь действительности, не обладает ею мужески, и только плачет над нею, только обещает что-то лучшее в туманной безграничной дали. В пафосе Гоголя и в самых капризных причудах его юмора вы чувствуете живое чутье к жизни, любовь к жизни; его идеалы красоты и правды существуют для него в крепких осязаемых формах. С другой стороны, сравните, например, «Шинель» с однородною почти с нею по основным мыслям повестию даровитого писателя Н. Ф. Павлова «Демон». Сравните хоть сцену с начальником у того и другого писателя! А между тем вы не можете не сознаться, читая «Демона», что талант тут явно присутствует, что анализ тут чрезвычайно глубок; может быть, даже оттого это и действует, что анализ чересчур уже старается быть глубоким, что талант принимает чудовища фантастически настроенного воображения за действительные, живые создания, и страдания бедного Ивана Петровича, помешавшегося на мысли, что бедная жизнь заест век его хорошенькой половины, растут до невероятно колоссальных размеров, и странно то, что чем больше они стараются расти, тем меньше вы становитесь способны им сочувствовать, и весь пафос автора пропадает задаром. Напротив, как просто рассказано обхождение чиновников с Акакием Акакиевичем и его горе при потере шинели, а сердце ваше сжимается, и вместе с тем в каком-то упоении восторга наслаждаетесь вы этим верным художественным анализом. Мы не хотим сравнивать Гоголя с позднейшими произведениями школы, которая была представительницею крайности его болезненного юмора; мы не напоминаем этих страшных, чудовищных снов, где, наконец, самые сапоги получают физиономию и являются фантастическими существами. Возьмите, например, две повести Гоголя, где он изобразил нам тип чрезвычайно исключительный, тип художника. Музыкантов, поэтов, живописцев, вообще художников – и до него и после него весьма часто изображали в нашей литературе; это была даже общая тема повестей тридцатых годов нашей словесности, тема, успевшая уже в сороковых годах стать совершенно избитою темою; по крайней мере, в эти годы уже потерял всякий кредит и совершенно опошлился романтический способ представления художников и поэтов в манере повестей Полевого и драм г. Кукольника. У Полевого раз весьма наивно обличилась разгадка этого способа; последнее слово направления сказалось у него в «Аббаддонне», где поэты и художники ставятся на одну доску с сумасшедшими. Наивно сказалось это слово потому, что ничего дурного не подразумевал в таком сопоставлении романист, написавший даже повесть под заглавием «Блаженство безумия». Действительно: художники и поэты гг. Полевого, Кукольника, Тимофеева, заговаривающиеся ли, как Доминикино, до детского лепета, вроде: «Цаца ляля, цаца ляля!» – отвергающие ли всякие права ума в земном мире, как Джакобо Санназар, достойны, по всей справедливости, заключения иногда в сумасшедшие, иногда в смирительные дома. Должно сказать притом, что появление в литературе нашей этого типа, правильно или неправильно взятого, произошло вовсе не из потребностей общежития и что самое отношение к типу было неоригинально.Гоголь, призванный разоблачать фальшь всего того, что в нашей жизни взято напрокат из чужих жизней или что, под влиянием внешнего формализма, развилось в ней в неорганический нарост, – Гоголь разом порешил и в этом деле все фальшивые отношения мысли к типу в своем «Невском проспекте». Какую поразительную черту провел он здесь между положением художника в других странах и положением его в нашем общежитии! Как оттенил он лице художника Пискарева сопоставлением жизни и трагической судьбы его с судьбою поручика Пирогова! Какою скорбною и вместе возвышеннейшею ирониею проникнут поэт в своих отношениях к этому лицу, которому он при всей иронии своей, обращенной на его экзотичность, глубоко и болезненно сочувствует и к которому глубокое же и болезненное сочувствие возбуждает он в читателях, а с другой стороны, как свел он с ходуль и возвратил в простую действительность этот тип, доведенный до крайности смешного повестями тридцатых годов, получивших его из германской романтической реакции или даже из вторых рук французского романтизма. В «Невском проспекте» и в первой части «Портрета» Гоголь почти исчерпал все наличные отношения художника к жизни, отношения трагические в обоих этих произведениях: в одном трагическое отношение мечтательного идеализма художнической натуры к общежитию, в другом не менее трагическое поглощение художнического идеализма искушениями формального общежития, официальностию, светскостию, внешним лоском и рутинерством.
Еще и прежде, впрочем, Пушкин не менее глубоко отнесся к типу художника, взявши его в самой условнейшей среде общежития. Его Чарский, стыдящийся своего поэтического призвания, запирающийся, когда нападет на него блажь писать стихи, и между тем сознающийся, что никогда он не бывает так счастлив, как в эпохи этой блажи, – тоже создан под влиянием созерцания иронического, под влиянием мысли, весьма неутешительной, о разъединенности художества с жизнию общества, о том, что художники и художество суть в общежитии растения экзотические. Замечательно, что именно те писатели, которые вывели наше искусство из теплиц на вольный воздух жизни, развили в обществе внутреннюю потребность искусства, воспитали в нем понимание искусства, – высказали такое ироническое воззрение.
Сравнивая юмор Гоголя с юмором других юмористов: Стерна, Ж.-П. Рихтера, Диккенса, Гофмана – мы наглядно можем убедиться в его особенности. В Жан-Поле, например, при всей оригинальной его гениальности, нельзя не видать немецкого мещанства, kleinstädtisches Wesen[12]12
Провинциальной сущности (нем.). – Ред.
[Закрыть]. Юмор Гофмана только в эксцентричностях находит спасение от удушливой тюрьмы мещанства и филистерства; юмор Стерна весь вышел из скептицизма XVIII века и разлагается на две составные части, на слезливую сентиментальность и на скептическую иронию Гамлета над черепом Йорика. Юмор же Гоголя полон, целен, неразложим; Диккенс так же, пожалуй, исполнен любви, как Гоголь, но его идеалы правды, красоты и добра чрезвычайно узки, и его жизненное примирение, по крайней мере, для нас, русских, довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло; его братцы Чарльсы и другие добрые герои для нас приторны. И у нас на Руси найдутся, пожалуй, образы, которые с первого взгляда покажутся похожи на братцев Чарльсов, и мы любим душевно эти образы, эти добрые личности. Но, во-первых, в них нет методически-пуританской добродетели по заданным себе наперед темам, – а во-вторых, надобно спросить себя самих: что именно мы в них любим? Одну ли только доброту? Как бы не так! Мы любим в них смышленость, здоровый ум, известный юмор – соединенные с добротою. Мы скорее за означенные качества легко перевариваем в человеке примесь маленькой грязцы, дряни, мошенничества, – нежели уважим тупоумие за одну доброту. Недаром же у нас пословица, что «простота хуже воровства».
Мы привели уже место, где сам поэт высказал с величайшею искренностию и простотою побудительные причины своего юмора. «Не думай, однако же, после моей исповеди, – оканчивает он свое третье письмо по поводу „Мертвых душ“ („Переписка с друзьями“, стр. 149), – чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои: нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им, но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои, я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет бог, и это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с тою гадостью, которая всем видна. Тебе объяснится также и то, почему не выставил я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств, – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и как земля от неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров я также не выдумывал: кошемары эти давили собственную мою душу: что было в душе, то из нее и вышло».
Такова была цельная и гармоническая художественная натура поэта до эпохи ее болезненного уклонения, до эпохи того страшного переворота, который окончательно содействовал к раздвоению направлений русской мысли. Но об этой несчастной эпохе говорить еще здесь не место. Мы начинаем здесь с того, во что еще полно и цельно верил энергичнейший представитель нашего критического сознания Виссарион Белинский.








