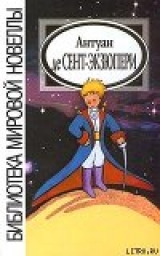
Текст книги "Южный почтовый"
Автор книги: Антуан де Сент-Экзюпери
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Annotation
Роман Антуана Де Сент-Экзюпери «Южный почтовый» («Courrier Sud») был написан в 1929 году, а на русский язык впервые переведен в 1960-м году.
Этот самолет будет лететь над землей, вопреки капризам стихий и атмосферным ловушкам. На его борту бесценный груз – 39 мешков, наполненных письмами и бандеролями. Только что пилот казался толстой неуклюжей черепахой в своих свитерах, перчатках, шлеме и толстых ботинках. Но вот он забирается в кабину и все становится на свои места…
Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. ЮЖНЫЙ ПОЧТОВЫЙ
Часть первая
I
II
III
IV
Часть вторая
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Часть третья
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. ЮЖНЫЙ ПОЧТОВЫЙ
Часть первая
I
Радиограмма. 6.10. Тулуза всем аэродромам. Почтовый Франция – Южная Америка вылетел 5.45. Точка.
Небо, чистое, как вода, омыло звезды и расставило их по местам. И наступила ночь. Сахара, дюна за дюной, расстилалась под луной. Этот светильник не высекает предметы из тьмы, но творит, насыщая нежной плотью. Под нашими приглушенными шагами – роскошество плотного песка. И мы идем с непокрытой головой, сбросив бремя солнца. Ночь – наш кров и прибежище…
Но как поверить, что это – покой? Неустанно неслись к югу пассаты, шелком шелестел выметаемый дочиста пляж. Не то, что ветра Европы: покрутятся да и утихнут, – эти свистели над нашими головами постоянно, как над мчащимся поездом. Иной ночью они врезались в нас с такой силой, что, казалось, только обопрись – и тебя подымет и унесет невесть куда. Вот это скорость, вот это неистовство!
Возвращалось солнце, приводя за собой день. Мавры слегка волновались. Некоторые отваживались приблизиться к испанскому форту, размахивали руками, их ружья казались игрушечными. Сахара, вид из-за кулис: непокорные племена – простые статисты, без малейшего покрова тайны.
Мы жили с ними бок о бок, видя в них собственное отражение, только попроще. И потому не чувствовали, что затеряны в пустыне: чтобы понять, как мы были одиноки, надо было сперва вернуться домой и посмотреть на здешнюю жизнь со стороны.
Пятьсот метров – и начинается непокоренная страна: дальше – ни шагу. Мы были в плену у мавров и у самих себя. Наши ближайшие соседи – в Сиснеросе, в Порт-Этьене, за семьсот, за тысячу километров – точно так же были схвачены Сахарой, словно крупинки металла – рудой. Обращались по своей орбите вокруг такого же форта. Мы знали их по именам, по их причудам, но толща безмолвия пролегла между нами, как между обитаемыми планетами.
В то утро мир для нас начал оживать. Радист наконец принес телеграмму (раз в неделю нас связывали с миром две врытые в песок мачты):
Почтовый Франция – Южная Америка вылетел Тулузы 5.45. Точка. Прошел Аликанте 11.10.
Говорила Тулуза, головной аэродром, Тулуза – далекий бог.
За десять минут эта весть доходила до нас через Барселону, через Касабланку, через Агадир, а потом распространялась до самого Дакара. По всей линии – пять тысяч километров – аэродромы проверяли готовность. В шесть вечера радио заговорило снова:
Почтовый приземлится Агадире 21.00, вылетит Кап-Джуби 21.30, здесь подсветить мишленовской ракетой, в Кап-Джуби обычные сигнальные огни. Точка. Держите связь Агадиром. Тулуза.
В Кап-Джуби, затерянные в песках Сахары, мы следили, как из обсерватории, за далекой кометой.
К шести вечера встревожился юг:
Дакар Порт-Этьену, Сиснеросу, Джуби: Срочно сообщите сведения почтовом.
Джуби Сиснеросу, Порт-Этьену, Дакару: Никаких сведений после прохождения Аликанте 11.10.
Где-то рокотал мотор. От Тулузы до Сенегала пытались его услышать.
II
Тулуза. 5.30.
Служебный автомобиль резко тормозит у ворот ангара, распахнутых в ночь и дождь. Прожектора по пятьсот свечей вырубают из тьмы предметы – грубые, голые, четко очерченные, как на витрине. Под сводом ангара каждое слово раскатывается, длится, наполняет собой тишину.
Сверкает сталь обшивки, ни пятнышка масла на моторе. Самолет как новенький. Как тончайшее часовое устройство – и механики касались его пальцами изобретателей. Теперь все готово – они отходят от дела своих рук.
– Живей, господа, живей…
Мешок за мешком чрево машины поглощает почту. Быстрая проверка:
– Буэнос-Айрес… Натал… Дакар… Касабланка… Дакар… Тридцать девять мешков. Точно?
– Точно.
Пилот одевается. Пара свитеров, шарф, кожаный комбинезон, сапоги на меху. Сонное тело неповоротливо. Его торопят: «Давай, живее!» Тяжело и неуклюже, едва удерживая негнущимися в толстых перчатках пальцами часы, высотомер, планшет с картами, он карабкается в кабину – водолаз вне своей стихии. Но вот он на месте – и все становится легко.
К нему поднимается механик:
– Шестьсот тридцать килограмм.
– Пассажиры?
– Трое.
Не глядя, он берет их под начало.
Начальник линии поворачивается к рабочим:
– Кто крепил капот?
– Я.
– Двадцать франков штрафу.
Начальник линии бросает последний взгляд на машину: всюду совершенный порядок, движения выверены, как в балете. Самолет в этом ангаре так же точно занимает свое место, как будет занимать его в небе пять минут спустя. И весь полет рассчитан так же точно, как спуск на воду корабля. На капоте недостает крепежного шплинта – чудовищная ошибка! Прожектора в пятьсот свечей, придирчивый осмотр, суровая требовательность – все для того, чтобы от посадки к посадке, до самого Буэнос-Айреса или Сантьяго этот полет совершался силой законов аэродинамики, а не волей случая. Чтобы, вопреки туманам, бурям и вихрям, и тысяче тайных угроз в пружине или коромысле клапана, – вопреки всем козням материи – настичь, обогнать, посрамить все эти скорые и товарные, поезда и пароходы! И приземлиться в рекордный срок в Буэнос-Айресе или Сантьяго.
– В путь!
Маршрутный лист для пилота Берниса: план битвы.
Бернис читает:
Перпиньян передает: Небо чистое, ветра нет. Барселона: Буря. Аликанте…
Тулуза. 5.45.
Мощные колеса давят на тормозные колодки. Прибитая к земле ветром от винта, струится и трепещет трава на двадцать метров назад. Одним движением кисти Бернис дает волю буре или укрощает ее.
А гул мотора все разбухает, накатывается и накатывается, становясь наконец плотной, почти твердой средой, в которой замкнут самолет. И вот пилот ощущает: этот гул что-то в нем переполнил, какое-то чувство, которого мгновение назад было недостаточно. Он говорит себе: есть! Смотрит на черный против света капот, гаубицей упирающийся в небо. Там, за винтом, дрожит заря.
Медленно выруливая навстречу ветру, он берет на себя рукоять газа. Самолет, подхваченный винтом, бросается вперед. Упругий воздух сглаживает первые скачки, земля растягивается и блестит под колесами, как приводной ремень. И когда воздух, сперва неосязаемый, потом текучий, наконец кажется ему твердым – пилот опирается на него и взмывает ввысь.
Окружавшие аэродром деревья расступаются, открывая горизонт, и исчезают. Склонись с высоты двухсот метров, взгляни, пока видно, на этот игрушечный, для детей, мирок: как прямо поставлено каждое дерево, как раскрашены дома, и леса топорщат свой густой мех, – на этой земле живут…
Бернис ищет нужный наклон спины, точное положение локтя – должно быть удобно. Позади – низкие тучи возводят над Тулузой темный свод вокзала. Бернис уже не так сдерживает рвущийся в высоту самолет, постепенно давая волю силе, зажатой в его руке. И каждая волна, рождаясь от легкого движения его кисти, подхватывает и возносит его самого, как волна прилива.
Через пять часов – Аликанте, вечером – Африка. Бернис задумался. На душе спокойно: «Я навел порядок». Вчера с вечерним скорым он оставил Париж. Это был странный отпуск, в памяти брезжит лишь непонятное смятение. Ему еще будет больно, но сейчас – все отброшено, осталось позади, как будто живет своей, отдельной от него жизнью. Сейчас он заново рождается вместе с этой зарей – и, дитя рассвета, помогает создавать новый день. Он думает: «Я только рабочий, я налаживаю связь с Африкой». А для рабочего, заново строящего мир, этот мир каждый день начинается заново.
«Я навел порядок…» Последний вечер в своей квартире. Кипы газет, пачки книг, письма – эти разобраны, те – в огонь. Для мебели приготовлены чехлы. Каждая вещь вырвана из своей жизни, выброшена в одиночество и пустоту. И в этом смятении сердца – уже никакого смысла.
Он собирался в завтрашний день, как в дальний путь. Отплывал в него, как на поиски новых земель. Только что его привязывало к самому себе множество незавершенных дел. И вдруг – он свободен. Бернис почти со страхом открывает, что он свободен и лицом к лицу со смертью.
Внизу проплывает Каркассон со своим запасным аэродромом.
Высота – три тысячи метров. Какой совершенный порядок царит там, внизу! Игрушечный мир аккуратно собран и сложен в коробку. Дороги, каналы, дома – все, чем играет человек. Мир тщательно размеченный и разлинованный: каждому полю – своя изгородь, каждому парку – своя стена. Каждой каркассонской лавочнице – жизненный путь ее прабабки. Каждому – маленькое, от сих до сих счастье. Игрушечная жизнь, аккуратно помещенная под стекло.
И уж так он выставлен, выложен напоказ, этот мир под стеклом! В строгом порядке следуют на рулоне карты городки, и земля медленно, с неукоснительностью морского прилива проносит их под крылом самолета.
Бернису кажется, что он совсем один. Солнце бликует на циферблате высотомера – сверкающее, ледяное солнце. Чуть нажми на педаль – и там, внизу, все снесет течением. Только этот неживой свет – и земля словно неживая: с нее стерли то, в чем таится сладость, хрупкость, аромат жизни.
Но вот под этой кожаной курткой – теплое тело, теплое, Бернис, и уязвимое. Под грубыми перчатками – волшебные руки, умевшие, Женевьева, кончиками пальцев ласкать твое лицо…
Испания.
III
Сегодня, Жак Бернис, ты пройдешь над всей Испанией спокойно и уверенно, как хозяин. Знакомые виды будут сменять друг друга. Ты запросто, локтями, проложишь себе путь сквозь грозы. На тебя, а потом – за тебя, назад, несет Барселону, Валенсию, Гибралтар, – есть! Ты скатываешь эту карту обратно в рулон, за спиной – все больше сделанной работы. А я вспоминаю твои первые шаги – и мои последние советы перед твоим первым почтовым. С рассветом тебе предстояло взять в руки множество людских раздумий. В свои слабые, уязвимые руки. Взять – и перенести через тысячи преград, как сокровище под плащом. Ведь почта драгоценна, сказали тебе, драгоценней, чем сама жизнь. И так же хрупка. От любой промашки она может исчезнуть в огне или рассеяться по ветру. Вот какой он был, тот канун битвы:
– И что тогда?
– Тогда попробуй дотянуть до пляжа у Пеньисколы. Но осторожно – там рыбачьи лодки.
– А дальше?
– Дальше до самой Валенсии всегда найдешь, где сесть. Вот, я тебе обвожу красным. На худой конец, сойдут и высохшие русла.
Зеленый абажур, расстеленные карты – Бернис как будто снова в школе. Но в каждом клочке земли его новый учитель открывал для него живую тайну. Неведомые страны представали отныне не мертвой цифирью, а настоящими лугами, полными цветов (берегись вон того дерева!), настоящими пляжами, устланными песком (вечером будь осторожен – рыбаки!).
Ты уже понял, Бернис: никогда не узнать нам ни Гранады с Альмерией, ни Альгамбры, ни мечетей – только самые скромные тайны ручейка и апельсинового дерева.
– Ну, слушай: если с погодой порядок, иди напрямик. А если погода плохая и лететь приходится низко – ты берешь влево и входишь в эту долину.
– … вхожу в эту долину…
– А потом – снова к морю, через вот этот перевал.
– … к морю через перевал…
– С мотором поосторожней – берег там крутой, кругом скалы.
– А если начну проваливаться?
– Придется выпутываться!
Бернис улыбается: молодые пилоты – романтики. А какую-нибудь скалу швырнет на тебя, как из пращи, – и убит. Бежал ребенок – и вот неведомой рукой поражен прямо в лоб и повержен навзничь…
– Да нет, старина, в самом деле! Всегда приходится выпутываться.
И Бернис горд таким уроком: в детстве во всей «Энеиде» не нашлось ни одной тайны, какая хранила бы от смерти. Школьный учитель, проводя пальцем по карте Испании, не умел открыть ни родника, ни клада, ни западни, ни той, из песенки, пастушки на лугу.
Что за нежность лилась в тот день из-под зеленого абажура! Маслом этой лампы можно было бы усмирить морскую волну! За окном крепчал ветер, и наша комната впрямь казалась одиноким островком, приютом моряков.
– Винца?
– Пожалуй…
Комната пилота, ненадежный приют, – каждый раз приходилось строить ее снова. Накануне вечером Компания извещала: «Пилот такой-то назначается в Сенегал… в Америку…» И в ту же ночь – порвать все связи, заколотить ящики с вещами… Скромный наряд твоей комнаты – фотографии, книги, – всё прочь, среди голых стен не остается даже призрака… А порой в ту же ночь надо было еще разомкнуть обнимавшие тебя руки, осилив какую-нибудь юную особу. Убедить невозможно – ведь каждой не занимать решимости, но можно измотать любовью и к трем утра, покорившуюся не разлуке, а своему горю, потихоньку препоручить сну, понимая: она плачет – значит, смирилась…
Что же ты узнал, Жак Бернис, отправившись странствовать по свету? Самолет? Он продвигается вперед так медленно и трудно, словно просверливая твердый кристалл. И города мало-помалу становятся на одно лицо: плоть каждого ощущаешь только на земле. Ты знаешь теперь, все эти дары даются и тут же отнимаются, и время уносит их, как морская волна. А тогда ты возвращался из первых полетов, и чувствовал, как в тебе рождается новый человек, и тебе всё хотелось устроить ему свидание с нежным мальчуганом былых времен, – почему? В первый же свой отпуск ты потащил меня в родной коллеж. Здесь, в Сахаре, ожидая твоего мимолетного появления, грустно мне вспоминать, как мы ездили в гости к нашему детству.
Белый особняк среди сосен. Вот загорелось окно, чуть погодя – второе. И ты сказал мне: «Вон в том классе мы писали наши первые стихи».
Мы явились из такой дали. Мы укрывали целый мир полой тяжелого плаща, в нас жили бессонные души странников. В незнакомые города мы вступали, сжав зубы, при полном защитном снаряжении. Людские толпы обтекали нас. Для прирученных городов – Касабланки, Дакара – мы берегли белые тенниски и фланелевые брюки. В Танжере мы даже ходили с непокрытой головой: к чему доспехи в этом сонном городке!
Мы вернулись крепкими, сильными, настоящими мужчинами. Мы боролись и страдали, из конца в конец пролетали над бескрайними землями, любили женщин, не раз играли в орлянку со смертью, – только бы одолеть худшие страхи нашего детства, не бояться больше, что оставят после уроков и дадут лишнее задание, и бестрепетно слушать по субботам отметки за неделю.
По вестибюлю прошел шепоток, послышались возгласы – к нам спешили наши старые учителя. Золотой свет ламп лился на пергаментные лица, а глаза лучились радостью и приветом. И тотчас стало ясно: они знают, мы теперь – из другого теста. Так повелось: выпускники возвращаются, их поступь тверда, их ведет жажда реванша.
А потому их не удивило ни мое крепкое рукопожатие, ни прямой взгляд Жака Берниса. Потому они сразу приняли нас как мужчин, и кто-то побежал за бутылочкой старого самосского – прежде об этом не могло быть и речи.
Ужин собрал нас всех за столом. Они жались друг к другу под абажуром, как крестьяне вокруг очага, и мы ощутили их слабость.
Ведь это от слабости стали они снисходительны. Нашу прежнюю лень, что вела прямиком в бездну пороков и несчастий, – вспоминали с улыбкой, как невинное прегрешение детства. Нашему честолюбию, с которым некогда так яростно боролись, – в этот вечер потакали, называя благородным… И даже учитель философии снизошел до признаний.
Декарт, похоже, основал свой метод на логической ошибке. Паскаль… Паскаль так бесчеловечен! Ну, а он сам… Жизнь подходит к концу, а он так и не разрешил для себя, сколько ни пытался, старую как мир проблему свободы воли. Всеми силами, оберегая нас, ополчался он на детерминизм, на Тэна, видел в Ницше смертельную угрозу для неоперившихся юнцов, – и что же? Винился теперь перед нами в преступной слабости: Ницше волновал и его. А материя – действительно ли она существует? Он больше ничего не знает, он в смятении…
И тогда они засыпали нас вопросами. Ведь мы вышли из тепла и уюта этого дома навстречу всем бурям жизни – кто же еще расскажет им, какая на земле погода? И правда ли, что, полюбив женщину, становишься ее рабом, как Пирр, или палачом, как Нерон? Так ли пустынна Африка, так ли ясны над ней небеса, как рассказывал на уроке учитель географии? И, кстати, страусы – в самом деле закрывают глаза в минуту опасности? Жак Бернис, хранитель великих тайн, чуть склонялся к своим учителям, и те выпытывали их одну за другой.
Они хотели знать, как пьянит борьба и как ревет мотор, и почему для счастья нам мало, как им, вечерами подрезать розы. И Бернис в свой черед трактовал им Лукреция и Екклезиаста, оделял советами. Пока не поздно, он учил их, какой нужен запас воды и пищи, чтобы выжить, потерпев крушение в пустыне. Бегло набрасывал самые важные наставления: как не погибнуть при встрече с маврами, как уберечь машину от огня… А учителя качали головой, взволнованные и ободренные, гордясь этим новым племенем, которое выпустили в мир. Они всегда славили героев – теперь им довелось увидеть их, узнать, прикоснуться, теперь они могли спокойно умереть. И они заговорили о юных годах Юлия Цезаря.
Но, хоть и жаль нам было их огорчить, – мы не сумели умолчать об отчаянии, о том, как горек отдых после бесплодной борьбы. И еще, пока самый старый из учителей задремал, – о том, что нам было больнее всего: быть может, единственная истина на свете – в мирном шелесте книжных страниц. Однако об этом наши учителя уже знали. Им не занимать безжалостного опыта: ведь среди уроков была история.
– Но какими судьбами – снова к нам?
Бернис не ответил. Впрочем, старые учителя умели читать в сердцах: они переглянулись и подумали о любви…
IV
Земля с такой высоты казалась голой и мертвой; но самолет идет на посадку – и она одевается. Снова ее покрывает ворс лесов, долины с холмами бегут морской зыбью – земля дышит. Он летит над горой – это грудь спящего великана, вздымаясь, едва не задевает самолет.
Еще ближе к земле виды сменяются быстрее – будто с моста глядишь на поток. Сплошной, цельный мир ломается на куски, будто ледоходом. От ровного горизонта откалываются деревья, дома, селенья, и течение несет их назад, за спину Берниса.
Вот показался аэродром Аликанте, покачался и замер; колеса касаются земли, близкие, как валки прокатного стана.
Бернис выбирается из кабины. Ноги затекли. Приходится на миг зажмуриться: голова полна гулом мотора, в глазах еще мелькает, во всем теле продолжает жить дрожь машины. Потом он входит в контору, медлительно присаживается, локтем отодвигает чернильницу, какие-то книги и берет бортовой журнал своего 612-го.
«Тулуза – Аликанте: в полете – 5.15.»
Рука замирает, наваливаются усталость и сон. Слышится невнятный шум, будто где-то неподалеку бранится склочная старуха. В дверь заглядывает водитель «Форда», улыбается и просит извинить. Бернис обводит тяжелым взглядом стены, дверь, этого шофера в натуральную величину. На десять минут он втянут в непонятный ему спор, в какие-то события без конца и начала. Все кажется ненастоящим, призрачным. Впрочем, вот дерево у порога – ему, как-никак, лет тридцать. Тридцать лет оно утверждает подлинность всего вокруг.
«Мотор в порядке».
«Машину кренит вправо».
Он откладывает перо и думает: «Поспать бы». Дремота одолевает, давит на виски…
В янтарном свете – луга, ухоженное поле. Справа деревенька, слева – крохотное стадо, и все покрывает голубой свод небес. «Это же дом,» – думает Бернис. С новой внезапной ясностью он чувствует: этот мир, это небо и эта земля возведены, чтобы служить кровом. Родным кровом, под которым царит порядок. Каждая вещь стоит прямо, надежно, устойчиво. Ни единой угрозы, ни трещинки в этой цельной картине, и сам он – ее частица.
Так старые дамы глядят из окна гостиной и чувствуют, что бессмертны. Зеленеет лужайка, садовник неспешно поливает цветы. Они провожают взглядом его спину – от нее исходит покой. Паркет натерт до блеска, пахнет воском – что за восторг! Кругом совершенный, сладостный порядок: пронесся день, в его свите ветер, и ливни, и солнечный жар, – и лишь чуточку потрепал несколько роз…
– Пора. До встречи. – И Бернис снова в пути.
Теперь он входит в бурю. Она обрушивает на самолет град ударов – словно кирка разносит каменную стену. Но Бернис видал и не такое, он прорвется. В голове ни единой мысли, кроме самых простых команд: выбраться из окружения гор (вихри тащат его вниз, в котловину), перескочить их острую грань (дождь надвигается стеной – темень, как среди ночи), пробиться к морю!
Тряхнуло! Поломка? Резкий крен влево. Бернис едва удерживает машину: сперва одной рукой, потом двумя, потом всей тяжестью тела. Проклятье! Самолет со всего маху несется к земле. Он погиб! Еще миг – и его выбросит навсегда из этого опрокинутого вверх тормашками дома, с которым он только начал сживаться. Равнины, леса и селенья завьются вихрем вокруг него, всколыхнется дым, дымные вихри по всему окоему, всюду дым! И детский, игрушечный мир разлетится на все четыре стороны неба…
«Ага, вот я и сдрейфил!» Наподдать каблуком по тросу – небось, заклинило. Теперь проверить рулевую тягу. Отказала? Черта с два: все в порядке! Наподдал ногой – и мир существует дальше. Вот это приключение!
Приключение? То-то же от него ничего не осталось, кроме кислой отрыжки во рту. Но на мгновение перед Бернисом разверзлась пропасть. А все людские игрушки – дороги, дома, каналы – оказались лишь видимостью, ширмой, обманом.
Все позади. Обошлось. Снова ясное небо. Как и обещала метеосводка. «Четвертая часть неба в перистых облаках». Так, значит, метеосводка? Изобары? Облачные системы, по профессору Бьеркнессу? Нет же, праздничное небо – вот что это такое! Небо 14 июля. Почему не сказать просто: «В Малаге сегодня праздник!» И каждый житель получил подарок: десять тысяч метров чистого неба над головой. До самых перистых облаков. Никогда еще небесный водоем не был таким огромным и сияющим. Словно залив перед стартом регаты: синее небо, синее море, синие скалы, синие глаза капитана. Светозарный праздник!
Все обошлось. И для него, и для тридцати тысяч писем.
Почта драгоценна, драгоценней, чем сама жизнь, – твердила Компания. Конечно – ведь ею живут тридцать тысяч влюбленных… Потерпите, влюбленные! Ваши письма прилетят с вечерними огнями. Позади остались этот чан с тяжелыми тучами и взбивающий, перемешивающий их ураган. Впереди – разодетая солнечными лучами земля, ворс лесов и полотно полей, и чуть морщит парусина моря.
К ночи он будет над Гибралтаром. А там, с поворотом на Танжер, огромный айсберг Европы оторвется от Берниса и поплывет себе по течению…
Несколько городов, вылепленных из бурой земли, – и Африка. Еще несколько, из черного теста, – и под крылом Сахара. Нынче вечером земля раздевается при Бернисе.
Он устал. Два месяца назад он отправился в Париж, чтобы завоевать Женевьеву. Вчера он вернулся на службу, смирившись с поражением. Эти равнины и города, эти уплывающие огни – он их оставляет, сбрасывает, как одежду. Через час блеснет маяк Танжера – и до самого маяка, Жак Бернис, ты будешь вспоминать.
Часть вторая
I
Я должен вернуться назад и рассказать, что это были за два месяца. Иначе – что от них останется? Когда понемногу уляжется слабое волнение, поднятое этими событиями, и над их героями, попросту стертыми из жизни, разойдутся, словно на озерной глади, и исчезнут круги, – когда притупится боль, сперва нестерпимая, потом не столь нестерпимая и, наконец, тихая и ровная, – тогда я снова поверю в прочность мира. Тогда, как знать, я смогу и побывать там, где всего мучительней должны являться воспоминания о Женевьеве и Бернисе, – и лишь легкая грусть тронет мне душу.
Два месяца назад он отправился в Париж – но как заново найти свое место, когда тебя так долго не было? Ты словно попусту загромождаешь город. Вот он, Жак Бернис – человек в пронафталиненном пиджаке. Он движется скованно и неловко, а вещи, уж так аккуратно составленные в уголок, выдают ненадежность, недолговечность жилья: эту комнату не покорили книги и белизна простынь.
– Алло. Это ты?
Бернис выкликает на поверку друзей. Возгласы, поздравления: «Пропащая душа, наконец-то!»
– Ну что, когда увидимся?
Как раз сегодня тот занят. Завтра? Завтра у него гольф, но можно присоединиться. Бернис не хочет? Ну, значит, послезавтра. Ужинаем вместе. Ровно в восемь.
Он заходит в дансинг, среди разряженных жиголо остается в плаще, как в скафандре исследователя. Ночь за ночью они крутятся здесь, как пескари в аквариуме, оттачивают мастерство мадригала, отплясывают, не забывая о выпивке… В этой зыбкой среде Бернис чувствует себя грузчиком-тяжеловесом: он один прочно стоит на ногах, он один не потерял рассудка, и его мысли не расплываются туманным маревом. Между столиками он пробирается к свободному месту. Женщины, встречая его взгляд, опускают сразу гаснущие глаза. Молодые люди ловко уклоняются с его пути. Так ночью дежурный офицер обходит посты, и часовые один за другим роняют сигареты.
Каждый раз мы открывали этот мир заново – так бретонские моряки, возвращаясь, заново открывают свою деревушку, застывшую, как на почтовой открытке, и такую верную, почти не постаревшую без них невесту. Разве может измениться картинка из книги вашего детства? И когда все опять оказывалось в точности на том же месте, в точности как назначено судьбой, нас охватывал смутный страх. Вот Бернис справляется о друге – в ответ: «Как тебе сказать… Он все тот же. Дела? Да потихоньку. Ну, понимаешь… Жизнь как жизнь». Всякий был заточен в самом себе и влачил неведомые оковы – не то что он, беглец, беспризорник, чародей.
Лица его друзей слегка изветшали за два лета и две зимы. Вон женщина в уголке бара – Бернис ее узнаёт. И у нее чуть усталое лицо: пришлось изобразить столько улыбок. Бармен тоже прежний. И Бернису становится страшно, что его узнают, окликнут, – как будто этот оклик воскресил бы в нем прежнего Берниса, бескрылого, не способного на побег.
Он возвращался – и вокруг него понемногу заново возводились тюремные стены. Пески Сахары и скалы Испании понемногу отступали, словно театральные декорации, из-за них сквозил реальный мир. Наконец, уже по эту сторону границы, расстелил свою равнину Перпиньян. Косыми, длинными пятнами лилась солнечная лава, и с каждым мигом меркла брошенная там и сям на траву золотая парча, с каждым мигом – бледнела, ветшала, даже не гасла, а испарялась. Синеющий воздух сгущался в мягкий, темный зеленый ил. Недвижное морское дно. Приглуши мотор – и ко дну, туда, где все обретает покой, становится очевидным и незыблемым, как стена.
А потом – автобус от аэропорта до вокзала. Суровые, замкнутые лица напротив. Заскорузлые – слепок всей жизни – ладони тяжело легли на колени. Это крестьяне возвращаются с полей. А вон девушка стоит у ворот – ждет мужчину, одного из сотни тысяч; она уже отказалась от ста тысяч надежд. И мать укачивает ребенка – в своем добровольном заточении, ей заказан побег.
Пилот, вернувшийся на родину налегке, без багажа, руки в карманы, – Бернис, оказалось, потаенной тропкой проник в самую тайную вотчину вещей. В незыблемый мир, где не сдвинешь ни на пядь край надела или ограду парка – разве что двадцатилетней тяжбой.
И это после двух лет в Африке, с ее подвижными и переменчивыми, как морская зыбь, видами – но ведь за ними, в конце концов, обнажалась единственная, древняя, вечная картина, из которой он выступил, скорбный архангел, чтобы обрести под ногами настоящую почву.
«И вот – все то же самое…»
Прежде он боялся, что все здесь изменилось, а теперь страдал от того, что все по-прежнему. Он больше ничего не ждал ни от дружеских встреч, ни от свиданий – пустое, смутная тоска. Там, вдалеке, столько себе напридумываешь! Расставание с милыми сердцу – зарубка, болезненный шрам, но тут же и странное чувство, будто, уезжая, оставил надежно упрятанное под землей сокровище. Порой лишь бегство обнаруживает, как много утаено любви. Однажды ночью в Сахаре, среди звездного племени, он грезил о нежных узах, живых и теплых там, вдали, прячущихся под кровом ночи, словно зерно в земле, – и вдруг его пронзило острое чувство: ведь он только чуть отошел в сторону, чтобы оберегать их сон! Опершись на разбитый самолет, затерянный среди песчаных волн, изогнувших черту горизонта, он охранял своих друзей и возлюбленных, как пастух…
«Что же я нашел, вернувшись?»
И однажды Бернис написал мне.
…Мне нечего сказать о моем возвращении. Я чувствую себя человеком, когда в ком-то встречаю отклик. А здесь ни в ком ничто не дрогнуло. Я был как паломник, слишком долго добиравшийся до Иерусалима. Его страсть, его вера уже иссякли: теперь Иерусалим для него – мертвые камни. Так и этот город для меня – стена. Хочу уехать. А помнишь тот первый вылет? Когда ты был со мной? Гранада и Мурсия лежали безделушками под стеклом, но мы летели мимо, и они погружались обратно в свои минувшие века. Настоящим был только плотный гул мотора, а за ним тянулась, как фильм, немая череда картин. А этот холод – мы ведь шли на большой высоте, – города внизу, казалось, вмерзли в лед. Помнишь?
Я сохранил записки, которые ты мне передавал:
«Странно дребезжит, слышишь? Усилится – в ущелье не входи.»
Через два часа, над Гибралтаром: «Подожди пересекать – лучше у Тарифы».
Перед Танжером: «Заходи издалека: полоса тяжелая».
Просто. Но с такими словами покоряют мир. Я постигал способ действий, всесильный благодаря этим кратким приказам. Танжер, заштатный городишко, был моей первой победой. Понимаешь ты – первый боевой трофей! Сначала заходишь с высоты – нет, слишком далеко. Снижаешься – из земли вылупляются дома, лужайки, цветники. Я возвращаю на свет божий поглощенный землей город, он снова живой! И вдруг чудесное открытие: в пятистах метрах подо мной – пахарь-араб, я подтягиваю его к себе, довожу до собственных размеров, – он будет моей военной добычей, моим творением, моей игрушкой. Я взял заложника, теперь Африка моя!
Две минуты спустя я стоял в траве. Я был такой юный, словно высадился на неведомую звезду, где заново рождается жизнь. Словно это новый мир. Я чувствовал себя ростком, только что проклюнувшимся из этой почвы, под этим небом. Я потягивался с дороги, чувствуя восхитительный голод. Я шагал широко и упруго, чтобы размяться, и смеялся от радости, что мы с моей тенью снова вместе, – вот что значит приземление.







