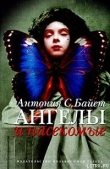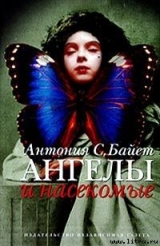
Текст книги "Морфо Евгения"
Автор книги: Антония С. Байетт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Вильям понял, что расплачиваться придется мыслями. Но рассуждать вслух было столь же естественно, как дышать воздухом, есть мясо и хлеб. И с того дня, когда Евгения дала согласие на брак, до дня свадьбы, который старались всемерно приблизить, чтобы не задерживать бракосочетания Ровены, – так что времени было ровно столько, чтобы успеть сшить свадебные платья, – все это время Вильям беседовал с Гаральдом Алабастером. Сам он со вздохом облегчения отрекся от отцовской религии, зиждившейся на муках, страданиях и обетованном блаженстве, – со вздохом христианина, с плеч которого спадает тяжкий груз, когда он минует болото уныния. Но Гаральд почти увяз в этом болоте. Его мысли были для него самого мукой; честность и скрупулезность собственных размышлений терзали и опустошали его.
Он часто говорил о вреде, который наносит вере тот, кто, не обладая даром убеждения, берется доказывать существование Бога или библейские истины. Как Вильям Уэвел[14]14
Вильям Уэвел (1794—1866) – английский историк и философ-идеалист.
[Закрыть] смеет утверждать, будто продолжительность дня и ночи приспособлена к продолжительности человеческого сна? – спрашивал Гаральд. Ведь ясно как белый день, что все сущее живет и движется согласно определенному ритму: реагируя на тепло и свет солнца, а также на его отсутствие, соки поднимаются вверх по дереву, раскрываются и закрываются цветы, люди и звери спят или выходят на охоту, лето приходит на смену зиме. Нельзя помещать себя в центр Вселенной, пока не убедишься наверняка, что ты этого достоин. Мы не должны творить Бога по своему образу и подобию, чтобы не выглядеть глупцами. Гаральд надеялся, порой вопреки здравому смыслу, что существование Божественного Творца будет убедительно доказано, и не терпел доводов типа того, что у мужчины есть соски, а у человеческого эмбриона – рудиментарный хвост, низводивших Творца до уровня неумелого ремесленника, который берется за работу, а затем начинает ее переделывать. Так позволено поступать человеку, но так не может поступать Бог – это ясно, если взять на себя труд размышлять трезво хотя бы секунду. Но тем не менее некоторые рассуждения об аналогии человеческого разума Божественному он принимал – они укрепляли его в его вере, и он не сбрасывал их со счетов.
– Что вы скажете об учении о красоте? – спросил он Вильяма.
– О какой красоте мы говорим, сэр? О красоте женщин, леса, небес или тварей?
– О красоте вообще. Я хочу сказать, что способность человека любить во всем красоту – любить симметрию, восхитительную яркость цвета, тонкое совершенство форм листьев, кристаллов, змеиных чешуек и крыльев бабочки – доказывает, что в нас есть нечто бескорыстное и духовное. Человек, который восхищается бабочкой, уже не грубое животное, Вильям. Он уже больше, чем бабочка.
– Мистер Дарвин считает, что красота бабочки призвана привлекать брачного партнера, а красота орхидеи – облегчить опыление ее пчелами.
– Я возражу: ни пчела, ни орхидея не испытывают столь же острой радости при виде совершенства цветов и форм. И можем вообразить Создателя, сотворившего мир, ибо он упивался своим даром обратить камни, глину, песок и воду в такое разнообразие видов, ведь так? Мы можем очень ясно представить себе этого Творца, потому что и в нас живет потребность создавать произведения искусства не ради удовлетворения какого-либо низменного инстинкта выживания, не ради сохранения нашего вида, а лишь потому, что они прекрасны, и сложны, и дают пищу душе, не так ли?
– Скептик, сэр, возразил бы, что ваше рассуждение о произведениях искусства напоминает ему о Пейли и его часах, которые, по утверждению философа, должны всякого – стоит лишь ему найти две сцепленные шестерни – наводить на мысль о существовании Создателя. Возможно, восхищение красотой или формой, о котором вы говорите, – всего лишь то, что делает нас приматами, а не животными.
– Я, как и герцог Аржильский, считаю, что неотразимое великолепие райских птиц может послужить доказательством того, что в некотором смысле мир все же был создан, чтобы восхищать человека. Ибо птицы эти не способны восхищаться собой, но зато мы умеем восхищаться ими.
– Они танцуют для своих брачных партнеров, так же как индюки и павлины.
– Но не чувствуете ли вы, что ваше умение восхищаться и удивляться соответствует чему-то, что находится вне вас, Вильям?
– И правда, чувствую. Но и задаю себе вопрос: обязан ли я кому-либо этим умением? Ибо Творец, если он и есть, очевидно, совершенно равнодушен к собственным творениям, которыми мы так восхищаемся. У природы острые зубы, она беспощадна, как выразился мистер Теннисон*.[15]15
Альфред Теннисон (1809—1892) – английский поэт викторианской эпохи, продолжавший в своем творчестве традиции «Озерной школы». Поэт-лауреат с 1850 г. Широкую популярность ему принесли «In memoriam» (1850) и «Принцесса» (1847), цикл поэм – «Королевские идиллии» (1859). Цитата из поэмы «In memoriam» (1850).
[Закрыть] Амазонские джунгли действительно будят чувство изумления благодаря своему буйству и великолепию. Но некий дух витает над ними – ужасный дух бездумной борьбы за жизнь и апатичной инертности – разновидности растительной алчности и всеобщего разложения, потому много легче поверить в некую неразумную природную силу. Ибо, я думаю, доводы деистов о том, что тигры и фиги-душители задуманы, чтобы не допустить страданий старых оленей и гниения древесных стволов, удовлетворят вас не более, чем рассуждения Уэвела о дне и ночи.
– Мир очень изменился, Вильям. И я уже не верю, как верил в детстве, в наших прародителей из рая, в то, что в змее сокрыт сатана, в архангела с огненным мечом, закрывающего райские врата. Я достаточно пожил и уже не верю безоговорочно в Рождество Христа в холодную ночь, когда ангелы пели в небесах, и пастухи, дивясь, всматривались в высь, и волхвы везли через пустыню на верблюдах дары. Теперь мне преподносят мир, где мы таковы, каковы есть, благодаря изменениям, многие тысячелетия происходившим в мягких и костных тканях, мир, где ангелы и демоны не воюют в небесах, защищая всего лишь кто добродетель, кто порок, в этом мире мы едим и едят нас, и мы претворяемся в чью-то плоть и кровь. Музыка и живопись, поэзия и сила духа – зыбкий мираж. Близится время, когда я просто истлею, словно гриб. Очень вероятно, что заповедь любить ближнего не более чем благоразумный инстинкт общежития, родительский инстинкт, он есть у всякого высшего примата. Одно время я очень любил картины, изображающие Благовещение: ангел с радужными крылами, по сравнению с которыми крылья бабочки и райской птицы – бледная тень, ангел с бело-золотой лилией в руке преклоняет колено перед задумчивой юной девой, которой суждено стать Божьей Матерью, матерью, облеченной в плоть любви, мудрости, дарованной нам навечно или на время. И вот все это словно стерто, сцена пуста, и на фоне черного театрального задника я вижу самку шимпанзе, которая с недоумением смотрит из-под нависающих бровей, отвратительно скалит крупные зубы и прижимает к морщинистой груди своего волосатого отпрыска – и это любовь, облеченная в плоть?
И знаю, что мой ответ – «да»: если Бог творит, он творит человека из обезьяны; но утрата моя неизмерима, я на грани отчаяния. Я начал жизнь маленьким мальчиком, каждый мой поступок горел в золотой книге добрых и злых дел и должен бы быть впоследствии взвешен и рассмотрен Милосердным Господом, к кому я шел трудно и неуверенно. Я завершаю жизнь, как остов листа, который превратится в перегной, как мышь, раздавленная совиным клювом, как теленок, которого ведут к воротам бойни, откуда нет возврата, за которыми только кровь, прах и тление. И однако ни один зверь не может думать о том, о чем думаю я. Ни лягушка, ни даже гончая не сможет вообразить Ангела Благовещения. Откуда все это?
– Это тайна. Может быть, тайна и есть Бог. Доказано, что тайна эта – материя: мы существуем, и мы разумны, но материя остается таинственной по своей природе, как бы мы ни пытались разобраться в закономерностях ее метаморфоз. Законы изменения материи не объясняют ее сути и источника.
– Сейчас ваши мысли подкрепляют мое мнение. Но я чувствую, что всякое рассуждение – только потуга разума, слишком немощного, чтобы превратить рассуждение в доказательство.
Однако кроме страха есть и надежда. Откуда он, наш разум?
Вне стен шестиугольного кабинета много внимания уделялось тайнам мирским, материальным. Евгения, Ровена, как и другие девушки – ведь для невест требовалось много подружек, – посвящали все время примерке и подгонке нарядов. Портнихи, шляпницы и швеи без конца сновали по детским и будуарам. Краем глаза можно было увидеть странные картины: юные леди стояли неподвижно, укутанные в шелка, точно в кокон, а вокруг них суетились чистенькие и незаметные служанки, их рты щетинились булавками, а пальцы без устали щелкали ножницами. Для Вильяма и Евгении обустраивали новые спальные комнаты. Иногда Евгения приносила на его суд образцы саржи и дамаска. Он не позволял себе высказывать неодобрение и вообще был настолько равнодушен к комфорту, что его даже слегка забавляла эта бурная деятельность, однако не испытал особого удовольствия, оказавшись объектом внимания портного и камердинера Лайонела Алабастера, которые сшили ему не только свадебный костюм, но и заказали достойную джентльмена повседневную одежду для жизни на природе: брюки, куртки и башмаки. Время шло, и на кухнях восхитительно запахло свежими пирогами, студнями и пудингами. Теперь Вильяму полагалось проводить время в курительной комнате в компании Эдгара, Лайонела, Робина Суиннертона и их друзей, которых интересовали всего две темы: они говорили о разведении лошадей и охотничьих собак да о ставках и пари. Пропустив стакан-другой портвейна, Эдгар неизменно принимался пересказывать свои славные подвиги: однажды он на Султане перескочил через стену дальнего загона, так что оба едва не свернули шеи; в другой раз он на спор вскочил на Айвенго через окно в Холл и они проехались от окна до стены по турецкому ковру; раз ему случилось в наводнение переплывать на Айвенго реку и их едва не унесло течением.
Вильям любил во время этих рассказов сидеть в своем углу, спрятавшись за облачком дыма от сигары. На висках и шее Эдгара вздувались жилы. Он, как и его конь, был сильным, неуравновешенным животным. Рассказывая, он то понижал голос до мелодичного бормотанья, то начинал надрывно кричать, так что больно было слушать. Вильям оценивающе разглядывал его. Он решил, что Эдгару в недалеком будущем суждено умереть от апоплексического удара и его смерть пройдет совершенно незамеченной, поскольку его существование бесцельно и лишено ценности. Он представил, как несчастная лошадь, всхрапывая, скользит по полу Холла, ее задние ноги окаменели от напряжения. А этот человек – он смеется, как смеялся, заставляя коня танцевать на каменных плитах, чего тому никогда бы не пришлось делать, живи он на воле. Очевидно, Вильям не до конца отрекся от отцовой суровой веры. Оценивая Эдгара Алабастера глазами Бога, в которого давно не верил, он видел в нем множество недостатков.
Однажды вечером, всего за неделю до свадьбы, он осознал, что и Эдгар приглядывается к нему. Он сидел, откинувшись на спинку, невидимый окружающим, а Эдгар рассказывал о том, как однажды проскочил на двуколке сквозь бреши в семи живых изгородях; должно быть, на лице Вильяма отразились его мысли, потому что он вдруг увидел прямо перед собой красную, потную физиономию Эдгара.
– А у вас не хватило бы на это ни смелости, ни силы. Сидите здесь, глупо улыбаетесь, а такой трюк вам не по зубам.
– Несомненно, – ответил миролюбиво Вильям, вытянув ноги и расслабившись: он знал, что так только и можно противостоять столь злобному напору.
– Мне не нравится, как вы себя ведете. И никогда не нравилось. Складывается впечатление, что вы все время ехидно про себя ухмыляетесь.
– У меня нет нужды ехидничать. Ведь мы теперь как братья, я надеюсь, и я не должен давать вам оснований подразумевать меня в насмешке. Это было бы дурно.
– Ха, братья. Какая чушь. Вы дурно воспитаны, сэр, вы совсем не пара сестре. В вас течет дурная, плебейская кровь.
– Не принимаю обвинений ни в дурной, ни в плебейской крови. Я сознаю, что не ровня вашей сестре, потому что не имею ни больших перспектив, ни состояния. Ваш отец и Евгения отнеслись ко мне очень великодушно, не обратив на это внимания. Надеюсь, со временем вы смиритесь с их решением.
– Вам бы надо ударить меня. Ведь я вас оскорбил. Вы – презренное существо, вы безродны и трусливы. Так встаньте же и ответьте на вызов.
– Незачем. Что до родовитости, так мой отец был честным и добрым человеком, а мне неведомы иные добродетели, достойные уважения. Что же касается смелости, так позвольте вам сказать, что я прожил десять трудных лег на Амазонке, где меня не раз пытались убить, где я постоянно рисковал умереть от укуса ядовитой змеи, что я пережил кораблекрушение и две недели провел на спасательной шлюпке в открытом океане. Можно ли утверждать, что при этом я выказал меньше смелости, чем вы, когда заставили несчастное животное прыгать в окно? Я знаю, что такое истинная смелость, сэр. Быть смелым не значит бросаться с кулаками на обидчика.
– Хорошо сказано, Вильям Адамсон, – проговорил Робин Суиннертон, – хорошо сказано, дружище.
Эдгар схватил Вильяма за грудки:
– Она не будет твоей, слышишь? Ты недостоин ее. Вставай!
– Прошу вас, не дышите мне в лицо. Вы походите на разъяренного дракона. Я не намерен из-за вас бесчестить семью, членом которой надеюсь стать.
– Поднимайся!
– На Амазонке юнцы из местных племен, одурманившись спиртным, ведут себя точно так же. И нередко по неосторожности убивают друг друга.
– А мне плевать, если ты умрешь.
– Согласен. Но не наплевать на собственную жизнь. А если умру я, каково будет Евгении? Ей уже пришлось однажды…
Что он говорит? Его ужаснуло, что он коснулся покойного возлюбленного Евгении, пускай и в гневе. Косвенный намек, прерванный на полуслове, поразительно подействовал на Эдгара. Он побелел, неуверенно выпрямился и тяжелыми руками принялся механически отряхивать брюки. Вильям подумал: «Теперь уж он точно меня убьет» и отклонился в сторону, чтобы избежать удара, готовый вскочить и ударить Эдгара в пах. Но тот лишь выдавил из себя нечто нечленораздельное и, продолжая шлепать ладонями по одежде, вышел из комнаты. Лайонел сказал:
– Прошу вас, не… не обращайте внимания на выходки Эдгара. Он буен в подпитии, но, когда хмель выветривается, подчас и не припомнит, что произошло. Вас оскорбили винные пары.
– Что ж, я рад, если дело только в этом.
– Наш жених молодчина. Цивилизованный человек. Разве мы на войне? Мы – цивилизованные люди в смокингах, которые сидят, когда полагается сидеть. Я восхищаюсь вами, Вильям. Эдгар – анахронизм. Вы уж точно не предполагали, что мне известны такие слова.
– Почему же. Спасибо за вашу доброту.
– Нам надо чаще видеться.
– С огромным удовольствием.
Впоследствии Вильям с трудом мог припомнить, какие чувства испытывал в день свадьбы. Он отметил про себя – точно был не женихом, а сторонним наблюдателем, что всякая церемония вызывает в нем не только ощущение значительности происходящего, но и обостренное ощущение нереальности. Он решил, что это ощущение могло проистекать из отсутствия веры в христианское Писание, в христианский мир, который так трогательно описал ему Гаральд. Аналогии, не имеющие отношения к происходящему, всплывали в памяти даже в эти священнейшие минуты, и, стоя бок о бок с Робином Суиннертоном перед завывающим органом в приходской церкви святого Захарии и наблюдая за тем, как, ведомые под руки Эдгаром и Лайонелом, по проходу между рядами к ним идут Евгения и Ровена, он думал о религиозных праздниках в Пара и Барре, видел, как несут к церкви куклы Девы Марии с нарисованной улыбкой, убранные кружевами, шелком и серебряными лентами, вспоминал индейские пляски и туземцев в масках сов, ибисов и анаконд.
Но свадьба была истинно английской, весьма буколической. Евгению и Ровену одели как сестер – но не близнецов – в белые шелковые платья с длинными кружевными шлейфами; одно было щедро украшено розовыми бутонами, другое, платье Евгении, – кремово-золотистыми кружевами. На обеих были короны из розеток и жемчужные ожерелья. Обе держали букеты из лилий и роз, а когда процессия приблизилась и он встретил свою невесту, от благоухания цветов закружилась голова. За ними следовали маленькие девочки с розовыми и золотыми лентами в волосах, в белых тюлевых платьях, перехваченных в талии атласными поясками; они несли корзины с цветочными лепестками, чтобы осыпать ими новобрачных. Церковь была битком набита: родных и друзей Вильяма не было, зато в избытке были представлены Алабастеры и Суиннертоны, их соседи и знакомые, и все – украшенные цветами и лентами, и все кланялись молодым. Ровена раскраснелась от возбуждения, а Евгения была бледна как воск, бледные губы, ровные, без пятнышка, бесцветные щеки, лишь сияло золото опущенных ресниц. Они произнесли слова брачного обета, и Гаральд обвенчал дочерей, повторяя вопросы звучно и с удовольствием, а затем сказал, как трогательно подобное двойное бракосочетание: становится совершенно ясно, что семья выросла, а не уменьшилась, как обычно случается после свадьбы. Ибо Ровена останется в их приходе, а Евгения остается до поры в родном доме, который стал родным и Вильяму Адамсону – как тут не радоваться?
Вильям должен был бы почувствовать и услышать, что их души как одна произносят слова обета, но этого не случилось. Он чувствовал лишь мягкость великолепного наряда, облекавшего тело Евгении, аромат цветов, слышал, как безукоризненно и четко она отвечала на вопросы отца в отличие от Ровены – та запиналась и сбивалась, прикрывала рукой рот и улыбкой просила мужа извинить ее. Евгения смотрела прямо перед собой, на алтарь. Когда Вильям взял ее руку, чтобы надеть кольцо, ему пришлось потрудиться, чтобы надвинуть его на ее вялый, неживой палец. И, стоя рядом с ней в церкви, отделенный от нее пышными юбками, он подумал: «Как быть, если и ночью она будет такой оцепенелой?» А потом подумал, что наверняка многие мужчины на его месте втайне боялись того же, о чем не скажешь вслух. А когда они двинулись к выходу сквозь толпу почтенных дам в украшенных цветами чепчиках, господ в черных фраках и шелковых галстуках, скромно одетых слуг в соломенных шляпах и работников с фермы, стоявших у самой двери, он подумал, что, пожалуй, на свадьбе каждый гость беспокоится о молодых: «Как-то у них все выйдет?» Идя к выходу, он чувствовал, как потаенные мысли льнут к нему, щекочут его и покалывают. «Она слишком невинна, она ничего не знает», – решил он. И попытался представить, как леди Алабастер рассказывает Евгении о тайнах супружества, но у него ничего не вышло. Леди, в переливающемся розово-лиловом платье, сидела в первом ряду и ласково им улыбалась.
«В конце концов все переживают первую ночь», – решил он, когда, сощурясь от яркого света, ступил на церковный двор, где их встретил птичий гомон и пронзительный визг девочек. Род людской продолжается, и повсеместно, еженощно невинные девушки становятся женами и матерями. Рука Евгении лежала недвижно в его руке, она была очень бледна и едва дышала. Ее мысли и чувства были ему неведомы.
Девочки осыпали их лепестками, налетел ветер, и лепестки взмыли ввысь облаком розовых, золотых и белых крылышек. Девочки носились вокруг молодоженов, пронзительно кричали и швыряли в них пригоршни мягких снарядов.
День прошел за трапезой, в речах и беготне по лужайке, а под конец в танцах. Вильям танцевал с Евгенией, по-прежнему бледной и молчаливой, внимательно следившей за своими движениями. Танцевал с Ровеной – она без остановки смеялась, и с Энидой, которая все болтала о том, как он, незнакомец с потерпевшего крушение корабля, объявился в их доме. Мимо проносилась Евгения в объятиях Эдгара, и Лайонела, и Робина Суиннертона, и даже когда смолкла музыка, казалось, что все продолжают кружиться в вальсе. Наконец, молодая чета Суиннертонов уехала к себе, и Алабастеры занялись приготовлениями ко сну, а Вильям не мог решить, куда же направиться ему, но никто ему не подсказал. Эдгар и Лайонел вели праздную беседу в курительной, но он знал, что там его не ждут, да у него и не было желания к ним присоединяться. Гаральд, проходя мимо по коридору, остановил его и сказал: «Благослови тебя Бог, мальчик мой» – только и всего. Леди Алабастер ушла к себе рано. Вещи Вильяма перенесли из комнатки на чердаке в его новую туалетную комнату, смежную со спальней, обустроенной для него и Евгении. Туда он и поднялся, встревоженный и неприкаянный – Евгения ушла к себе раньше, – ломая голову над вопросом, обязан ли он соблюсти некий предварительный обряд.
В его спальне камердинер стелил постель и согревал ее, что показалось Вильяму излишним. Для него приготовили свежую ночную рубашку и расшитые Евгенией шелковые тапочки. Тощий камердинер в черном сюртуке, с длинными белыми руками и мягкими рыжими бакенбардами налил из синего кувшина в таз воды для умывания и вручил ему мыло и полотенце. Показав, где лежат новые, слоновой кости щетки для волос, подарок Евгении, камердинер поклонился и беззвучно исчез. Вильям прошел к двери спальни и постучал. Он не знал, как себя чувствует жена и как ему вести себя. Но робко надеялся, что они обо всем договорятся.
– Войдите, – раздался звучный голос, и он отворил дверь. Евгения стояла на сброшенном, смятом платье, утопая в кружевах; над юбками, как в вечер их первой встречи, вздымались ее мраморные непорочные плечи. Венок, брошенный на туалетный столик, уже увядал. Худенькая, в черном шерстяном платье горничная, вынув булавки из волос Евгении, расчесывала освобожденные шелковистые пряди, и они ручейками растекались по ее плечам. Каждый раз волосы вздымались навстречу щетке и приникали к ней, пока горничная не взмахивала ею в очередной раз. Они потрескивали.
– Простите, – сказал он, – я, пожалуй, уйду.
– Марте осталось расстегнуть крючки и расчесать меня. Чтобы волосы не секлись, надо ежедневно по меньшей мере двести раз проводить по ним щеткой. Вы не слишком утомились?
– Нисколько, – ответил он, оставаясь в дверях. Какая белоснежная у Евгении кожа. Должно быть, и соски у нее белые. Ему вспомнилась строчка из Бена Джонсона: «Так бела, так нежна, так прелестна она!» И тут он почувствовал себя непрошеным гостем, да еще в присутствии Марты, и смутился; горничной тоже стало неловко, и потому она отвернулась и принялась работать щеткой еще усерднее.
Но Евгения не смутилась. Она переступила теперь уже ненужные оборки и воздушные шелка и сказала:
– Как видите, мы почти закончили. Убери кружева, Марта. Перестань расчесывать и унеси все. Не знаю, все ли здесь так, как вы ожидали. Вам нравятся комнаты? Я постаралась подобрать тона, которые, кажется, вам нравятся, – зеленоватый и кое-где малиновый. Вам нравится?
– О да. Чудесно, очень уютно.
– Не дергай, Марта. Расстегни крючки здесь и здесь. Теперь уже совсем недолго, Вильям.
Значит, ему велят уйти. Оставив дверь приоткрытой, он вернулся в туалетную комнату, облачился в ночную рубашку и надел уютные тапочки. Постоял, прислушиваясь к каждому звуку, свеча и луна за окном освещали его фигуру в ночной рубашке, забавную, точно он завернулся в простыню. Он слышал, как суетилась горничная и как скрипнула кровать, когда Евгения забралась в нее. Наконец, тихонько постучав, горничная приоткрыла дверь.
– Мадам готова принять вас, сэр. Все готово, вы можете войти.
Она придержала дверь, когда он проходил, присела, поправила постель и, опустив глаза, бесшумно выскользнула из комнаты.
Он боялся причинить Евгении боль. Но еще больше он полуосознанно боялся ее осквернить, как земля из стихотворения Джонсона запачкала снег. Он не был чист. Его научили кое-чему, даже научили многому, на танцах в Пара и в мулатских поселках ночами после танцев, и лучше бы сейчас о том не вспоминать, хотя, с другой стороны, и такой опыт мог пригодиться. Евгения сидела в постели; на необъятной кровати с пологом и занавесями громоздились одна на другой мягкие перины, набитые гусиным пухом, подушки, отороченные белыми кружевами, и мягкие валики – мягкое гнездышко, свитое на большой и мрачной кровати. «Как же невинная самочка должна трепетать перед самцом, – подумал он, – это и понятно, ведь она так нежна, так бела, незапятнанна, неприкосновенна». Он стоял, опустив руки.
– Ну же, – сказала Евгения. – Я здесь. Мы оба здесь.
– Милая моя. Никак не могу поверить своему счастью.
– Еще немного сомнений, заставляющих вас стоять на пороге, и вы простудитесь.
На ней была сорочка broderie anglaise[16]16
Английская вышивка, вид декоративной вышивки по белому полотну (фр. ).
[Закрыть], расчесанные волосы веером рассыпались по плечам. В колеблющемся свете ее лицо танцевало у него перед глазами, а вокруг свечи танцевал и метался одинокий горностаевый мотылек. Вильям медленно-медленно приблизился к ней, страшась своего дурного опыта и своей силы, а она засмеялась, задула вдруг свечу и скрылась под одеялом. Когда и он пробрался внутрь, она протянула к нему невидимые руки, и он коснулся ее мягкого тела. Он крепко прижал ее к себе, чтобы утишить дрожь, ее и свою, и проговорил, уткнувшись в ее волосы:
– Я полюбил тебя с той самой минуты, как увидел.
Она ответила тихим, бессловесным стоном, немного испуганным, немного похожим на чириканье птички, устраивающей гнездовье. Он гладил ее волосы и плечи и чувствовал, как на удивление крепко и уверенно она его обнимает, как ее ноги касаются его ног. Все глубже погружалась она и тянула его за собой в глубь темного и теплого гнезда, где почти нечем было дышать и становилось все жарче, так что на их коже выступил пот.
– Я не хочу, чтобы тебе было больно, – сказал он, а ее вздохи, вскрики и знаки удовольствия становились призывнее, когда она, смеясь, то с силой прижималась к нему, то отстранялась от него. Какое-то время он следовал за ней, ловя ее горячие руки, и осмелился, наконец, дотронуться до ее груди, живота, спины; она же отвечала знаками – то ли страха, то ли удовольствия – этого он не понимал. Наконец страсть пересилила его, и он, вскрикнув, вошел в нее, и острые зубки впились ему в плечо, и она, содрогнувшись и отпрянув, приняла его.
– Милая, – прошептал он, оказавшись во влажном тепле, – милая, сладкая моя, ты прелестна.
Она издала странный звук – полусмех, полурыдание. Он думал о тайне взаимного познания, о том, на что способны мужчина и женщина, как и другие твари, когда они безбоязненно подчиняются инстинкту. Евгения, белая и холодная как снег Евгения уткнулась в него горячим лицом и непрерывно целовала и целовала его в шею, где пульсировала вена. Ее пальцы вплелись в его волосы, их ноги сплелись – неужели это та самая Евгения, та, про которую он писал: «Я умру, если она не будет моей»?
– Любимая, – сказал он, – как счастливы мы будем, как же счастливы мы будем… это просто сказка.
Она засмеялась, перекатилась на спину и призывно притянула его к себе. Потом они заснули неспокойным сном, и когда в предрассветном сумраке он проснулся, увидел, что ее огромные глаза устремлены на него, и почувствовал, как руки ее касаются его укромных мест, и услышал знакомые всхлипы, то понял, что она просит еще, еще.
А потом в дверь постучала горничная, она принесла горячей воды, утренний чай и печенье; и Евгения проворно, подобно ящерке, сбегающей с горячего камня, отпрянула и улеглась недвижно, – спящая красавица с безмятежным розовым личиком под прядями волос.
Жил ли он долго и счастливо? Свадебным пиром закончилась сказка; пусть и с немалым трудом, но все же автору удалось преподнести читателю урок морали, и вот он перевернул последнюю страницу романа, в котором мелькнула страшная тень смерти, зато у героев появились чада, а в их отныне безмятежной жизни царит иллюзия вечной гармонии, любви, рождаются и лепечут дети, в садах спеют плоды, в полях наливается хлеб и теплыми ночами люди пожинают урожай. В тайном уголке души Вильяма, как и у большинства людей, жила надежда, что его жизнь сложится именно так, но он прятал эту надежду, боясь заглядывать в неведомое будущее. Он ожидал, что они с женой изобретут для выражения своих чувств никому не известный язык, и смутно надеялся, что она первая найдет этот язык. Женщины великолепно разбираются во всем, что касается чувств, а многое из того, что занимало его, – его научное самолюбие, любовь к открытиям, страсть к путешествиям, – казалось неподходящим предметом для столь тонких изысканий. Первые недели совместной жизни их тела говорили друг с другом языком расплавленного золота, шелковистых прикосновений, нежности, так что серым скучным днем долгое, нежное молчание было естественной формой общения. И вот однажды жена пришла к нему и, потупив глаза, сообщила сдержанно, шепотом, что, кажется, она тяжела и можно ожидать радостного события. Сначала он ощутил укол страха, но тут же подавил его, приласкал жену и поздравил, закружил ее, смеясь, и сказал, что она совсем не та, что раньше, совсем другая, что она дивная и загадочная. Она улыбнулась как бы своим мыслям и сказала, что ей не по себе, что она ощущает некоторую слабость и ее подташнивает, что, конечно же, вполне естественно. И так же внезапно, как открылась, дверь к счастью вновь захлопнулась перед ним и скрыла золотой сад ночей, меда и роз. Он теперь спал один, и жена спала без него в белом гнездышке и медленно пухла, ее груди наливались, появился второй сливочно-белый подбородок, и рос живот.
Забеременев, Евгения растворилась в мире женщин. Она подолгу спала, поздно вставала и уже днем отправлялась на покой. Она все шила крохотные кружевные одежки, тонкие, как паутинка, шарфики, чепчики с оборками и маленькие чулочки. Часами просиживала перед зеркалом, устремив взгляд на отражение своего лилейного лица, а горничная без устали расчесывала ей волосы, которые с каждым разом становились все глаже. Ноги у нее отекали; она подолгу лежала на софе, держа в руке закрытую книгу, уставившись в пространство. В должное время ожидание закончилось, послали за доктором, и Евгения отправилась к себе в спальню в окружении нянек и горничных, одна из которых по прошествии почти восемнадцати часов торжественно сообщила Вильяму, что он теперь счастливый отец и не одного, а двух здоровых младенцев женского пола. Вильям стоял, осмысливая вести, а мимо торопливо сновали женщины, унося что-то в ведрах и запачканное белье в корзинах. Он вошел к Евгении. Она лежала на накрахмаленных подушках, до самого подбородка укрытая покрывалами непорочной белизны, ее волосы были забраны мягкой синей лентой. Его дочери лежали в корзине у кровати, как два одинаковых яйца, точно спеленатые крошечные мумии; их мятые личики были испещрены красноватыми, свинцовыми и белесыми пятнами. От белья поднимался лавандовый запах, смешанный с другим, слабым запахом молока и крови, запахом родов. Вильям нагнулся и поцеловал жену; щека была холодной, хотя на лбу и верхней губе блестели бисеринки пота. Евгения закрыла глаза. В этой комнате, среди этих запахов он показался себе посторонним. Евгения только чуть вздохнула, но ничего не сказала.