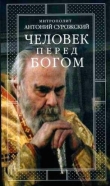Текст книги "Труды"
Автор книги: Антоний Сурожский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Владыка, уже давно в медицине установилась практика пересадки органов. Как относится к этому Православная Церковь, вообще христианство?
Православной Церковью не было сделано никаких авторитетных высказываний. Но я думаю, что вопрос стоит так: должен ли, имеет ли право врач применять любой способ лечения, чтобы спасти жизнь человека и ему помочь остаться живым? Это первое и основное. Если мы принимаем, что роль врача именно в том заключается, чтобы сохранить, уберечь жизнь или, сколько возможно, вернуть человеку здоровье, то пересадка органов – частный случай. Может быть, сейчас он ставит очень много вопросов, потому что это новое явление. Но было время, например, когда не давали анестезии при родах на каком-то принципиальном основании, а теперь никто на это основание никакого внимания не обращает.
Я не думаю, что могут быть какие бы то ни было всецерковные запреты. Но могут быть возражения и богословов, и просто благочестивых людей: можно ли нарушить целостность человеческого организма? Причем организма не только телесного, а организма всего человеческого существа – тела, души и духа. Ведь они составляют одно целое. Дух и душа влияют на тело: тело является проводником очень многого, что доходит до души человека. Можно вспомнить, например, слова апостола Павла: вера от слышания (Рим 10:17). Не будь слышания, ты никогда не узнаешь, что проповедник или верующий тебе хочет передать.
Это ставит вопрос: справедливо ли, можно ли перенести какой-нибудь орган – я сейчас думаю, в частности, о сердце – одного человека в другого? То сердце, которое билось в человеке, было как бы центром всей его жизни, физического благополучия, обеспечивая в значительной мере и мышление, и чувства, и переживания. Можно ли это сердце из человека как бы вырвать и заменить его сердцем другого человека, который жил совершенно иной жизнью, в ком был совершенно иной душевно-духовный строй?
Лично у меня чувство, что есть вещи пусть и не идеальные, но которые можно делать ради того, чтобы сохранить жизнь человеку и дать ему возможность действовать дальше.
Но это не чужая жизнь? Если вопрос о сердце ставится именно так, как ты его поставил, – не есть ли это как бы вторжение чужой жизни?
Я думаю, что человек может включить в себя орган из другого организма, если можно так выразиться, его «переработать» на свой лад, «усвоить», сделать своим, так, чтобы он принял участие во всей его жизни: в физическом благополучии, в переживаниях и, может быть, если слушать мистиков и некоторых врачей, в духовно-мистической его жизни. Я бы сказал, что пересадка возможна. Желательна ли она – это иной вопрос в каждом случае.
В идеале, может быть, стоило бы испрашивать, пока еще не поздно, согласия умирающего на такую пересадку? Может быть, он был бы рад дать согласие, потому что это как раз дар – дар своего сердца, дар своей жизни?
Я согласен с твоей постановкой. Я думаю, что, насколько возможно, надо было бы получить разрешение того человека, сердце которого будет пересажено. И тут могут быть две ситуации. Сейчас очень распространяется система карточек, в которых человек заявляет, что в случае собственной смерти он готов отдать здоровые органы своего тела другому человеку. Иногда можно ставить вопрос иначе по отношению к человеку, который идет к своему концу и у кого такой карточки нет: можно спросить его. Но тут громадная проблема: можно ли всякого человека, не подготовленного духовно, нравственно, спросить: «Вот, сейчас вы умрете, – можно ли из вас извлечь ваше сердце или тот или иной орган?» Мне кажется, что надо было бы трудиться над распространением таких карточек, где человек заранее, когда он еще здоров, когда его не пугает собственная смерть, может принять такое решение.
Возвращаясь к реакции Православной Церкви на пересадку органов: как насчет мнения, что тело свято, что оно богоданное целое?
За историю христианства многое менялось в этом отношении. Когда-то говорилось о том, что нельзя принимать те или другие способы лечения, потому что это нарушение воли Божией. Я думаю, что тут надо не то что идти со временем, но надо, если уж говорить в широком масштабе, понимать, что тело, которое воскреснет в последний день, не состоит из всех костей, мускулов, кожи, составляющих человека в какой-нибудь момент, – просто потому, что за целую жизнь весь состав нашего организма меняется постоянно. Раньше говорилось (и я думаю, что это верно), что каждые семь лет человеческий организм обновляется. Это не то же самое тело, хотя это тело того же самого человека. Новые клетки родились, которые стали частью этого организма, новые силы родились в нем и включились в его жизнь. Поэтому невозможно говорить, что в день последнего воскресения наши тела восстанут такими, какие они сегодня, а не какие они были вчера или будут через три недели. Речь идет о том, что наша телесность будет воскрешена, в каком виде и как – мы не имеем никакого понятия и никаких указаний в этом отношении. Поэтому речь идет не о том, чтобы сохранить в целости тело данного человека, какой он есть сегодня. Речь о том, чтобы дать возможность этому телу продолжать жить и действовать и принимать творческое участие во всей целокупности жизни этого человека: его умственной жизни, жизни его сердца, любви.
Человек, который завещает свое тело в целом или частями для спасения других людей, жизнь свою кладет «за други своя». Он, конечно, не умирает нарочно, но он заранее говорит, что готов, как только умрет, на то, чтобы его тело было употреблено для жизни другого человека. Мне это представляется даром, который человек имеет право принести и который мы имеем право принять с благоговением, с трепетом душевным. Это замечательный поступок.
Иногда родственники жертвуют тот или другой орган еще при своей жизни, что требует, наверное, еще больше внимания и любви…
Да, это бывает. Скажем, родители, братья, сестры, друзья отдают близкому человеку тот или другой орган, который у них есть как бы «вдвойне» (например, почку), отдают какие-то частицы своего тела, особенно кровь. Это постоянно делается, и никто не возмущается. И вот что примечательно: когда речь идет о пересадке органов, люди начинают ставить вопросы, а когда говорится о переливании крови от человека к человеку, люди идут на это совсем спокойно, тогда как в Ветхом Завете (напр., Лев 17:11-14; Втор 12:23) и даже в сознании всемирном кровь – носитель жизни, твоей собственной неповторимой жизни{22}22
Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте (Быт 9:4). В библейском словоупотреблении (нéфеш – дыхание, душа) означает жизнь: И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою (Быт 2:7). Причина запрета на вкушение крови не выяснена. Одна из возможных гипотез состоит в том, что соблюдение этого запрета давало возможность реинкарнации или бесконечного продления жизни убитых и съеденных животных, если их кровь ритуальным образом излилась на землю (такое объяснение существует в Каббале и у некоторых ее современных толкователей: см.: Рабби А. Штейнзальц «Вавилонский Талмуд. Антология Аггады». М.-Иерусалим, 2001, т. 1, с. 162-171; см. также: Тантлевский И. Р. «Введение в Пятикнижие». М.: РГГУ, 2000, с. 245-251, 355-360): Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею (Лев 17:13).
[Закрыть].
Жертвенный подход может быть проявлен и со стороны пациента. Например, я думаю, что можно сказать человеку: «Вот, у вас такая-то болезнь. У нас есть сейчас способ ее лечить, который не проверен и может быть опасен, может вызвать у вас страдание или быть убийственным. Согласились ли бы вы использовать этот метод лечения, зная, что он может нам помочь сделать громадный шаг вперед для исцеления других людей, – даже если это вам причинит страдания, даже если это вас убьет?» И я думаю, что такие люди встречаются. Мне не приходилось ставить вопрос в такой форме, с такой резкостью, но есть люди, которые отдают себя на какой-нибудь эксперимент, – не как бессознательные кролики, а зная, что их это может спасти или не спасти, но поможет спасти тысячи людей, если опыт окажется оправданным.
Иногда врачу приходится решать: кому пересадить орган и тем спасти этого человека, кому отказать в таком средстве…
Я думаю, что это один из самых трудных вопросов медицинской практики, не только по отношению к пересадке органов. Он встает постоянно, скажем, во время войны. Перед тобой несколько раненых. Ты не можешь спасти всех. На кого ты обратишь больше внимания? Ты выбираешь того, который может выжить, – и за его счет кто-нибудь умрет. Ты не обязательно выбираешь того человека, которого тебе хотелось бы спасти, ты решаешь вопрос только в контексте данной ситуации.
По отношению к пересадке органов вопрос стоит так же. Один больной – отец семьи, он единственный зарабатывает на жизнь и может обеспечить семью. Другой – выдающийся ученый. Если он умрет, наука и человечество потеряют что-то очень важное. Еще другой человек очень молод, перед ним вся жизнь. Как решать? И вот тут приходится принимать – как бы сказать? – «бессердечные» решения. Взвесить все возможности, потому что иногда пересадка почти наверняка удастся, иногда успех ее очень сомнителен; и если речь идет о выборе, то и это приходится принимать в учет. Когда рассматриваешь такую нужду, перед тобой и другой вопрос: не всякий организм может принять пересадку из любого другого организма. Поэтому делается очень тщательное исследование совместимости, хотя абсолютной уверенности никогда нет. Но если в одном случае уверенность бóльшая, в другом меньшая – это играет важную роль. Это решение отчасти профессиональное, тут важны твои знания, твой опыт, все, чем тебя наделила наука. С другой стороны, иногда встает душу разрывающая нравственная проблема. Дадим ли мы умереть юноше, спасти которого умоляют его родители, потому что думаем: нет, он не сможет принять этот орган, или: он не выживет больше одного-двух лет, тогда как другой человек этот орган может принять и прожить дольше?
Думаю, что по отношению к врачу можно было бы сказать то, что святой Максим Исповедник говорил о богослове: у него должно быть пламенное сердце и ледяной мозг. С одной стороны, ты должен пламенеть состраданием, любовью, всеми самыми глубокими человеческими чувствами, освященными еще и твоей верой, с другой стороны, ты не имеешь права отдаться порыву сердца без того, чтобы очень хладнокровно, строго взвесить с научной точки зрения и с человеческой точки зрения то решение, которое ты примешь.
И это дилемма, на которую нельзя дать пропись. Нельзя сказать: надо спасать таких-то и не спасать других. Ты принимаешь решение, которое в каждом отдельном случае и рискованно, и мучительно, потому что, если ты даже одного человека отстранишь, у тебя разрывается сердце.
В наше время есть возможность исправить всеобщее здоровье человеческого рода. Но это значит, что человек как бы вмешивается в Божеские дела. Как ты на это смотришь?
Скажу, во-первых, что вмешательство человека происходило все время. Мы только играем в прятки, когда говорим, что в таком-то случае мы вмешиваемся, в другом не вмешиваемся. Каждый раз, когда врач дает какое бы то ни было лекарство, он вмешивается. Каждая операция – вмешательство. Каждое изменение условий жизни, хотя бы санаторий, – тоже вмешательство. Надо говорить очень прямо и просто, что бывает необходимость вмешиваться как в состояние здоровья отдельного лица, так и в состояние родового здоровья данной генетической линии. Это решение очень ответственное, но все зависит от того, во что ты вмешиваешься. Если у человека болезнь, которую он будет передавать из рода в род, и ты можешь пресечь эту передачу болезни, – да, ты вмешался раз и навсегда, и за это тебя будут благодарить. Скажем, если прекратить в родовой линии гемофилию, то этим можно спасти целый ряд мужчин, которым была бы передана эта болезнь генетически, от трагической жизни и еще более трагической смерти, и в этом ничего предосудительного нет. Этим ты не создаешь нового рода человека, не похожего на богосозданного человека. Ты просто исправляешь то, что в течение тысячелетий случилось генетически или иначе и что можно прекратить ради счастья не только данного человека, но и целого ряда других людей. Если же ты вмешиваешься и стараешься создать новый род человека – это недопустимо, потому что предполагает, что те люди, которые вмешиваются, заранее знают, куда это приведет, и хотят создать человека, отвечающего их представлениям.
Владыка, трудный и трагический вопрос – вопрос аборта. Конечно, он ставится «ретроспективно», когда женщина приходит на исповедь и кается в совершенном. Но как быть, если женщина приходит к тебе в медицинской нужде и просит твоего совета, может быть, и благословения? Ведь аборт как таковой Церковь запрещает…
Я думаю, что вопрос этот более сложный, чем он кажется людям, которые просто читают церковные правила. В поучительном наставлении духовнику перед исповедью ясно указано, что аборт является убийством и за ним следует запрещение причащаться в течение минимум двадцати лет. Так что с этой точки зрения ясно: Церковь рассматривала аборт так же строго, как убийство.
В этом отношении меня очень поразила фраза, которую я услышал раз от мирянина, даже не от священника, в разговоре с женщиной, которая хотела сделать аборт. Он ей поставил вопрос: «А как вы думаете: жизнь, которая зачинается в вас, когда делается жизнью человека? Или вы думаете, что до какого-то момента вами будет выброшен не человек?» Она ответила: «Думаю, что после нескольких недель зародыш, может быть, уже принимает образ человека, но не ранее того». И собеседник ей сказал: «А как вы думаете: зачатие Христа совершилось в момент Благовещения или через 24 недели?» И меня это очень поразило. Потому что, действительно, Христос, Сын Божий, принял плоть в этот момент, а не когда-то позже.
Церковь – правда, не выражая вещи в такой форме – рассматривает проблему в этих же категориях: что в момент, когда две клетки, женская и мужская, соединились и началось развитие нового существа, это существо уже человек. Поэтому говорить, что выкинуть зародыш до какого-то момента позволительно и нельзя после, медицински можно, но нравственно нельзя. Медицински, я думаю, бывают случаи, когда аборт допустим: когда ребенок живым не родится, мать может умереть при родах. Это не общественный вопрос, это не вопрос веры или неверия. Это чисто медицинский вопрос о том, будет ли зачавшееся существо жить или умрет при рождении, не погубит ли это существо по медицинским причинам свою мать и себя.
Есть еще один вопрос: дети, которые родятся ущербными – или физически изуродованными, или психически неполноценными… Вот тут вопрос очень сложный. Некоторые женщины настолько хотят ребенка, что готовы идти на то, чтобы родился ребенок, который заведомо будет всю жизнь страдать физически или психически. Они идут на это потому только, что «хотят иметь ребенка». Это мне кажется чисто эгоистическим подходом, такие матери о ребенке не думают. Они думают о своем материнстве, о том, как они изольют на этого ребенка всю свою ласку и любовь. Но многие из таких матерей не знают, способны ли они ласку и любовь проявить к ребенку, который у них вызывает физическое отвращение, ужас.
Тем не менее урод тоже является человеком, а есть правило, что человека нельзя убивать. Как тогда подходить к этому вопросу?
Честно говоря, не знаю, как к нему подойти. Я думаю, есть случаи, когда лучше бы ребенку не родиться на свет, чем родиться страшно изуродованным психически или физически. Когда думаешь: вот, родился ребенок… Пока он еще малюсенький, это еле заметно, но этот человек вырастет, ему будет двадцать лет, и тридцать, и еще столько лет, и в течение всей жизни ничего, кроме физической или психической муки, не будет. Имеем ли мы право присуждать человека на десятилетия психического и физического страдания потому только, что хотим, чтобы этот ребенок родился и был моим сыном, моей дочерью?
Я не знаю, как это канонически обусловить, но медицински, думаю, тут есть очень серьезный вопрос, который можно решать врачу, даже верующему, в этом порядке. Я видел таких детей, которые рождались и были искалечены на всю жизнь, видел, что совершалось в результате с психикой матери, отца и их взаимными отношениями.
А иногда бывает чисто безнравственный подход. Например, недавно я читал о том, как чета, в которой мать передавала гемофилию, настаивала, чтобы у них рождались дети, хотя знала, что они будут погибать, но – «мы хотим детей». В данном случае, конечно, выход был бы не в аборте, а либо в воздержании, либо в противозачаточных средствах – законных и не представляющих собой никакого уродства.
С какой точки зрения ты говоришь такие вещи, Владыка: это жалость к человеку, или можно сказать, что это подлинно христианский подход?
Ты мне ставишь очень трудный вопрос – в том смысле, что я не могу сказать, что я зрелый и совершенный христианин, который может ответить как бы от имени Христова. Могу только сказать, на основании очень теперь длинной жизни, что речь идет не о том, чтобы пересматривать существующие церковные правила, но надо задуматься, при каких условиях они были провозглашены, что люди знали о жизни, о смерти, о зачатии в тот момент, когда были определены те или другие правила. И для меня несомненно, что некоторые правила применимы в той области, в которой они соответствовали знанию. Но когда появляется новое знание, новое понимание, приходится не каноны изменять, а задумываться над тем, в какой мере и в какой полноте мы их можем применять – или имеем право не применять.
И это мы делаем постоянно. Когда человек приходит на исповедь, мы, например, никогда не применяем существующих правил об отлучении от Церкви, о лишении причастия на десятки лет. И не потому, что мы безразлично к этому относимся, а потому, что цель всякого закона и всякого применения закона – спасение человека, помощь ему. Я не могу разделить в себе человека, христианина, епископа, врача. Бывают ситуации, в которых я взял бы на себя ответственность поступить так или иначе, потому что в уродливом мире, в котором мы живем, применять абсолютные идеальные правила – нереально. Надо эти правила рассматривать именно как идеальную мерку и применять все, что возможно, в той мере, в какой оно соответствует росту, спасению и жизни – в самом сильном смысле слова.
Как верующему – да и не только верующему – относиться к искусственному оплодотворению женщины?
Если у данной женщины нет возможности иметь ребенка естественным образом, то можно взять семя ее собственного мужа, ее этим семенем оплодотворить. Это мне кажется вполне законным, потому что иногда бывает такое состояние здоровья или организма, когда мужчина не может оплодотворить свою жену. Но если речь идет о том, чтобы женщину, которая не может от своего мужа получить семя, оплодотворить семенем, происходящим откуда-то, мне кажется, что велика вероятность возникновения (даже ниже уровня сознания, а где-то в подсознании) отчуждения между ее мужем и ребенком: это не его ребенок, это сын или дочь его жены, но он сам тут ни при чем. И это положение хуже, чем положение мужчины, женившегося на женщине, у которой есть дети от предыдущего брака. Тут он точно знает, на что идет. Знает свою возлюбленную, знает ее детей, знает, с кем она рассталась, и готов это все принять, тогда как в упомянутом случае он оказывается перед лицом неизвестного существа.
Значит, мы уже говорим о таинстве брака, об основном элементе супружеской жизни…
Да, потому что если мы говорим с точки зрения верующих, то, конечно, не можем обойти этот подход. Брак не есть просто способ размножения. Брак в своей основе является вершиной взаимоотношений двух существ, которые соединены любовью. Замечательно, что один из отцов Церкви, кого я сейчас не могу назвать, не помню его имя, говорил, что телесное соединение мужа и жены можно сравнить только с соединением верующего со Христом в причащении Святых Тайн… Вот – уровень. И поэтому для верующего вопрос стоит более, может быть, сурово. Не говоря уже о том, что, если муж или жена не могут иметь детей по своему физиологическому состоянию, это можно принять как волю Божию. Не обязательно всеми способами стремиться это превозмочь, следует принять это вдумчиво. Может быть, Господь хочет остановить этот род, может быть, Он хочет создать между этими мужем и женой отношения, которые – я бы не сказал: выше, но – совершенно иные, нежели те, которые были бы при наличии детей.
Как быть, если муж или жена несет заболевание, с которым медицина еще не умеет справляться, но которое не следует передавать последующему поколению? Должны ли они просто воздерживаться от половых отношений?
Я думаю, что в идеале – да, но это в значительной мере нереально. Нужна огромная духовная зрелость и сила, чтобы молодой жене и молодому мужу отказаться от брачного телесного соединения. Но тогда может вступить другой элемент – врачебный, медицинский. Они могут сказать: мы хотим прекратить передачу этой неисцелимой болезни нашим детям, внукам, потомкам… Это может быть сделано хирургически и по отношению к жене, и по отношению к мужу, может быть сделано и иным образом. Я считаю это вполне законным вмешательством, потому что его цель не в том, чтобы дать возможность мужу и жене телесно общаться без «риска» иметь детей, а в том, чтобы не могло появиться потомство, которое впоследствии, может, будет их проклинать за то, что ему передали эту болезнь.
Тут есть две возможности: одна – не до конца надежная – противозачаточные средства, вторая – стерилизация. Как относиться к тому и к другому?
Думаю, можно относиться положительно и к тому, и к другому. Вопрос, конечно, стоит гораздо острее в связи со стерилизацией, потому что это какое-то медицинское вмешательство. Но я думаю, что – опять-таки, если намерение верно, если цель достойная – стерилизация вполне законна. Противозачаточные средства не всегда надежны. Аборт совершенно исключен Церковью и, я бы сказал, здравым человеческим чувством. А стерилизация, с моей точки зрения, – такая же нравственно законная мера, как противозачаточные средства.
В заключение вопрос: каковы официальные церковные взгляды в области медицинской этики?
Я думаю, что Православная Церковь в целом за последние столетия не ставила этих вопросов, не обсуждала и не решала их{23}23
На Архиерейском соборе, проходившем 13-16 августа 2000 г., был принят документ под названием «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», в котором, в частности, были обсуждены вопросы медицинской этики. См.: «Церковь и мир. Основы социальной концепции РПЦ». М.: Даниловский благовестник, 2000, пп. XI-XII.
[Закрыть]. Но, с другой стороны, не было времени, когда Церковь – не то что по слабости или податливости, но по глубокому своему разуму – не делала различия между намерениями. Если ты стремишься, чтобы не зародился ребенок, потому что находишься в такой нищете, что этот ребенок умрет с голоду, – это одно. Если ты не хочешь иметь ребенка потому, что ищешь себе беспечной жизни, – это определенно греховно.
Я думаю, что Церковь молчит отчасти потому, что те, кто должен был бы выражать церковные взгляды, в громадном своем большинстве, в лице епископов, являются монахами, поэтому они не стоят перед лицом конкретной проблемы в своей жизни или в жизни очень близких людей вокруг. И отчасти – потому, что у нас в Православной Церкви нет традиции вникать в конкретные проблемы и предлагать конкретные решения или наставления.
Для этого надо бы создать хорошую комиссию на должном уровне, где участвовали бы не только архиереи и богословы, но и врачи, генетики?
Очень было бы хорошо! Для этого нужно, во-первых, чтобы Церковь признала наличие проблем, во-вторых, этих людей заранее не связывать ничем из прошлого, а только евангельской истиной и учением святых отцов. Причем – не рассуждениями отцов с точки зрения культуры или науки их времени. Я имею в виду, что нельзя, например, основывать современное мировоззрение о начале творения на писаниях святого Василия Великого, который не имел понятия об очень многом, что мы теперь знаем достоверно. Его нравственное суждение – одно, а его научная подготовка – другое. Современная наука и опыт человечества раскрывают нам Евангелие по-иному, и Евангелие раскрывает нам современные ситуации совершенно иным образом, чем в средние века.
Так что ни давние высказывания святых отцов, ни общецерковное молчание не должно препятствовать нашей умственной и духовной работе?
Думаю, что Церковь будет молчать, может быть, еще долго. Но люди, которые являются Церковью, должны думать и ставить перед собой вопросы, и сколько умеют – лично, в одиночку и группами или широкими общинами – их как бы предварительно решать и подносить Церкви возможное решение тех или иных вопросов, на которые Церковь не давала или не дает определенных ответов.
«Подносить Церкви» – это интересное выражение. Что оно означает? Подносить общему сознанию Церкви, или Церкви, которая собрана в Поместном соборе или во Вселенском соборе?
И то, и другое. С одной стороны, вопросы должны быть поставлены всему церковному народу. С другой – и вопросы, и предварительные ответы должны быть поднесены Церкви в более узком смысле слова: епископату, богословам и тем ученым, которые могут быть привлечены к пониманию этих вопросов.
Если ждать, чтобы Вселенская Церковь высказалась на ту или другую тему, то, скажу честно, можно успокоиться и знать, что «когда-нибудь» – да, это будет, но не во время моей жизни. Вопрос идет о том, что сделает Русская Церковь или Греческая Церковь, что думает та или другая Церковь. Замечательные вещи говорил архиепископ Павел Финляндский, он был на десять шагов впереди других Церквей. А о грядущем Всеправославном соборе говорится уже лет тридцать{24}24
Необходимость созыва Всеправославного собора (или Святого и Великого Собора Православной Церкви) была осознана еще в 1920-1930-е гг. Его подготовка началась на Первом Всеправославном совещании в 1961 г. на острове Родос и была продолжена впоследствии на других подобных совещаниях, работу которых координировал специальный секретариат (в Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези, Женева) и межправославная подготовительная комиссия. В 1970-1980-е гг. было принято несколько документов, посвященных православному свидетельству в современном мире. С изменением в начале 1990-х гг. политической ситуации в Восточной Европе и возникновением межправославных конфликтов подготовка к Собору была практически прекращена.
[Закрыть], – я буду в могиле, когда он соберется…