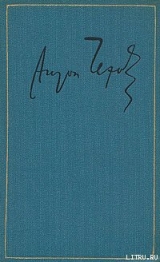
Текст книги "Рассказы. Повести. 1892-1894"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
Он находился в таком настроении, что говорил бы еще очень долго, но, к счастью, послышался голос кучера. Пришли наши лошади. Мы сели в коляску, и Сорок Мучеников, сняв шапку, подсадил нас обоих и с таким выражением, как будто давно уже ждал случая, чтобы прикоснуться к нашим драгоценным телам.
– Дмитрий Петрович, позвольте к вам прийти, – проговорил он, сильно моргая глазами и склонив голову набок. – Явите божескую милость! Пропадаю с голоду!
– Ну, ладно, – сказал Силин. – Приходи, поживешь три дня, а там увидим.
– Слушаю-с! – обрадовался Сорок Мучеников. – Я сегодня же приду-с.
До дому было шесть верст. Дмитрий Петрович, довольный тем, что наконец высказался перед другом, всю дорогу держал меня за талию, и уж не с горечью и не с испугом, а весело говорил мне, что если бы у него в семье было благополучно, то он вернулся бы в Петербург и занялся там наукой. То веяние, говорил он, которое погнало в деревню столько даровитых молодых людей, было печальное веяние. Ржи и пшеницы у нас в России много, но совсем нет культурных людей. Надо, чтобы даровитая, здоровая молодежь занималась науками, искусствами и политикой; поступать иначе – значит быть нерасчетливым. Он философствовал с удовольствием и выражал сожаление, что завтра рано утром расстанется со мной, так как ему нужно ехать на лесные торги.
А мне было неловко и грустно, и казалось мне, что я обманываю человека. И в то же время мне было приятно. Я смотрел на громадную, багровую луну, которая восходила, и воображал себе высокую, стройную блондинку, бледнолицую, всегда нарядную, пахнущую какими-то особенными духами, похожими на мускус, и мне почему-то весело было думать, что она не любит своего мужа.
Приехав домой, мы сели ужинать. Мария Сергеевна, смеясь, угощала нас нашими покупками, а я находил, что у нее в самом деле замечательные волосы и что улыбается она, как ни одна женщина. Я следил за ней, и мне хотелось в каждом ее движении и взгляде видеть то, что она не любит своего мужа, и мне казалось, что я это вижу.
Дмитрий Петрович скоро стал бороться с дремотой. После ужина он посидел с нами минут десять и сказал:
– Как вам угодно, господа, а мне завтра нужно вставать в три часа. Позвольте оставить вас.
Он нежно поцеловал жену, крепко, с благодарностью пожал мне руку и взял с меня слово, что я непременно приеду на будущей неделе. Чтобы завтра не проспать, он пошел ночевать во флигель.
Мария Сергеевна ложилась спать поздно, по-петербургски, и теперь почему-то я был рад этому.
– Итак? – начал я, когда мы остались одни. – Итак, вы будете добры, сыграете что-нибудь.
Мне не хотелось музыки, но я не знал, как начать разговор. Она села за рояль и сыграла, не помню что. Я сидел возле, смотрел на ее белые, пухлые руки и старался прочесть что-нибудь на ее холодном, равнодушном лице. Но вот она чему-то улыбнулась и поглядела на меня.
– Вам скучно без вашего друга, – сказала она.
Я засмеялся.
– Для дружбы достаточно было бы ездить сюда раз в месяц, а я бываю тут чаще, чем каждую неделю.
Сказавши это, я встал и в волнении прошелся из угла в угол. Она тоже встала и отошла к камину.
– Вы что хотите этим сказать? – спросила она, поднимая на меня свои большие, ясные глаза.
Я ничего не ответил.
– Вы сказали неправду, – продолжала она, подумав. – Вы бываете здесь только ради Дмитрия Петровича. Что ж, я очень рада. В наш век редко кому приходится видеть такую дружбу.
«Эге!» – подумал я и, не зная, что сказать, спросил: – Хотите пройтись по саду?
– Нет.
Я вышел на террасу. По голове у меня бегали мурашки и мне было холодно от волнения. Я уже был уверен, что разговор наш будет самый ничтожный и что ничего особенного мы не сумеем сказать друг другу, но что непременно в эту ночь должно случиться то, о чем я не смел даже мечтать. Непременно в эту ночь, или никогда.
– Какая хорошая погода! – сказал я громко.
– Для меня это решительно всё равно, – послышался ответ.
Я вошел в гостиную. Мария Сергеевна по-прежнему стояла около камина, заложив назад руки, о чем-то думая, и смотрела в сторону.
– Почему же это для вас решительно всё равно? – спросил я.
– Потому что мне скучно. Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно. Впрочем… это для вас не интересно.
Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что она скажет.
– Вы, пожалуйста, не церемоньтесь, – сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать с досады. – Если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите.
Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал ноты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от занавесок, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку аллей тянулись черные тени деревьев.
– Мне тоже нужно уезжать завтра, – сказал я.
– Конечно, если мужа нет дома, то вам нельзя оставаться здесь, – проговорила она насмешливо. – Воображаю, как бы вы были несчастны, если бы влюбились в меня! Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на шею… Посмотрю, с каким ужасом вы побежите от меня. Это интересно.
Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной, страстной любви. Я уже смотрел на это прекрасное создание, как на свою собственность, и тут впервые я заметил, что у нее золотистые брови, чудные брови, каких я раньше никогда не видел. Мысль, что я сейчас могу привлечь ее к себе, ласкать, касаться ее замечательных волос, представилась мне вдруг такою чудовищной, что я засмеялся и закрыл глаза.
– Однако уже пора… Спокойной ночи, – проговорила она.
– Я не хочу спокойной ночи… – сказал я, смеясь и идя за ней в гостиную. – Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной.
Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня и рада, что я тоже понимаю ее.
Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне об его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить!
В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка – всё это улыбалось мне в тишине, спросонок, и, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспировской пьесы: как сладко спит сияние луны здесь на скамье!
В саду была горка. Я взошел на нее и сел. Меня томило очаровательное чувство. Я знал наверное, что сейчас буду обнимать, прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови, и мне хотелось не верить этому, дразнить себя, и было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась.
Но вот неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллее показался мужчина среднего роста, и я тотчас же узнал в нем Сорок Мучеников. Он сел на скамью и глубоко вздохнул, потом три раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть.
– Ну, жизнь! – проговорил он. – Несчастная, горькая жизнь!
Глядя на его тощее, согнутое тело и слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне, и мне стало жутко и страшно своего блаженного состояния. Я спустился с горки и пошел к дому.
«Жизнь, по его мнению, страшна, – думал я, – так не церемонься же с нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, бери всё, что можно урвать от нее».
На террасе стояла Мария Сергеевна. Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею…
В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви, плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете, и она казалась мне прекрасным сном, и я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов… Но все-таки далеко, где-то в глубине души я чувствовал какую-то неловкость и мне было не по себе. И ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, а я хотел, чтобы не было ничего серьезного – ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором – и баста.
Ровно в три часа она вышла от меня и, когда я, стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ее фигуре было написано отвращение. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату.
– Тут я забыл вчера свою фуражку… – сказал он, не глядя на меня.
Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным, сиплым голосом:
– Мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то… поздравляю вас. У меня темно в глазах.
И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запрягал лошадей. Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался на дом; вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям.
Немного погодя уехал и я сам. Уже восходило солнце и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел Сорок Мучеников, уже успевший где-то выпить, и молол пьяный вздор.
– Я человек вольный! – кричал он на лошадей. – Эй, вы, малиновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!
Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают.
– Зачем я это сделал? – спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. – Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтоб она любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой? Причем тут фуражка?
В тот же день я уехал в Петербург, и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе.
Рассказ неизвестного человека
I
По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлову. Было ему около тридцати пяти лет и звали его Георгием Иванычем.
К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного человека, которого считал я серьезным врагом своего дела. Я рассчитывал, что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца.
Обыкновенно часов в одиннадцать утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иваныч сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удовольствия. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия; потом, с мокрою от умыванья головой и пахнущий свежими духами, он шел в столовую пить кофе. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрели на него. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унизительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов.
У меня тогда начиналась чахотка, а с нею еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки. Не знаю, под влиянием ли болезни, или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что собственно мне нужно. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля; то я воображал, как я покупаю десятин пять земли и живу помещиком; то я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь провинциального университета. Я – отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. Мне снились горы, женщины, музыка, и с любопытством, как мальчик, я всматривался в лица, вслушивался в голоса. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно всё на свете, даже Орлов.
Наружность у Орлова была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. Описывать обыкновенную наружность едва ли и следует; к тому же Петербург – не Испания, наружность мужчин здесь не имеет большого значения даже в любовных делах и нужна только представительным лакеям и кучерам. Заговорил же я о лице и волосах Орлова потому только, что в его наружности было нечто, о чем стоит упомянуть, а именно: когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выражение легкой, не злой насмешки. Перед тем, как прочесть что-нибудь или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря. Это была ирония привычная, старой закваски, и в последнее время она показывалась на лице уже безо всякого участия воли, вероятно, а как бы по рефлексу. Но об этом после.
В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. Обедал он не дома и возвращался после восьми. Я зажигал в кабинете лампу и свечи, а он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и у меня в лакейской в углах и под моею кроватью лежало множество книг на трех языках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. Читал он с необыкновенною быстротой. Говорят: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Это, быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философия, и французские романы, и политическая экономия, и финансы, и новые поэты, и издания «Посредника», – и всё он прочитывал одинаково быстро и всё с тем же ироническим выражением глаз.
После десяти он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро.
Жили мы с ним тихо и мирно и никаких недоразумений у нас не было. Обыкновенно он не замечал моего присутствия, и когда говорил со мною, то на лице у него не было иронического выражения, – очевидно, не считал меня человеком.
Только один раз я видел его сердитым. Однажды – это было через неделю после того, как я поступил к нему, – он вернулся с какого-то обеда часов в девять; лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шел за ним в кабинет, чтобы зажечь там свечи, он сказал мне:
– У нас в комнатах чем-то воняет.
– Нет, воздух чист, – ответил я.
– А я тебе говорю, что воняет, – повторил он раздраженно.
– Я каждый день отворяю форточки.
– Не рассуждай, болван! – крикнул он.
Я обиделся и хотел возражать, и бог знает, чем бы это кончилось, если бы не вмешалась Поля, знавшая своего барина лучше, чем я.
– В самом деле, какой дурной запах! – сказала она, поднимая брови. – Откуда бы это? Степан, отвори в гостиной форточки и затопи камин.
Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. А Орлов все был не в духе; он, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидел за столом и быстро писал письмо. Написавши несколько строк, он сердито фыркнул и порвал письмо, потом начал снова писать.
– Чёрт их возьми! – пробормотал он. – Хотят, чтоб я имел чудовищную память!
Наконец письмо было написано; он встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне:
– Ты поедешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли муж, то есть господин Красновский. Если он вернулся, то письма не отдавай и поезжай назад. Постой!.. В случае, если она спросит, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что с восьми часов у меня сидят два каких-то господина и что-то пишут.
Я поехал на Знаменскую. Швейцар сказал мне, что господин Красновский еще не вернулись, и я отправился на третий этаж. Мне отворил дверь высокий, толстый, бурый лакей с черными бакенами и сонно, вяло и грубо, как только лакей может разговаривать с лакеем, спросил меня, что мне нужно. Не успел я ответить, как в переднюю из залы быстро вошла дама в черном платье. Она прищурила на меня глаза.
– Зинаида Федоровна дома? – спросил я.
– Это я, – сказала дама.
– Письмо от Георгия Иваныча.
Она нетерпеливо распечатала письмо и, держа его в обеих руках и показывая мне свои кольца с брильянтами, стала читать. Я разглядел белое лицо с мягкими линиями, выдающийся вперед подбородок, длинные, темные ресницы. На вид я мог дать этой даме не больше двадцати пяти лет.
– Кланяйтесь и благодарите, – сказала она, кончив читать. – Есть кто-нибудь у Георгия Иваныча? – спросила она мягко, радостно и как бы стыдясь своего недоверия.
– Какие-то два господина, – ответил я. – Что-то пишут.
– Кланяйтесь и благодарите, – повторила она и, склонив голову набок и читая на ходу письмо, бесшумно вышла.
Я тогда встречал мало женщин, и эта дама, которую я видел мельком, произвела на меня впечатление. Возвращаясь домой пешком, я вспоминал ее лицо и запах тонких духов, и мечтал. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.
II
Итак, с хозяином мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я так боялся, поступая в лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. Я не ладил с Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что он барин, и презиравшая меня за то, что я лакей. Вероятно, с точки зрения настоящего лакея или повара, она была обольстительна: румяные щеки, вздернутый нос, прищуренные глаза и полнота тела, переходящая уже в пухлость. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась в корсет и носила турнюр и браслетку из монет. Походка у нее была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертела или, как говорится, дрыгала плечами и задом. Шуршанье ее юбок, треск корсета и звон браслета и этот хамский запах губной помады, туалетного уксуса и духов, украденных у барина, возбуждали во мне, когда я по утрам убирал с нею комнаты, такое чувство, как будто я делал вместе с нею что-то мерзкое.
Оттого ли, что я не воровал вместе с нею или не изъявлял никакого желания стать ее любовником, что, вероятно, оскорбляло ее, или, быть может, оттого, что она чуяла во мне чужого человека, она возненавидела меня с первого же дня. Моя неумелость, не лакейская наружность и моя болезнь представлялись ей жалкими и вызывали в ней чувство гадливости. Я тогда сильно кашлял и, случалось, по ночам мешал ей спать, так как ее и мою комнату отделяла одна только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мне:
– Ты опять не давал мне спать. В больнице тебе лежать, а не у господ жить.
Она так искренно верила, что я не человек, а нечто стоящее неизмеримо ниже ее, что, подобно римским матронам, которые не стыдились купаться в присутствии рабов, при мне иногда ходила в одной сорочке.
Однажды за обедом (мы каждый день получали из трактира суп и жаркое), когда у меня было прекрасное мечтательное настроение, я спросил:
– Поля, вы в бога веруете?
– А то как же!
– Стало быть, вы веруете, – продолжал я, – что будет страшный суд и что мы дадим ответ богу за каждый свой дурной поступок?
Она ничего не ответила и только сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной натуры не было ни бога, ни совести, ни законов, и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника.
В необычной обстановке, да еще при моей непривычке к ты и к постоянному лганью (говорить «барина нет дома», когда он дома), мне в первую неделю жилось у Орлова не легко. В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах. Но потом привык. Как настоящий лакей, я прислуживал, убирал комнаты, бегал и ездил, исполняя всякие поручения. Когда Орлову не хотелось ехать на свидание к Зинаиде Федоровне или когда он забывал, что обещал быть у нее, я ездил на Знаменскую, отдавал там письмо в собственные руки и лгал. И в результате выходило совсем не то, что я ожидал, поступая в лакеи; всякий день этой моей новой жизни оказывался пропащим и для меня, и для моего дела, так как Орлов никогда не говорил о своем отце, его гости – тоже, и о деятельности известного государственного человека я знал только то, что удавалось мне, как и раньше, добывать из газет и переписки с товарищами. Сотни записок и бумаг, которые я находил в кабинете и читал, не имели даже отдаленного отношения к тому, что я искал. Орлов был совершенно равнодушен к громкой деятельности своего отца и имел такой вид, как будто не слыхал о ней или как будто отец у него давно умер.








