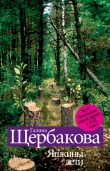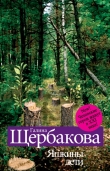Текст книги "Человек в футляре (Сборник)"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
Больница обходилась без фельдшера. Нужно было написать заявление в управу, но доктор все еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноват не он, а я». Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно, – для порядочного человека почти невозможно.
Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был с жалобой у Льва Трофимовича. Председатель не дал ему сказать ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участки неисправно и проч. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Этакий дурак!» – и ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости; чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее.
Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи.
«Это уж совсем глупо… – думал он, расписываясь в получении. – Глупее и придумать ничего нельзя».
И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства…
«Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к черту! – злился он. – Вы все ослы, и ничего вы не понимаете!»
Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить: «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!» – но он сдержал себя и, стараясь казаться покойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста, и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломёнковом пиджаке с оттопыренными карманами – это был письмоводитель, и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся; фельдшер сконфузился и тоже поднялся.
– Александр Архипович еще не приходил? – спросил доктор конфузясь.
– Нет еще. Они дома… – ответил письмоводитель.
Камера помещалась в усадьбе мирового судьи, в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю; увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил:
– Вам с сахаром или без сахару?
Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии: теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского, но все еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные, полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным, генеральским «мнэээ…», поводил плечами и играл глазами; здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнул и сказал:
– Н-да-с… Может быть, желаете мнээ… водки выпить и закусить? Мнэ-э?
– Нет, спасибо, я сыт.
Оба чувствовали, что им не миновать разговора о больничном скандале, и обоим было неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил, потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой.
– Послушайте, отчего вы его не прогоните?
Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку; ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его, наконец, лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал:
– Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу… Удивительно, как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю все, что хочу! Удивительно, как вы все рассуждаете! Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, ни в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Черт их подери, я не желаю служить, вот и все! Не желаю!
– Ну, ну, ну… Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать…
– Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба! Да черт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочие клоуны! Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба! Покорнейше вас благодарю! И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать! Этот ваш член управы Камчатский в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много йодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина! Что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить?
– Но… но ведь он хам, душа моя, холуй… На него нельзя обращать внимание…
– Хам, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос! Вы вот улыбаетесь! По-вашему, все это мелочи, пустяки, но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора! Я больше не могу! Сил нет, Александр Архипыч! Еще немного, и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы…
Глаза доктора налились слезами, и голос дрогнул; он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание.
– Н-да-с, почтеннейший… – пробормотал мировой в раздумье. – С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то… (мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку)… то, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человек, а хорошего не найдете… Все мерзавцы (мировой погладил себя под мышками и медленно закурил папиросу). С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что-о в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди двух этих крайностей – и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-с в юстиции со времен царя Гороха и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о-о-о-о принципах, так сказать…
«Зачем он это говорит? – подумал доктор. – Не то мы с ним говорим, что нужно».
– Вот не дальше, как в прошлую пятницу, – продолжал мировой, – мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, черт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья. Черт с тобой, пей, но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь, судите сами, выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и прочее – минутное дело! И что ж вы думаете? После той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что… Ну, что ж вы поделаете со стервецом? Прогнать? Хорошо-с… А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже?
– Да и как его прогонишь? – сказал доктор. – Прогнать человека легко только на словах… Как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаю, что он семейный, голодный? Куда он денется со своей семьей?
«Черт знает что, не то я говорю!» – подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной, определенной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. «Это оттого, что я неглубок и не умею мыслить», – подумал он.
– Средний человек, как вы назвали, не надежен, – продолжал он. – Мы его гоним, браним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти и в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только двадцать пять рублей в месяц, голодная семья и подчиненность, в будущем те же двадцать пять рублей и зависимое положение, прослужи он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности; читать и ходить в церковь ему некогда, нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципам!
«Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем, – подумал он. – И как нескладно, господи! Да и к чему все это?»
Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к крыльцу большого дома.
– Сам приехал, – сказал мировой, поглядев в окно. – Ну, будет вам на орехи!
– А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее… – попросил доктор. – Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда.
– Хорошо, хорошо… Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером, так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва Трофимовича.
Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками.
– Мое почтение… – сказал он, задыхаясь. – Уф, батюшки! Вели-ка, судья, подать мне квасу! Смерть моя…
Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором:
– Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иваныч! Одолжили, благодарю вас! Во веки веков аминь, не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал? А?
Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал:
– Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески: «Голубушка, Лев Трофимыч, так и так, мол… Такого сорта история и прочее…» Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала… Тот дурак, словно белены объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы, срам сказать, извините за выражение, затеяли черт знает что, заставили этого дурака подавать в суд! Срам, чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я председатель и ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет! Очень, очень вам благодарен, Григорий Иваныч!
Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь, потом подошел к окну и крикнул:
– Жигалов, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтоб сию минуту сюда шел! Нехорошо-с! – сказал он, отходя от окна. – Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам. Уж очень вы, господа, умствуете! Все норовите, как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами, а выходит у вас только одно: тень наводите…
– Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит? – спросил доктор.
– Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя осрамили и нас… Счастье ваше, что я приехал!
Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стоял к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал:
– Проси сейчас у доктора прощения!
Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.
– Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений! – продолжал председатель. – Он желает, чтоб ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?
– Даю… – угрюмо пробасил фельдшер.
– Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место! Если что случится, не проси милости… Ну, ступай домой…
Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.
– Вот и все! – сказал председатель. – И суда никакого не нужно.
Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал:
– Блажени миротворцы… Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить… Ну, и водочки…
– Господа, это невозможно! – сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. – Это… это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!
– Что же вам нужно? – огрызнулся на него председатель. – Прогнать? Извольте, я прогоню…
– Нет, не прогнать… Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни… ах, боже мой! Это мучительно!
Доктор нервно засуетился и стал искать своей шляпы и, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.
– Гадко! – повторил он.
– Душа моя, – зашептал мировой, – отчасти я вас не понимаю, так сказать… Ведь вы виноваты в этом инциденте! Хлобыстать по физиономии в конце девятнадцатого века – это, некоторым образом, как хотите, не того… Он мерзавец, но-о-о согласитесь, и вы поступили неосторожно…
– Конечно! – согласился председатель.
Подали водку и закуску. На прощанье доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро.
«Неужели, – думал он, – в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло! Как глупо! Как глупо!»
Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей, стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря, стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум… Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы… И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось и что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось:
«Глупо, глупо, глупо…»
1888
Скучная история
I
Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мере, за последние двадцать пять – тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.
Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всуе в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей… Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и жаловаться ему не на что. Оно счастливо.
Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека шестидесяти двух лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic’oм. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь – все лицо покрывается старчески-мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве когда бываю я болен tic’oм, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».
Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений, – то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.
Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкап или неожиданно загудит горелка в лампе – и все эти звуки почему-то волнуют меня.
Не спать ночью – значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса…
День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:
– Извини, я на минутку… Ты опять не спал?
Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по пятьдесят рублей – это главным образом и служит темою для нашего разговора.
– Конечно, это нам тяжело, – вздыхает жена, – но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое… Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?
Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки – и все это таким тоном, как будто сообщает мне новость.
Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, – неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варею, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?
Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье да еще манера мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку – нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и, чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.
Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.
– Что ж это я сижу? – говорит она, поднимаясь. – Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!
Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:
– Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованья прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев – пятьдесят!
Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:
– Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!
И, попрекнув меня моим именем и чином, она наконец уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.
Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей двадцать два года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:
– Здравствуй, папочка. Ты здоров?
В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:
– Сливочный… фисташковый… лимонный…
И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «Фисташковый… сливочный… лимонный…», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья… Заложи все это, тебе нужны деньги…»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня бог, – мне не это нужно.
Кстати, вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.
В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже тридцать лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная; в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком «Historia morbi». [13]13
«История болезни» ( лат.).
[Закрыть]Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега… На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих… Вот и наш сад. С тех пор как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженой сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное… Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, сбитых рваной клеенкой.
Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит:
– Мороз, ваше превосходительство!
Или же, если моя шуба мокрая, то:
– Дождик, ваше превосходительство!
Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает! Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем, и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, даваемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.
Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших всё,о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого… Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.