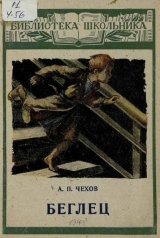
Текст книги "Беглец (худ. А.Ритов)"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)

БЕГЛЕЦ
Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел матерью под дождем то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где его сапогам липли желтые листья, шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял темных сенях и ждал, когда ото– прут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало– помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, вздремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка матерью вошел приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного смешного. Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось также подпрыгнуть; он толкнул мать под локоть, прыснул рукав и сказал:
– Мама, гляди: воробей!
– Молчи, детка, молчи! – сказала мать. маленьком окошечке показался заспанный фельдшер.
– Подходи записываться! – пробасил он. Все, том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя отчество, лета, местожительство, давно ли болен и проч. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, Павлом Галактионовым, что ему семь лет, что он неграмотен и болен самой пасхи. Вскоре после записывания нужно было не надолго встать: через приемную прошел док тор белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами сказал певучим тенором: – Ну, и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе притти в понедельник, а ты при ходишь пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь, дурак этакой, нога про падет! Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался и сказал: просить милостыню, заморгал
– Сделайте такую милость, Иван Миколаич!
– Тут нечего – Иван Миколаич! – передразнил доктор. – Сказано понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и все Началась приемка. Доктор сидел себя комнатке выкликал больных по очереди. То дело из комнатки слышались пронзи тельные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора: – Ну, что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно! Настала очередь Пашки,.
– Павел Галактионов! – крикнул доктор. Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком. – Что болит? – спросил он, не глядя на вошедших. – парнишки болячка на локте, батюшка, – ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой. – Раздень его! Пашка, пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик.
– Баба, не гости пришла! – сказал сердито доктор. – Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут. Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю с помощью матери снял рубаху. Доктор лениво поглядел на него похлопал его по голому животу. – Важное, брат Пашка, ты себе пузо от растил, – сказал он и вздохнул. – Ну, показывай свой локоть. Пашка покосился на таз кровяными помоями, поглядел на докторский фартук заплакал.
– Ме-е! – передразнил доктор. – Женить пора, баловника, а он ревет! Бессовестный. Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не рассказывай дома, что больнице плакал!» Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять по давил.
– Бить тебя, баба, да некому, – сказал он. – Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая! Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит!
– Вам лучше знать, батюшка ... – вздохнула баба.
– Батюшка! Сгноила парню руку, да теперь батюшка. Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь ним нянчиться. Небось как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же больницу бежишь, мальчишку полгода гноила. Все вы такие. Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу покачивал голо вой такт песни, которую напевал мысленно, и все думал чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироска потухла, доктор встрепенулся заговорил тоном ниже:
– Ну, слушай, баба. Мазями да каплями тут не поможешь. Надо его больнице оставить.
– Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?
– Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся, – сказал доктор, хлопая Пашку по плечу.
– Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина! Мы тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить, тебе лисицу покажу! гости вместе поедем! А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет! А? Пашка вопросительно поглядел на мать.
– Оставайся, детка! – сказала та.
– Остается, остается! – весело закричал доктор. – И толковать нечего! Я ему живую лисицу покажу! Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать! Марья Денисовна, сведите его наверх! Доктор, по-видимому, веселый покладистый малый, рад был компании; Пашка захотел уважить его, тем более, что отродясь не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу, но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оста вить в больнице и мать, но не успел он рас крыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки – все громадное, прямое и яркое – были выкрашены великолепную желтую краску издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки одеяло, оглядел палату решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, на третьей си дел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была дверь часть другой палаты двумя кроватями: на одной спал какой-то очень бледный, тощий чело век с каучуковым пузырем на голове; на другой, расставив руки, сидел мужик повязан ной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла не много погодя вернулась, держа охапке кучу одежи.
– Это тебе, – сказала она. – Раздевайся.
Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться новое платье. Надевши рубаху, штаны серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород реке нарвать для поросенка капустных листьев; он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа руках две оловянных миски, ложки два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую – перед Пашкой.
– Ешь! – сказала она. Взглянув миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса. И опять подумал, что доктору живется очень недурно и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку, потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его возможно дольше, но старания его ни к чему не привели: скоро исчезло мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего, Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка новыми мисками. На этот раз мисках было жаркое с картофелем.
– А где же хлеб-то? – спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух.
– Ну, зачем сожрал? – сказала укоризнен но сиделка. – А с чем же ты жаркое есть будешь? Она вышла принесла новый кусок хлеба. Пашка отродясь не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, по обедав, спрятал свой оставшийся хлеб сто лик; Пашка хотел сделать то же самое, но по думал и съел свой кусок. Наевшись, он пошел прогуляться. В сосед ней палате, кроме тех, которых он видел дверь, находилось еще четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик угрюмым волосатым лицом; он си дел на кровати и все время, как маятником, кивал головой махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные, мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для все общей потехи, но когда он вгляделся лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих божков.
– Тетка, зачем они такие? – спросил Пашка у сиделки.
– У них, парнишка, оспа. Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы итти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. дверях соседней палаты мелькнул не надолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, которого на голове лежал мешок со льдом, крикнул:
– Михайло!
Спавший Михайло шевельнулся.
Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и плевал кружку; кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика: когда он, кашляя, вдыхал в себя воз дух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса.
– Дед, что это у тебя свистит? – спросил Пашка. Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил:
– Дед, а где лисица
– Какая лисица?
– Живая.
– Где ж ей быть? В лесу!
Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побранила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю; приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михаилу;, за окнами по синело, палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на яр марку ловить чижей; Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну и ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придет за ним, улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто– то шагал говорил полушепотом. При туск лом свете ночников лампад возле кровати Михаилы двигались три фигуры.
– Понесем кроватью, аль так? – спросила одна из них. – Так. Не пройдешь кроватью. Эка, помер не вовремя, царство небесное! Один взял Михаилу за плечи, другой – за ноги, и приподняли: руки Михаилы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий – это был мужик, похожий на бабу – закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михаилы, пошли из палаты. груди спавшего старика раздавались свист разноголосое пение. Пашка прислушался взглянул на темные окна и ужасе вскочил с кровати.
– Ма-а-ма! – простонал он басом. И, не дожидаясь ответа, он бросился соседнюю палату.
Тут свет лампадки ночника еле-еле прояснял потемки; больные, потревоженные смертью Михаилы, сидели на своих кроватях; мешаясь тенями, всклоченные, они представлялись шире, выше ростом и, казалось, становились все больше и больше; на крайней кровати углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой.

Пашка, не разбирая дверей, бросился палату оспенных, оттуда коридор, из коридора влетел большую комнату, где лежали сидели на кроватях чудовища длинными волосами со старушечьими лицами. Пробе жав через женское отделение, он опять очутился коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. него была одна мысль – бежать и бежать! Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома, у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай наткнулся на густые кусты; постояв немного и подумав, бросился назад к больнице, обежал ее и опять остановился нерешимости: за больничным корпусом белели могильные кресты.
– Ма-амка! – закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных, суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Яркое красное пятно в потемках казалось страшным, Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь белой дощечкой; Пашка взбежал на ступени, взглянул окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам; он покачнулся без чувств повалился на ступени. Когда он пришел себя, было уже светло, очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него: – Ну, и дурак, Пашка! Разве не дурак? Бить бы тебя, да некому.

ВАНЬКА
Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, ночь под рождество не ло– жился спать. Дождавшись, когда хозяева подмастерья ушли заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед со бой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, сам он стоял перед скамьей на коленях.
«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе всего от го спода бога. Нету меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, ко тором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, на необыкновенно юркий подвижной старикашка, лет шестидесяти пяти, вечно смею щимся лицом пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит свою колотушку.

За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться ледник или украсть мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверно, дед стоит ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с двор ней. Колотушка его подвязана поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.
– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит не описанный восторг, заливается веселым смехом и кричит: Отдирай, примерзло! Дают понюхать табаку собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности чихает вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми кры– шами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, Млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потер ли снегом ...
Ванька вздохнул, обмокнул перо и продолжал писать:
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Под – мастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят сенях, а когда ребятенок ихний плачет, вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...» Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то Христа ради попрошусь приказчику сапоги чистить али заместо Федьки подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею. «А Москва город большой. Дома все господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз видал одной лавке, на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стою– щие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное ... А мясных лав как и тетерева, и рябцы, зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не ска– зывают. «Милый дедушка, когда господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и зеленый сундучок спрячь. Попроси у ба рышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки». Ванька судорожно вздохнул опять уста вился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил лес дед и брал собою внука. Веселое было время! И дед крякал, мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выку– ривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно ждут, которой из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц Дед не может, чтоб не крикнуть: – Держи, держи... держи! Ах, куцый дья вол! Срубленную елку дед тащил господский дом, а там принимались убирать ее Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила господ в горничных. Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сиротку Ваньку спровадили людскую кухню деду, а из кухни в Москву, к сапожнику Аляхину «Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом богом тебя молю, возьми меня отсюда. Пожалей ты меня, сироту несчастную, то меня все колотят, и кушать страсть хочется, скука такая, что сказать нельзя, все плачу. намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой ... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай». Ванька свернул вчетверо исписанный лист вложил его в конверт, купленный накануне за копейку Подумав немного, он обмокнул перо и написал адрес:
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
Потом почесался, подумал прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу Сидельцы из мясной лавки, которых он рас спрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются почтовые ящики, из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках пьяными ямщиками звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо щель Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом ...

БЕЛОЛОБЫЙ
Голодная волчиха встала, чтобы итти на охоту. Ее волчата, все трое, крепко спали, сбившись кучу, и грели друг друга. Она об лизала Был их уже и пошла. весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мни тельная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто где-то за деревьями воют за лесом потемках собаки. стоят люди и Она была уже не молода и чутье у нее осла бело, так что, случалось, лисий след она при– нимала за собачий иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась дороги, чего нею ни когда не бывало молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят й крупных баранов, как прежде, уже далеко обходила лошадей жеребятами, питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята. верстах четырех от ее логовища, почто вой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял -и разговаривал сам собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» прежде, чем пойти дальше: «Полный ход!». При нем находилась громадная черная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошел с рельсов!» Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какою жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали и глаза светились потемках, как два огонька. Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем. По сугробу, волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром запахом навоза овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. Прыгнув дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое теплое, должно быть, на барана, и в это время хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила что первое попалось зубы и бросилась вон . Она бежала, напрягая силы, это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали зимовье потревоженные куры, Игнат, выйдя на крыльцо, кричал: – Полный ход! Пошел свистку! И свистел, как машина, и потом – го-го-го-го! И весь этот шум повторяло лесное эхо. Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают эту пору ягнята; и пахло как будто иначе слышались какие-то странные звуки Волчиха остано– вилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, вдруг отскочила отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой на высоких ногах, крупной породы, таким же белым пят ном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манне– рам, это был невежа, простой дворняжка.

Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни чем не бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и по бежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он остановился недоумении и, вероятно, решив, что это она играет ним, протянул морду по направлению зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть ним и с волчихой. Уже светало, когда волчиха пробиралась себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, уже просыпались тетерева часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные и лаем щенка. неосторожными прыжками «Зачем это он бежит за мной? – думала волчиха досадой. – Должно быть, он хочет, чтобы его съела». Жила она волчатами неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего образовалась эта яма. Теперь на дне ее были старые листья и мох, тут же валялись кости бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих. Уже рассвело взошло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, хотелось ей броситься на непрошенного гостя разорвать Наконец, его. щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмо – треть его Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает очень глупых собак; глаза ,были маленькие, голубые, туск– лые, выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал: – Мня, мня нга-нга-нга! Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, по – махивая хвостом, потом вдруг рванулся места сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными. Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись ним, волчиха думала: «Пускай приучаются». Наигравшись, волчата пошли яму и легли спать. Щенок повыл немного голоду, потом тоже растянулся на солнышке. проснувшись, опять стали играть. Весь день вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью хлеву блеял ягненок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом обнюхивал снег. «Съем-ка его », решила волчиха. Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь К ночи похолодело. Щенок соскучился ушел домой. Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то темное... Она напрягла зрение и слух: самом деле, что-то шло впереди и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая все в сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом возвращался себе зимовье щенок белым лбом. «Как бы он опять мне не помешал», поду мала волчиха быстро побежала вперед. Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами мордой, оглядываясь, не идет ли щенок, но едва пахнуло на нее теплым паром запахом навоза, как сзади послышался радостный, заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, тепле, узнав своих овец, залаял еще громче Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, но уже далеко была от зимовья перепуганная волчиха
– Фюйть! – засвистел Игнат. – Фюйть! Гони на всех парах! Он спустил курок – ружье дало осечку; он спустил еще раз – опять осечка; он спустил третий раз – громадный огненный сноп вылетел из ствола ц раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало плечо; и, взявши в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум Немного погодя он вернулся избу.
– Что там? – спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом. – Ничего ... – ответил Игнат. – Пустое дело. Повадился наш Белолобый овцами спать в тепле. Только нет того понятия, чтобы дверь, а норовит все как бы крышу. На медни ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец, крышу. а теперь вернулся и опять разворошил – Глупый.
– Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! – вздохнул Игнат, полезая на печь.
– Ну, божий человек, рано еще вставать, давай спать полным ходом . . . А утром он подозвал к себе Белолобого, больно отрепал его за уши и потом, наказывая хворостиной, все приговаривал:
– Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи В дверь!




