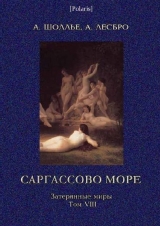
Текст книги "Саргассово море. Затерянные миры, том VIII."
Автор книги: Анри Лесбро
Соавторы: Антуан Шоллье
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Он замолк, а я все оставался ошеломленным и вертел в руках странный «закат солнца». Пануклес весело взял меня под руку и повел к Некрополю, а Деунистон иронически посмотрел нам вслед.
– Главкос, Главкос, – проговорил Пануклес, – нельзя, конечно, требовать от тебя, чтобы ты в один день проник в тайну пластики и живописи в Аполлонии. Твой разум едва лишь начал приспособляться к новым горизонтам. Ты, конечно, не можешь сразу освоиться с тем, что явилось результатом упорной работы нашего народа. Когда ты ближе познакомишься с нашей эстетикой, ты яснее поймешь «математическое прекрасное». Чтобы расширить свое образование, приходи завтра в Некрополь, – я познакомлю тебя с самым великим музыкантом, какого когда-либо знала Аполлония.
Прошло несколько дней.
Я лучше стал понимать все величие формулы отрешения художника от внешних условий. Эта концепция давала ему новую почву вместо прежней, такой избитой: я был очарован смелостью новых приемов. С каждым днем я понимал все больше и больше, предо мной открывались все новые и новые перспективы, восхищавшие и чаровавшие меня. Это возрождение охватывало все искусства; музыканты Аполлонии творили, руководясь той же формулой. Я познакомился с великим маэстро, о котором мне говорил Пануклес, и долго беседовал с ним. Как и в живописи, композитор стремился звуками передать ряд мозговых реакций, испытанных им во время вдохновения. По его мнению, музыка долго бродила в потемках под гибельным влиянием внешних чувств и внутренних эмоций. Он полагал, что это происходило от слишком большого числа звуков, которые, благодаря своему разнообразию, затемняли идею. Музыка действовала чарующе на чувства в ущерб мысли, которая усыплялась в это время.
Чтобы избежать этой опасности, он считал необходимым в каждой музыкальной пьесе пользоваться только одной нотой, чтобы вся мысль артиста передавалась лишь посредством большей или меньшей интенсивности звука и паузами более или менее короткими или длинными. Признаюсь, что такая музыка требовала совершенно особого музыкального образования и что при первых опытах я получил от нее мало удовольствия. Он поочередно пользовался двумя инструментами – флейтой с одним клапаном и однострунной арфой, Впрочем, у него была подобрана вся гамма этих инструментов, чтобы иметь возможность сосредоточиться на ноте, наиболее соответствующей его мысли.
Разумеется, композитор ничего никогда не записывал – соответственно взглядам аполлонийцев, что всякое произведение искусства должно быть уничтожено тотчас после своего создания.
Вот почему наиболее совершенным искусством аполлонийцы почитают хореографию, так как в ней – наибольшая возможность разнообразия движений, и произведение искусства само собой исчезает после своего создания.
Тут также господствует идея, нет ничего чувственного, ничего чувствительного, ничего действующего на воображение.
В развалинах Некрополя однажды вечером я видел Филию, танцовщицу, творящую в пантомиме «Изыскание абсолютного». Совершенно нагая вышла она из морских волн.
С простертыми вперед руками, сосредоточенно устремив взгляд в небо, она подходила к нам колеблющейся походкой. Она была накрашена не для того, чтобы усилить природный блеск своей красоты, но чтобы передать эту красоту в отвлечении, по принципу, что «Красота идеального» начинается там, где кончается природа. И, действительно, ее волосы были посыпаны зеленой пудрой, ее брови соединены в одну синюю линию, образовывая на лбу задумчивую складку; два резких квадрата резко выделяли возвышенности щек; ее уши были окаймлены оливковой краской, что давало впечатление большой продвинутости вперед параллельных плоскостей ее лица; сосцы ее грудей были окрашены голубым; от каждого ногтя шли тонкие багряные линии, сливающиеся в общий браслет на ее запястьи. Она собственно не танцевала: это были скорее раздельные па и движения; она подолгу сохраняла свои пластические позы. Было уничтожено впечатление изысканного искусства, уничтожена всякая увлекательность, это было больше не искусство – живая мысль проходила передо мною и внезапно исчезла в молчании сумрачной тени померанцевой рощи.
Глава XIII
Время проходило незаметно и упоительно, дни шли за днями; каждое утро в моем сердце зацветала та же восторженная улыбка, что и накануне. Я ничего не делал, но душа моя еще не томилась от скуки; прежние мои заботы меня теперь совершенно не интересовали. Я отыскал своего «Икара». Он находился около пещеры на северной стороне острова к западу от Некрополя. При виде его мое сердце не забилось сильнее от воспоминаний о мучениях в Саргассовом море; меня не волновало никакое сожаление о том, что оставил я там, за океаном. Я даже с любопытством дилетанта старался проанализировать свои чувства. Я вспоминал Париж, моих друзей, мои занятия, – ничто не встречало во мне ответного отклика. Все это было слишком далеко от того, что я теперь переживал. Я даже уловил в моей индифферентности к прошлому некоторую долю досады; тридцать семь лет я развивал свою личность, закалял ее суровыми лишениями, придавал ей лоск цивилизации, которую я считал совершенной, утончая свой дух общением с культурными умами своего времени. Все тридцать семь лет вдруг свелись на нет, уничтожившись несколькими неделями жизни в очаровательной Аполлонии!
Я так мало интересовался прошлым, что даже не позаботился исследовать, в каком состоянии находится мой «Икар», остававшийся заброшенным недель девять или десять… Но все-таки минувшее, должно быть, не умерло в моей памяти: хотя и машинально, но я нашел дорогу к маленькой бухте, куда причалил мой гидроплан. Как противоречива натура человека! Я осторожно шел по пляжу, на котором кое-где выступали базальтовые глыбы; недалеко от берега находился риф, который во время отлива отделялся от острова только маленьким каналом, не шире ста метров. Около рифа, перед огромной неподвижной гладью Саргассова моря, ютилась наполовину скрытая бухта, в которую и причалил мой гидроплан. Я задал самому себе вопрос, что могло направить его в это убежище, и решил, что его принесло подводное течение, так как около него повсюду плавали в воде какие-то посторонние обломки.
Я вошел в воду канала, – она доходила мне только до колен, – и через несколько минут достиг рифа; полоса песку, шириной в несколько метров, давала возможность добраться до бухты, довольно глубоко вдававшейся в скалу со сводом, возвышающимся на пять или шесть метров над водой. У моего гидроплана оказался прекрасный ангар.
Я добрался до места, куда в памятный день причалил с гидропланом; аппарат находился в двадцати метрах от меня. В полумраке его белый силуэт ясно выделялся на темном фоне стен грота. В темно-синих, почти черных водах искаженно отражались в плещущей воде его крылья. Здесь должно было быть глубоко.
Бока пещеры вдавались в море, и я мог добраться до «Икара» только вплавь. Это меня, впрочем, не пугало; еще в довоенные годы я пытался, хотя и неудачно, переплыть Ламанш. Вода была холодная, но я держался хорошо и в несколько взмахов достиг гидроплана.
К поплавкам его пришлось добираться очень осторожно, так как кругом плавали разнообразные обломки досок, ящиков, бочек, которые почему-то занесло морем к этому месту. Были ли это обломки кораблей, прибитые к берегу Аполлонии, или их занесло сюда с судов, погибших в Атлантическом океане, и они приплыли среди саргассов, как «Икар», увлеченные через водоросли подводным течением?
Вот бочка с полуистертыми буквами. Все-таки можно восстановить подпись: «Мария Небесная». Эти два слова пробудили в моей памяти воспоминание о таинственном происшествии в океане, которым были так заинтересованы лет пятьдесят тому назад газеты всего мира. Не бочка ли это с судна, найденного среди океана в совершенной исправности и почему-то покинутого своим экипажем?.. Ну, да, в конце концов, мне это не важно, я уже не принадлежу к тому миру с его дрянной цивилизацией.
Я добрался до поплавков, они были в хорошем состоянии. Я вскарабкался по стойкам до кузова, вспоминая, как я уже проделал это же самое в пустынном Саргассовом море, когда убедился, что я погиб, завяз в водорослях. Я перешагнул через борт, и первое, что бросилось мне в глаза, был мой кожаный костюм авиатора, брошенный на сиденье. Я поднял его… От сырости кожа стала тугая и неприятно трещала в моих руках.
Под скамейкой лежала моя остальная одежда, шлем и очки.
Я уселся и внезапно, как бы вернувшись к своему прошлому, я закрыл глаза, начал скользить руками по борту; мои пальцы нащупали кончик рукава. Подняв руки над головой, я нащупывал стенки резервуара. Инстинктивным движением я стучу по металлу; слышится глухой звук, – значит бензин еще есть; стоит лишь захотеть, и…
Я открываю глаза. Там, в нескольких километрах, за блестящей поверхностью полоски воды виден бирюзовый ковер трав, уходящий в беспредельную даль. Я насмешливо рассмеялся. Как! Достаточно дотронуться до нескольких предметов, представить себе возможность отлета, чтобы снова отдаться приманкам своей прежней жизни? Жалкий человеческий дух! Никогда он не удовлетворен, всегда мечтает о чем-то лучшем. Как я понимаю мудрые рассуждения престарелого Хрисанфа, благодарного богу за то, что Аполлония окружена непроницаемым барьером трав и потому ее обитателям чуждо желание бросить остров.
Не безумие ли думать, что можно лететь на этом аппарате, уже несколько месяцев брошенном на произвол судьбы? Все должно было заржаветь, помяться. Эта мысль мне была неприятна: я поинтересовался исследовать, в каком состоянии находится мотор; я снял чехлы, которые в свое время сконструировал, чтобы предохранить все части механизма от морской сырости. Мое тщеславие было удовлетворено, сердце забилось от волнения при виде блестящей стали и хорошо промасленных клапанов; бензин поступал в карбюратор правильно, только магнетометр находился в плачевном состоянии: толстый слой серо-зеленой плесени покрыл коллектор, молоточки не действовали, уже тоже не годились. Очевидно, что аппарат навсегда был обречен на неподвижность. Как-никак, это меня огорчало. Над «Икаром» я работал два года. Сколько ночей бодрствовал я из-за него! Сколько произвел вычислений! С отцовской радостью наблюдал я за его рождением. В моих руках он в первый раз пробудился к жизни; с этим аппаратом у меня было связано столько страданий, он так живо напоминал мне прошлое, для меня была слишком горька мысль, что стихии сравняли его с другими обломками, плавающими в гроте.
Машинально взял я бюретку и смазал маслом аппарат; привел в медленное движение пропеллер; клапаны начали действовать.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я поплыл назад и, остановившись на песчаной насыпи, долго смотрел на мой гидроплан в его природном ангаре.
Я еще не был до конца аполлонийцем, я чувствовал, что во время отлива я еще раз вернусь сюда взглянуть на мою птицу в ее базальтовом гнезде. Усевшись на месте летчика, не раз я буду мечтать о прошлых годах, казавшихся мне такими далекими, что, если бы глаза мои не видели гидроплана, я сомневался бы, не грезы ли все мои воспоминания.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пахнуло теплым ветром. Я лежал на опушке померанцевой рощи; в синеве моря вырисовывался черным пятном риф; с глухим рокотом разбивались волны морского прибоя о скалы побережья.
В этот час морской прилив создал между мной и «Икаром» водяную преграду. Как капризно наше воображение!
Теперь мне казалось, что этого достаточно, чтобы изгнать из моей головы воспоминания о прошлом. Аполлония снова обрела меня, как только я сделал несколько шагов по ее берегу.
Я чувствовал себя усталым, – я только что затратил много физических усилий, а в последнее время я отвык от мускульной работы. С наслаждением я растянулся на траве в нескольких метрах от аллеи могил и погрузился в полузабытье; пряные запахи тропической листвы опьянили меня. Жужжание пчел, собирающих мед, усыпляло меня однотонностью звуков; солнечный луч, проскользнувший сквозь листву, маленькими зайчиками танцевал близ меня, как золотое пятно на изумрудном лугу; можно было подумать, что это фантастическая бабочка порхает по стебелькам трав, не сгибая их; я следил глазами за всеми его эволюциями. Оно приближалось ко мне, и вдруг оно необычайно выросло: чешуйчатое тело вытянулось, согнулось, приняло очертание женской фигуры; крылья сузились, превратились в две длинные белые руки, очень стройные, очень тонкие… Это женщина, – лица ее я еще не вижу, – она мелькает между стеблями трав. Но вот ее фигура отделяется от лиственной завесы, опускается ко мне. Она совсем близко; благоухающие длинные волосы щекочут мою грудь, я ее узнаю; это Тозе. И вот ее голова уже покоится на моем плече, это Тозе обвивает свои руки вокруг моей шеи; ее губы шепчут:
– Я люблю тебя, Главкос!
Что это – сон или греза? Нет, маленькая аполлонианка в самом деле здесь, я смотрю в ее глаза, сначала смущенные, потом вдруг неподвижные, доверчивые и спокойные под моим удивленным взглядом.
– Я люблю тебя, Главкос! – повторяет она вполголоса, – с того самого вечера, когда, помнишь, ты обнял меня в аллее могил… Я часто возвращаюсь к камню, где мы сидели вдвоем, я мечтаю о том, про что ты мне рассказывал: мне кажется, что твои слова еще и сейчас звучат там в воздухе; никто не говорил со мной так. Я вся в волнении, часто я с удивлением замечаю, что хочу, чтобы ты был рядом со мной, а, между тем, в тот день, когда я заметила тебя с Хрисанфом, я убежала, сама не знаю почему; сердце мое трепетало, и в глазах выступили слезы. Главное, ты так хорошо понял мое волнение, объясни же маленькой Тозе, почему она так странно поступает?
Я приподнял с ее лица длинные волосы, за которыми она боязливо скрывалась.
– Маленькая Тозе, – сказал я, – сама того не зная, ты лучше всякого психолога сама все объяснила, когда прошептала мне о любви: твое волнение, твои сомнения, все это отражения порывов твоего сердца, трепещущего от тоски в своей любви ко мне. Не прячь своего лица, не отворачивай глаз; в твоем чувстве нет ничего недостойного, никакого повода для стыда. Перестань бояться тех далей, куда я тебя зову. Не говорила ли ты мне, что чувствуешь иногда, как необходимо тебе прислониться к дружескому плечу! А я, ведь, я уж говорил тебе, что всегда готов поддержать тебя, всегда готов дать опору твоей очаровательной головке! Я тоже, моя маленькая, дорогая аполлонианка, часто вспоминаю о том чудесном вечере, когда луна осветила нас вместе своим серебряным лучом: я страдал, когда ты убегала при моем приближении; я жажду снова почувствовать твое тело у моей груди, вдыхать аромат твоих волос, потому что я люблю тебя, маленькая Тозе!
И я обнял дрожащей рукой ее плечи, ее голова спряталась у меня на груди, и я целовал ее волосы. Но конвульсивное рыдание сотрясло все мое тело. И это сердце, которое должно было забыть аполлонийские законы, я чувствовал, как безумно колотилось это сердце рядом с моей грудью. Эта маленькая взволнованная девушка подчинилась извечному инстинкту, восторжествовавшему над цепями, которые наложила на него цивилизация ее отечества.
Неужели страсть, так всецело меня охватившая, совершила чудо? Я понимал ее теперь, такую родственную греческим девам; это подруга Ифигении, Навзикаи. О, сильфида гомеровских лесов! И, наклонившись к ней, я почувствовал, как в моих жилах загорелось жгучее пламя извечного вожделения.
Осторожно взял я в свои руки ее склоненную голову и, приподняв, приблизил ее губы к моим. Она покорно подчинилась моему порыву, ее губы загорелись, ее руки обвили мою шею, и в первый раз статуя вышла из своего мраморного бесстрастия.
И вдруг, когда я крепче прижал ее, тело ее стало неподатливым, руки вытянулись, и, отталкивая меня, она отвернула от меня лицо:
– Нет, оставь меня, Главкос, – прошептала она, – наша привязанность уже кажется мне слабостью, недостойной нашего разума, хотя бы мы и почерпнули в ней радость глубокую. Я боюсь, что если ее осквернят бесстыдные чувства, она утратит для меня всю прелесть, которую я в ней нашла. Я потрясена тем, что ты пробудил во мне, я не подозревала о существовании такой чувственности, наше племя смотрит на нее, как на извращенность, глубокое отвращение охватывает меня уже при одной мысли, что я могла бы поддаться ей; не будем принижать себя, отдаваясь во власть позорящей нас страсти; нет, оставь меня, Главкос, оставь!
С бесконечной нежностью пытался я согнуть ее руки, которые напряглись, чтобы оттолкнуть мои плечи.
– Тозе, дитя мое, милая, неужели тебе неприятно то, что ты открыла в себе самой? Подумай что именно я открыл тебе непреложный лик твоей души, остававшийся в тебе неизвестным. Верь же мне! Все, что ты вообразила себе, все это пустые призраки, и я мечтаю освободить тебя от суеверий боязни любви… Ее навязала тебе преувеличенно головная культура твоего отечества.
Ласки мои не достигали цели. Она непреклонно отталкивала меня своими напряженными руками; она была воплощением отрицания. Качая головой, она с мольбой повторяла:
– Нет, оставь меня, Главкос, оставь меня!
Были ли то кокетство или стыдливость, – как бы то ни было, ее сопротивление разжигало мою страсть, и я старался насильно прильнуть к ее губам. Она слабо вскрикнула, и в моих объятиях оказалось безжизненное тело; эта слабость протрезвила меня. Из ее глаз катились крупные слезы. Я помог ей подняться. Она стояла неподвижно, не решаясь взглянуть на меня, я чувствовал себя в самом нелепом положении, меня внезапно охватил гнев, и я закричал ей:
– Уйди, Тозе, я думал, что ты можешь понять красоту любви, но твой мозг слишком изуродован нелепыми аполлонийскими обычаями; я уже надеялся, что когда-нибудь ты сумеешь вкусить полную чашу наивысшего опьянения. Мы слишком чужды друг другу, уходи, я тебя ненавижу!
Она осталась на месте, как статуя, с опущенными глазами, полузакрытая своими длинными, распущенными волосами: сдавленные рыдания душили ее, и не она, а я удалился, ушел, не оглядываясь на нее.
Глава XIV
Смеркалось. Я лежал на краю маленького озера под тенью пальм и рассеянным взглядом следил за полетом пчел, не обращая внимания на живописную группу запоздавших купальщиц; я не мог забыть о стройной женщине; еще так недавно вдыхал я аромат ее волос, восхищался опаловой бледностью ее глаз, ласкал ее хрупкое тело… Снова и снова вставал предо мной, как живой, ее образ; гневом было наполнено мое сердце против этой непостижимой и жестокой женщины. Раз двадцать я клялся, что отныне стану совершенно равнодушен к ней; мучительный образ стоял неотступно.
Я не решался оформить свои чувства; не был ли я так разъярен, прежде всего, против себя самого, против своей животной страстности самца, обманутого в своих надеждах?
Запоздавшие купальщицы вышли из воды и, увенчивая себя цветами, приблизились ко мне. Одна из них остановилась и спросила:
– А ты, Главнос, не пойдешь ли?
– Куда?
– На погребение Тизис, дочери Мирты.
Я поднялся. Это имя я как будто слыхал; но, кроме того, мне было интересно познакомиться с погребальным ритуалом Аполлонии.
Я присоединился к ним.
– Ее жизнь закатилась сегодня вместе с солнцем; ей не пришлось горевать, сознавая, что под бременем недугов увядает ее красота. Она прекрасна, как дева, она словно улыбается природе, из которой она возникла и к которой она возвращается.
Эти слова поразили меня. Значит, греческие представления о бессмертии души преобразились в Аполлонии в пантеистическую религию? Во время пребывания моего на острове мне еще ни разу не приходилось говорить на эту тему. Я сказал:
– Она возвратилась в природу, но ее душа разве не обрела блаженного приюта в Елисейских полях?
Женщины с улыбкой взглянули на меня.
– Ты мыслишь, Главкос, еще так, как мыслили во время Гомера: мы больше не верим в этот неизвестный Эдем, убежище избранных душ; мы считаем, что нет ни вознаграждения, ни наказания; мы изгнали из нашей жизни понятие добра и зла; мы различаем только прекрасное и безобразное. Аполлон для нас является только олицетворением идеи прекрасного; мы сами являемся частью природы; иногда нам кажется, что мы оторваны от нее, но это иллюзия, и смерть ее быстро рассеивает.
Ее слова подтвердили мои предположения. Их культ исключительно только Красоты должен был привести такой народ к пантеизму, отбросив старые греческие представления об индивидуальном бессмертии духа. Но, что меня поразило, так это та легкость, с которой молодые девушки изложили мне религиозное учение своего народа. Я недоумевал, каким образом этот народ хранил классические тексты древней Греции, и как обучалась его молодежь.
– Прежде всего, – отвечали они на мои расспросы, – нас обучают устно; дети слушают и запоминают все, что им передают старшие. Нас так мало, что всякая новая идея сейчас же становится общим достоянием. Древние тексты хранит старец, тщательно их записывая на восковых табличках. Он сохраняет также и писания древних авторов Аполлонии: Атимоса, Поликрата, Эвлакеса, а также ведет запись главных фактов существования нашего народа.
Мы подошли к пещере; около ста человек, мужчин и женщин, теснились полукругом около статуи Мусагета; на камне, где когда-то лежал я в виде жертвы, лежало теперь тело, наполовину закрытое: саваном из цветов. В руках женщин колыхались пальмовые ветви, слышался треск благовоний на бронзовых треножниках. Четыре молодые девушки отошли от тела и вошли в глубину грота.
– Они, – объяснили мне мои соседи, – пошли принести огонь, который мы постоянно поддерживаем на священном очаге.
Они вскоре вернулись, неся четыре пылающих факела; в этот момент восемь эфебов приблизились к усопшей и положили ее на носилки из листвы. Процессия направилась к аллее могил.
На берегу был приготовлен костер, на который и положили усопшую. И как раз в тот момент, когда девушки наклонили факелы, чтобы зажечь костер, какая-то женщина издала вопль и, несмотря на недовольство окружавших, старавшихся ее отстранить, бросилась к костру, приподняла голову покойной и поцеловала ее.
Это была Тозе…
Кругом слышался возмущенный ропот; я вспомнил, что во время нашей первой встречи Тозе говорила мне, что она дочь Тизис. Вопреки мнению окружающих, мне казалось совершенно естественным, чтобы дочь выразила свою скорбь и любовь к покойной матери.
Не рассуждая, я подошел к ней, взял ее за руку и увел от костра. Огонь вспыхнул, не было ни малейшего дуновения ветра, белый столб дыма поднимался вертикально кверху; от благовонных ветвей на костре разносилось пряное благоухание. Хрисанф заговорил. До меня долетали обрывки фраз.
– Вечное творение… душа… она будет жить среди нас… неизменная красота природы… восхитительная нечувствительность вещей… ложное и предосудительное чувство, принижающее величие духа…
Я догадался, что он выражает порицание непосредственному порыву девушки; она, как безумная, рыдала у подножья одного из памятников, закрыв лицо руками.
Небо потемнело; пламя костра угасало, рассеивалось. Заглушая благовоние санталового дерева, доносился одуряющий запах опаленного тела.
Толпа медленно таяла: наступала ночь. Около костра видны были четыре силуэта женщин, которым было поручено наблюдать за огнем.
Молча смотрел я на Тозе; ее тщедушное маленькое тело содрогалось, точно стремясь разбиться о погребальный камень; она казалась такой заброшенной, хрупкой, несчастной; я испытывал к ней громадную жалость. Нет, в моем сердце не умерла любовь к этой женщине, и я сознавал, что питаю к ней чувство более глубокое, более чистое, более духовное, чем простое физическое вожделение. В этот вечер я не ощущал к ней никакого чувственного влечения, меня неудержимо влекло к девушке братское сочувствие.
– Бедная, маленькая девочка, – прошептал я, – они не поняли твоих страданий; они не понимают, что твое любящее сердце разбито этой утратой; они не подозревают, что бывают натуры, для которых их законы неприемлемы. О, маленькая сестра по духу! Моя маленькая сестра по чувству! Я понимаю, как ты вся взволнована. Плачь, ничего не опасаясь, на моем плече! Не бойся никого; я буду твоим братом, твоим старшим братом, который так сострадает твоему горю.
Над поверхностью моря всходила луна. Тозе подняла бледную голову; в глазах ее сквозило беспокойство; дрожащим голосом она спросила:
– Главкос, значит, ты простил меня?
Подул теплый ветер, относя дым от костра к померанцевой роще; острый запах терпентина донесся до нее. Я наклонился к Тозе:
– Не надо больше думать об этом, моя милая; тогда я огорчил тебя, мое сердце безумствовало; теперь я чувствую, что оно гораздо покойнее, благороднее и лучше; прости меня, моя милая Тозе!
Тозе, разбитая усталостью и горем, задремала на моем плече. Моя маленькая девочка никогда не казалась мне такой слабенькой и жалкой.
Горизонт прорезали первые отсветы зари; от костра осталась только небольшая кучка золы; над ним курились легкие струйки дыма, расплывавшегося над морем. Четыре фигуры у огня взяли большие пальмовые ветви и медленными ритмичными движениями развеивали пепел, который ветер уносил белым облаком к морю.
Начинался прилив; к вечеру море отойдет обратно, сгладив всякий след пепелища. То немногое, что оставалось от Тизис, будет поглощено бесстрастной природой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тозе продолжала дремать, прислонившись ко мне. Я не двигался, боясь нарушить ее сон. Пусть ей будет казаться, когда она откроет глаза, что она видела страшный сон.








