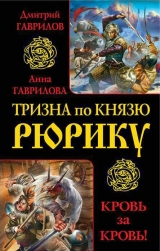
Текст книги "Тризна по князю Рюрику. Кровь за кровь! (сборник)"
Автор книги: Анна Гаврилова
Соавторы: Дмитрий Гаврилов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
…Рюрик криво усмехнулся и спросил, вглядываясь в лицо старика:
– Прознал я, любимец богов, что и луны ещё не минуло, как сей Вадим вызвал тебя в гости.
– Не вызвал, попросил. Гонцы передали, что разговор важный. Вот я и пришел, так же как прежде приходил к тебе и к другим, когда им надобно, – проскрипел волхв.
– А говорил ли он с тобою, как бы лучше род мой извести? – спросил Рюрик злее.
– Была и о том его речь, княже. Но, как мог, я пытался отговорить неразумного Вадима. Он не послушал доброго совета.
Лицо Рюрика побелело, пальцы впились в подлокотники, а голос зазвучал страшным, звериным рычанием:
– И так не послушал, что две жены мои, дети малые уже будут вскоре беседовать с предками в светлом Ирии? А два брата родных на черте жизни и смерти… Если бы ты поведал о его намерении… Ты видел, сколько пролилось крови и сколько слез?
– Я скорблю о павших не меньше. Семьи оплакивают… то несомненно, но каждая – своих. А мне они все как дети. Если же ты, князь, знаешь достоверно, что родичи твои пребудут в ирийском саду у божьего терема, – утешь душу.
– А не боишься ли ты, старик, гнева моего? Да если бы я убил Вадима сотню раз, то и это бы не излечило мне сердца!
– Я не страшусь княжьей кары, ибо на все воля богов, – спокойно ответил волхв. – Это они рассудили, кому продолжить дело Гостомыслово. Вадим усомнился в мудрости Велесовой, и где теперь тот Вадим, где ближние его…
Олег, доселе стоявший бессловесно, выступил из полумрака, точно призрак:
– Ты спрашиваешь, где они? Или ты размышляешь о судьбах человеческих? Так слушай же, что вот этими руками я охотно бы придушил и склочницу Рогану, и всех Вадимовых жен и отпрысков. Но они опередили меня, избавили от угрызений совести, едва пришла весть о неудаче мятежников.
Брови волхва медленно поползли вверх, он изучающе глядел на Рюрика. Князь не ответил на немой вопрос старика, вместо него отозвался Олег:
– А чего ж ты хотел? Как иначе? Иначе никак нельзя! Если бы я не догадался разложить руны, то и моя сестра была б сейчас на пути к Фрейе [4]4
Фрейя – богиня в скандинавском пантеоне, владевшая половиной душ умерших. Наверное, павшие герои причитались богу Одину, а их женщины – Фрейе.
[Закрыть]. Ты, премудрый волхв, зная достоверно, что готовит Вадим, не вмешался. И предоставил богам самим решать этот вопрос, а я…
– Никогда не был осведомителем, северянин! И не буду, – прервал Олега волхв.
– Ага, прямо христианский жрец в исповедальне! – нехорошо усмехнулся княжий шурин и продолжил: – А я получил лишь намек, но сделал все, чтобы уберечь и князя, и сестру, и людей своих, не уповая больше ни на каких богов! Это я, а не боги привели на подмогу и Сивара, и Трувара, и людей из Ладоги.
– Ты плохо кончишь свои дни, Орвар Одд! – вдруг произнес старик. – Признайся, это была твоя задумка – навести Вадима на княжий город. Это ты заманил его? Но какой ценой?!
– Скажи что-нибудь ещё, волхв! Только умное…
– Вижу, тебе предстоит умереть от коня.
– Ничто не ново под луной, – усмехнулся Олег, обернувшись к князю. – Это дело я уже давно уладил. Но тебе, волхв, суждено сгинуть раньше, и смерти моей ты не увидишь.
– Довольно! – прервал их спор Рюрик и, обратив взор на старика, сказал глухо: – Вот решение мое. За молчание, стоившее нам гибели стольких добрых соратников, детей и жен, я мог бы наказать тебя. Но, отдавая дань летам твоим и в память о прежних временах, о славном деде, короле Гостомысле, дарую прощение. Иди с миром и доживай свой век. А сейчас должно всем нам проводить павших с почестями, как подобает героям… Пролив кровь в одну землю за единое дело, побратались нынче и мои варяги, и верные мне словене, и мурмане тож. И уходить им вместе в одном пламени. Ты, волхв, будешь говорить за славян, а ты, Одд, за северян скажешь.
Словно бы ожидая одобрения со стороны Олега, князь встретился с ним взглядом. Закусив губы, Олег кивнул. Небрежным жестом Рюрик отпустил старика.
«Великие боги! Кабы мы знали, в какие железные руки вверяли и землю свою, и судьбу!» – подумал волхв, ковыляя к двери.
Олег шагнул к Рюрику:
– Выслушай, не гневись! Негоже трупам, пусть и вражьим, у самого города валяться. Прикажи закопать, пусть их черви едят.
Лицо Рюрика искривилось, будто глотнул отвара полыни, а в голосе прозвучала издевка:
– Смрада боишься?
– Болезней, – смиренно отозвался Олег.
– Ты верно говоришь, Одд, но решения не отменю. Нам эти болезни не страшны будут. По свершении обрядов в Словенск выходим. Дорогой ценой мне город сей достался, – прошептал он, – не смогу здесь. Новый построим, на том берегу.
– А толку?
– Есть толк, уж поверь. Если нельзя истребить осиное гнездо, то уж приглядывать за ним можно. Я ещё мост через Волхов переброшу.
– Большой мост выйдет, шагов триста.
– А иначе никак, и главное – высокий, чтобы любое судно при полном парусе пройти сумело, – прошептал Рюрик.
– Да… Чую, немало крови на том мосту прольется…
– Пусть, если иначе нельзя. А там боги рассудят меня с новгородцами.
– Как ты сказал? – не понял Олег.
– Раз новый город, а не Словенск, стало быть, Новгород. И не просто словене, а новгородцы.
Рюрик прикрыл глаза, замер, на несколько мгновений превратился в бездвижного истукана.
– Кого в Белоозеро поставишь, коли Сивар… – осторожно спросил Олег.
Князь тряхнул головой, губы растянулись в горькой усмешке:
– Полату ехать. Здесь ему делать нечего, кроме как по мамке рыдать. А там мужчиной станет… Но время. Курган погребальный велю тут же насыпать – чтобы каждодневно смотрели и вспоминали. Нам же отныне здесь лишь тризны справлять, но не жить. Да и как жить? И отца уж как год не стало. Проклятые германцы! За ним и мать.
Олег положил ему руку на плечо и ответил:
– Как сказывал мне старый Ингьяльд, правил у ромеев некогда князь Аврелий. И была у него поговорка: «Делай, что должно. И будет, что будет».
* * *
Дождь усиливался, капли падали на землю с громкими шлепками. Из крепости выкатили пару бочек, откупорив, щедро поливали погребальную краду маслом. Гора сложенных тел, как почудилось Добре, уходила к самому небу, была выше любого терема. Подле неё остались немногие воины, среди которых высился Орвар Одд. Лицо северянина почернело от горя, а огненные кудри потускнели. Рядом с ним, опершись на посох, встал волхв.
Рука волхва – худая, с острыми, выпирающими костяшками – потянулась к небу, губы чуть шевелились. Народу неведомо, что шепчут Велесовы служители, но все заметили, с какой яростью засверкали молнии. Огненные стрелы резали небо, освещали землю и лица всех, кто стоял в этот час на холме. Волхв, не глядя, передал посох Олегу, словно бы признавая за тем равную Силу. Северянин принял, так же – не глядя. Старик снял с пояса худой мешочек, вынул сухой мох и особые камни, разложил тут же, на самом краю крады.
Едва ворох искр коснулся мха и промасленного дерева, к небу потянулись тонкие струйки дыма, а в следующий миг вспыхнул огонь. Оранжевые языки слизывали сперва масло, после принялись вгрызаться в бревна, пожирать кровь умерших, одежды, тела. Дым от погребального костра прижимался к земле, застелил весь холм, наполнил воздух запахом горящего мяса, запахом смерти.
Не помня себя, Добря поплелся вслед за мамкой, к дому. Позади безмолвной тенью следовал отец. И хотя мальчик не видел лица, чувствовал – плачет батька. Город погружался в могильное молчание, а погребальный костер разгорался все ярче, тянул руки к небу, и никакой дождь не мог уже загасить это ненасытное пламя.
…Едва переступили порог, отец начал сборы. В дорожный мешок складывал самое нужное: легкий топор, запасную рубаху, соль. В стороне лежали широкий пояс и любимый нож Вяча с рукоятью из оленьего рога. Мать, вопреки всем устоям, принялась печь хлеб, тихо всхлипывая. Младшие братья и сестренка улеглись на лавке, в дальнем углу, долго капризничали, но все-таки засопели.
Добря тоже лег, но уснуть не удавалось. Ему то и дело слышались крики и хрипы, лязг оружия, перед глазами вставали порубанные воины Вадима и горожане, окровавленная голова Торни… Но чаще других вспоминалось лицо Олега. Даже сейчас, в мыслях, Олег глядел на Добрю с укором.
Слуха касался шепот – родители переговаривались, мать часто всхлипывала. Ее шаги почти беззвучные, но торопливые. Видать, мечется по дому, собирает в дорогу мужа. Ближе к утру в дверь постучали, в избу вошли ещё четверо мужиков. Добря продрал глаза, не таясь, рассматривал гостей. Артельщики, те, кто выжил в кровавой схватке и был помилован. За плечами каждого – худой дорожный мешок, а лица как у покойников.
– Пора, – прошептал отец. Он крепко обнял жену и шагнул к двери.
Добря вскочил, метнулся вперед, заорал:
– Батька! Батька!
Вяч повернулся, раскрыл объятья, прижал сынишку к груди.
– Теперь ты за мужика, Добря. Береги мать, младших береги. Все наладится, все наладится.
– Почему нас с собой не берешь? – взвыл мальчик. Ухватил отца за шею, прижался крепче. Горячие слезы лились беспрерывно, жгли глаза.
– Нельзя. Вам жить, а мне – если настигнут – помирать. Береги мамку, Добродей!
Вяч разжал руки, но мальчик вцепился крепко, повис на отцовской шее. Подоспел кто-то из отцовских товарищей, помог отодрать Добрю от родителя.
– Прощайте! – бросил Вяч. – И да хранят вас боги! Жив буду – дам знать. А нет – не поминайте лихом.
* * *
Добря так и не сомкнул глаз. Мать тоже не спала – все ходила, ходила. Изредка садилась на лавку, закрывала лицо руками. Рыданий мальчик не слышал, но видел, как трясутся плечи. У самого сердце заходилось жгучей болью, той, от которой высыхают все слезы.
– Что теперь будет… – обреченно проронила женщина. – Как жить?
Добря подошёл на цыпочках, сел рядом. Отозвался шепотом:
– Выживем. Я на стройке работать буду, ведь умею уже.
– Как людям в глаза смотреть? – не слыша продолжала мать. – Что родня скажет? А он? Каково ему будет? На чужбине… Дойдут ли? А на чужбине-то и хлеб горький…
Она всплеснула руками, схватилась за голову, забормотала горше прежнего:
– А если княжеские воины настигнут? Ох… Зачем только в город подались? Жили бы в деревне, пусть голодно, зато по чести. А теперь… позор, погибель…
Добря прижался щекой к мамкиному плечу, молчал. Потом, словно в утешение, молвил:
– Нет, их не поймают. За три дня далеко можно уйти.
За окном уже светло, новый день обещает быть жарким, хоть и конец лета. На улице необычно тихо: ни стука топоров, ни выкриков румяных хозяек. Только петухи дерут глотки – этим людское горе не ведомо, знай себе – кукарекают.
– Я воды принесу, – сказал Добря угрюмо. – А ты квашню новую ставь, хлеба почти не осталось.
Мамка опомнилась. Ведь и правда, не осталось – все хлеба́ Вячу в мешок сунула, да только что тех хлебов? Дай бог, чтоб на неделю хватило! А дальше мужику кореньями питаться, если волки раньше не задерут.
Добря смерил мать придирчивым взглядом и поспешил на улицу.
От ночного дождя земля разжирела, босые ноги утопают в грязи. Погребальная крада все чадит, видно, как дым поднимается высоко, до самого Ирия доходит. Вместе с ним возносятся души погибших за правое дело.
Обычно в это время у колодца толпятся хозяйки, воду берут и сплетничают заодно, косточки соседям и мужьям моют. Но сегодня – ни души. И улица пустая. Редкие прохожие друг на друга не глядят, опускают головы. Вот и Добря опустил глаза, едва увидел вдалеке человека.
Набрал полное ведро, понес. От такой тяжести рука заболела сразу, перехватил, щедро плеснув водицы на землю. Пару раз поскользнулся, едва не упал. А у самых ворот пришлось остановиться. Мальчишки – вчерашние товарищи – выстроились стеной, руки сложены на груди, на лицах злость.
Добря протянул по-взрослому хмуро:
– Чего надо?
Вперед вышел самый рослый:
– Это твой батя мужиков на бунт подбивал.
Добря насупился, сжал кулаки. Взгляд заскользил по суровым лицам мальчишек, в животе похолодело.
– Брехня, – прошипел Добродей.
– А вот и нет. Он мужиками командовал, когда Рюриков терем брали. Там отроки были, все видели.
– Врут твои отроки. Они в крепости сидели, как осинки тряслись.
Рослый прищурился злобно, угрожающе надулся:
– Их не сразу в крепость загнали, только когда резня началась. А до этого все видели. И брехать не станут, поди, не ты.
Добря оскалился, шагнул вперед, так, что между ним и обидчиком остался всего шаг. А тот не унимался:
– Твой батя всех погубил. Он виноват!
– Нет!
– Да! – рявкнул обидчик.
Остальные кивали молча, испепеляли взглядами. Но приблизиться и напасть не решались. Добря гордо вскинул подбородок, выдавил усмешку:
– Зато теперь ясно, в кого вы такими трусами уродились. Кабы ваши отцы не отсиживались, а сражались по чести…
– Мой батя погиб! – закричал рослый.
– И мой, – проронил кто-то из толпы.
– И мой не вернулся, – всхлипнул третий.
– Да пошли вы! – крикнул Добря.
Рослый оскалился, но сказал спокойным тоном, от которого даже солнце похолодело:
– Мы уйдем. Но тебе совет – на улицу не высовывайся. Бить будем всякий раз, как встретим.
Добре хотелось закричать, броситься на лгунов с кулаками, но те развернулись и зашагали прочь. А в спину даже последний предатель не ударит.
– Ничего, ничего, – пробормотал Добря. – Я вам ещё покажу и уши начищу, как следует. Вруны. Клеветники. Трусы!
Слухи о бойне в Рюриковом городе, да и в самом Словенске, что учинили мурмане Олега, разнеслись удивительно быстро. Уже к вечеру в избу нагрянул старший мамкин брат. Мужик простой, деревенский. Плечи до того широкие, что даже в дверь протискивался боком. Сам пахарь, ну и охотой изредка промышляет. Говорят, однажды медведя в чаще встретил, придушил косолапого.
Детвору мать из дому не выпускала, но и взрослые разговоры слушать нечего. Пришлось в дальнем углу ютиться. Младшие обрадовались неимоверно, давай на Добре виснуть, вопросами засыпали по самые уши. А сестра молчаливо вертела куклу, пусть и самая маленькая, а вперед братьев смекнула, что горе в семье, да такое, что словами не описать.
Добря терпеливо развлекал малолетних, истории рассказывал. Впрочем, у самого получалось не так интересно, как у батьки и деда, хотя деда мелюзга и не помнит. Мальчишки все на дядьку косились, ахали: какой огромный! Утомились только, когда за окошком ночь простерлась, уснули тут же, на полу. Добря подтащил одеяло, лег рядом, укутал всех.
Зажмурился крепко, поворочался для вида, даже засопел.
– Перебирайтесь снова в деревню, – шептал дядька. – Места вы немного занимаете, а из охламонов твоих добротных пахарей вырастим.
– Да куда… – горько вздохнула мамка. – Тут уж и хозяйство налажено, протянем как-нибудь. Только стыд похлеще дыма глаза выедает, не скоро народ забудет. На улицу выйти боюсь, пальцами тычут.
– Да… натворил Вяч делов…
– Он как лучше хотел. Думал, за правду сражается. А видишь, как вышло? Боги-то рассудили, что справедливость на другой стороне.
– А Рюрик-то в самом деле Вадиму голову оторвал?
– Да, живому. До сих пор перед глазами. А жить-то как теперь! – Она всхлипнула чуть слышно. – И Добря сам не свой теперь ходит.
– Добря сдюжит, – отвечал брат. – Он в нашу породу уродился.
– Кабы и вправду так.
– Вяч далеко пошел, не знаешь?
– Не знаю. Должно быть, далеко. На землях Рюрика ему житья не будет, значит, в другие земли отправился. Я спрашивала, куда пойдет, а он не ответил. Сказал, весточку пришлет, если все будет в порядке… Тяжко… Душа за него болит, больше, чем за детей.
– Я б на его месте в Киев отправился. Там земли чернее и князь, сказывают, добрый.
– Да разве ж в князе дело? Кто он там? Без рода, без семьи. Ни кола, ни двора… Сирота. А сколько до того Киева скитаться? Поди, до зимы не дойдет. А если не дойдет – перемерзнет. – Голос сорвался на писк, мамка всхлипнула: – И похоронить-то некому будет! И помянуть!
Снова завыла. Брат, как мог, успокаивал, по голове гладил, что-то шептал.
От пережитых несчастий сон навалился быстро, тяжёлый, как дурман. И сновидения пришли жуткие, все кровью залито, от края до края. Добря несколько раз просыпался – мамка с братом все сидели, говорили. Пытался послушать разговоры, но снова проваливался в тягучий, как вареная смола, сон.
На рассвете снова отправился по воду, сходил дважды. Пока шел, все надеялся увидеть мальчишек, что посмели так несправедливо отзываться о батьке. Но те, видать, обходили стороной – знать, не успеет вразумить вчерашних товарищей.
Пока мамка с дядькой чистили курятник, Добря вытащил из дальнего угла старую холщовую котомку, сложил в неё вторую рубаху, маленький топорик – тот, который отец подарил, завернул в тряпицу краюху хлеба. Ножик пришлось стащить, благо у них в доме ещё цельных два ножа – роскошь!
Когда прятал котомку в клети, мамка едва не застукала. Но Добря деловито схватил грабли, поспешил в огород. Урожай в этом году обещал быть знатным – лето теплое, да и с дождями неплохо. Оглядев съестные припасы, дядька снова забурчал, дескать в деревню перебираться надо, а мамка поспешила в избу, кашу готовить, дабы не думал, что и впрямь голодают.
Едва за старшими закрылась дверь, мальчик утер рукавом нос, бережно отнес грабли на место. Подхватил поклажу и мышкой выскользнул на улицу.
День в самом разгаре, солнце светит ясно, по небу плывут пушистые облака. Стараясь не попадаться на глаза горожанам, Добря заспешил туда, где городской холм, очерченный рвом, сходит на нет, сменяется заболоченной полосой, за которой шелестит лес.
– Еще б понять, куда идти, – вздохнул мальчик и прибавил шагу.
Глава 6В конце улицы только один дом, раньше здесь жил оружейник. Его семья ныне тоже осиротела, сынов оружейника тоже поди бить будут. А они ребята крепкие, если сговориться, можно всем навалять, но толку?
Он прокрался мимо двора, пригибался, чтобы не заметили. Но едва оказался на окраине города, дорогу перегородили четверо. Добря не сразу узнал отроков – слишком бледные, и рубашечки уже не белоснежные, запачканы грязью и копотью.
– Ой, вы только посмотрите, кто пришел… – протянул щербатый мальчишка с рыжими волосами.
Добря тряхнул головой, прогоняя внезапный морок – на миг почудилось, будто это Торни из мертвых восстал.
– Уйди с дороги, – отозвался Добря. – Не до тебя сейчас.
– Конечно! – А этот голос пробрал до костей, вскипятил кровь.
Роська не улыбался, глядел во стократ злее, чем все городские мальчишки, вместе взятые. Злее, чем Рюрик глядел на Вадима, когда голову скручивал.
– Уйди, – повторил Добря и решительно шагнул вперед.
– Вот, значит, как… – протянул Роська. Мальчик отстранил товарищей, кивком пояснил, что сам разберется. – Наделал дел, и в кусты? Видел, как твоих приятелей вчера порубали? А это видел?
Роська кивнул в сторону рва, Добря невольно проследил взглядом и похолодел. В заболоченной меже в ряд лежали покойники. Воины Вадима и других бояр, босые, в исподнем, лица искорежены злобой. Вперемешку с ними – простые мужики. В этих нет злобы, лица до того несчастные, что слезы наворачиваются. Все молодые, сильные, здоровые. Жить бы да жить… И у каждого в городе остались жены, дети.
– Дай пройти, – сказал Добря совсем тихо.
– Да? А что это у тебя за спиной? Котомка? Неужто решил сбежать?
– Не сбегаю. По делу иду. Куда – не скажу, не велено.
– Ах ты ж врун… зазнайка. В деревне нос задирал и тут тоже? А че задираться-то? Батька твой ведь того… пришибли его ночью.
– Как?..
– А вот так! – рыкнул Роська и метнул кулак.
Тяжелый удар врезался в лицо, едва глаз не выбил. Добря закричал, попытался увернуться от нового удара, но Роська подскочил, ещё и ногой поддал. Сын плотника не устоял, покатился по земле, успел подняться прежде, чем Роська снова кинулся в драку. В этот раз Добря не сплоховал – ухватил противника за грудки, тряхнул, бросил на землю. Сам прыгнул сверху, начал молотить по голове, кричать, клочьями рвать волосы. Роська не сразу сумел освободиться, а когда вырвался, оседлал врага и осыпал градом ударов, напоследок плюнул в лицо. И что-то оборвалось…
Добря больше не мог сопротивляться, бессильно лежал на земле. Слезы кусали глаза, скатывались по щекам, рыданья разрывали грудь.
– Что, получил, гад?
– В ров его! – крикнут тот, что так походил на Торни.
Отроки схватили Добрю за руки и ноги, раскачали и с хохотом швырнули в болотистую колею, к покойникам. В спину сразу же вонзилось что-то острое, мальчишка закричал. Ответом ему стал злорадный смех и плевки отроков.
– Сдохни! – прокричал Роська.
В нос ударил знакомый запах – кровь и нечистоты. Но теперь к нему добавилось что-то ещё. Вчерашний день был жарким, солнце палило вовсю, трупы подгнили, да и вороны потрудились на славу – потрошили без устали, клевали глаза, лакомились синими, вывалившимися наружу языками. Болотистая земля тоже смердела, но трупный запах перебил гниение земли.
Добря лежал в оцепенении, не в силах подняться, к горлу подкатывала тошнота. Мальчик из последних сил повернул голову, чтоб не захлебнуться рвотой, и взору предстало изуродованное лицо оружейника. В пустых глазницах копошились белые личинки мух.
Тошнило Добрю долго. Он перевернулся – только бы не видеть убитого – и понял: ведь и лежит на трупе. Воин. Молодой, светловолосый, с красивыми конопушками на щеках. На таких все девки вешаются, от самой младшей сопли до первой красавицы. Глаза воина тоже вырваны вороньим клювом.
– Батя, – прошептал Добря. – Батя погиб…
Попытался приподняться, но пред глазами заплясали чёрные точки, сознание затуманилось. Он упал и затих.
А очнулся ближе к ночи, долго пытался вспомнить, где находится. Кое-как переполз через груду тел, тут же по щиколотки увяз в болотистой жиже. Лес был уже в двух десятках шагов, а за спиной на холме – притихший город. Добря заставил себя доползти до первых молоденьких елочек, снова рухнул.
– Батя погиб, – сказал мальчик самому себе. – Все.
Мысль оказалась до того жуткой, что в глазах снова потемнело. Собрав последние силы, Добря поднялся и поплелся дальше. Страшные разлапистые деревья стояли стеной, протяжно скрипели. Ветки цеплялись за волосы, ударяли по щекам. Изредка прикосновения веток были как будто ласковыми, словно те пытались стереть слезы с мальчишеского лица.
Добря брел, не помня себя, смотрел на мир невидящими глазами. Порой разум подсказывал: заплутал, но мальчик отмахивался от этих мыслей – как можно заплутать, если идешь по кромке леса? Оглядывался в поисках просвета и, не находя его, шел дальше.
Река перегородила путь внезапно, а он, не раздумывая, бросился в воду. Течение сносило, а Добря сопротивлялся, как мог. Барахтался, бил ногами и руками, подныривал. Только силы оставляли ещё быстрее. Отмель стала нежданным подарком богов. Он перевел дух, снова поплыл. А когда выбрался на берег, над головой уже висел толстый лунный блин.
Средь пышной осоки квакало на все лады. Огромные лягушки прыгали под ноги, на одну даже наступил и, поскользнувшись, едва не полетел в грязь.
Хотя луна светит не хуже солнца, идти дальше не решился – места незнакомые, да и сил совсем не осталось. Он выискал самую большую елку, ветви которой достают до земли, укрывая от дождя и посторонних взглядов, и уснул на хвойной подстилке как убитый.
* * *
В голове трусливо бьется только одна мысль: а может, вернуться? Но ноги несут вперед торопливо, бесстрашно.
В животе рычит так, что, попадись на тропке медведь, примет за сородича. Запасенный хлеб после вчерашнего плаванья окончательно размок, превратился в жижу и растекся по всей котомке, а искать съедобные коренья и ягоды – некогда.
Отец ушел два дня тому. Если и вправду отправился в Киев, значит, двигался на юг, вдоль берега Волхова, затем Ильменя… Ведь другого пути нет?
И погиб, стало быть, здесь же.
– А вдруг его уже никто никогда не найдет?! – ужаснулся Добря. – А не похоронят по-человечески, бродить ему заложным покойником до конца времен…
Да и ему, Добре, сыну-то, всю оставшуюся жизнь мучиться!
– Не вернусь, – бормотал Добря, стараясь хоть как-то заглушить бешеный страх и стыд. – Все равно не вернусь! Приду в Киев вместо отца. Как-никак надежда есть – если отцовы артельщики выжили, к ним примкну, авось не прогонят.
Только вот мысли о матери слезы нагоняют, но мальчик сердито утирается рукавом, сморкается по-взрослому, прям на землю. Это в воду нельзя, а земля все стерпит, как мамкин подол.
В зелени листвы уже видны золотые листочки, от воды веет холодом. Изредка в реке плещется и хохочет, но русалки то или рыбы – непонятно.
– Наверняка русалки, – пробубнил Добря.
На всякий случай выудил из котомки топорик, освободил от тряпья. Крепко сжимая рукоять, углубился в лес, чтобы от реки подальше.
– Конечно, кто их в этой глухомани задабривать будет? Кто проводит как положено? Вот и резвятся навки до самой глубокой осени. Благо железа холодного не выносят – хоть какой, а оберег.
И рассуждал вроде бы здраво, а по спине нет-нет да пробегали мурашки – что, если русалки все-таки выскочат? И схватят?!
Ближе к полудню одолела такая жажда, что пришлось продираться к озерной глади. Пил торопливо, отгоняя комарье и водомерок, да и мальки, казалось, так и норовили забраться в рот.
А к вечеру боги смилостивились, вывели-таки на тропку. Да незнакомая она, никогда в этих краях не хаживал, но человеческая, это точно! Изредка в подсохшей грязи попадались четкие следы сапог, несколько раз видел отпечаток голой ступни. Но и копытца тут прохаживались, и не раз.
Добря не сразу сообразил, что самому лучше идти по траве, чтобы заметных следов не оставлять – ведь Рюрик обещал снарядить погоню! Что, если дружинники и его за мятежника примут? Ведь на кол посадят, даже глазом не моргнут!
Хоть дневное светило давно закатилось за горизонт, сумерки сгущались медленно. Когда Добря вновь вышел к берегу, на сей раз песчаному, – взору мальчика открылась бескрайняя водная гладь. Другой берег не узреть, только вода и небо, расцвеченное последним взором сонного солнцебога. Прежде никогда этой красотищи не примечал.
Когда в распахнутый рот залетел комар, опомнился.
– Ильмень, – прошептал мальчик. – Вот уж море так море…
Над спокойными водами все ещё носились пронзительные чайки, кричали истошно, отчаянно, как и душа мальчишки. Он осторожно спустился к воде, зачерпнул ладошкой. После согнулся, пытаясь рассмотреть собственное отражение – лицо уже осунулось, глаза впали.
Внезапный шорох за спиной заставил отпрянуть, едва не полетел в воду. Кусты снова шевельнулись, листья зашептали зловеще.
– Кто здесь? – воскликнул Добря, ухватывая топор. Чуть пригнулся – готовый в любой миг броситься на подлеца, который смеет подкрадываться со спины. Завопил ещё громче, злее: – Выходи!
Ответом стал приглушенный рык. Сердце замерло, похолодело, кровь в жилах превратилась в ледяное месиво. Волк шел, пригибаясь к земле, веточки кустарника услужливо расступались перед клыкастой мордой. Огромный, седой, куда крупнее обычных лесных охотников, грудь широкая, морда в шрамах.
«Вожак, – мысленно простонал Добря. – Или того хуже – одиночка».
Нащупал ладанку на груди, губы зашептали обережные слова. Но волк даже ухом не повел, видать, в этих лесах обереги не действуют! Леса-то чужие! Зверь зарычал, оскалился. Клыки, огромные и острые, как мечи княжьих дружинников, блестели в мертвенном свете едва показавшейся луны. Серебристая шерсть поднята на загривке, мерцает, переливается, уши прижаты.
«Вода!» – мелькнула спасительная мысль.
Стараясь не озлобить зверя окончательно, Добря, все ещё сжимая рукоять, в общем-то, бесполезного топора, начал медленно отступать. Босые ноги сразу же утопли в вязком, склизком иле, пяткой напоролся на острый камень. Внутри все сжалось, кровь ударила в виски и затылок. Благо волк ещё не понял хитрого маневра, наступал медленно, запугивал.
Когда серый подошёл к краю берега, Добря был уже по колено в воде. Внутри все оборвалось – не успеть. Волчара настигнет в один прыжок, как только дернешься, и никакая сырость уже не остановит зверя.
– И косточек не найдут… – выдохнул путник.
Волк замер, уши чуть приподнялись. Взгляд в одно мгновенье утратил злобу.
– Чего уставился? – пробормотал Добря обреченно и опустил топор. – Жри уже.
Издалека донесся зычный клич:
– Сребр, ко мне!
Зверь метнул короткий взгляд в сторону леса, снова покосился на запуганного мальчугана. Добря втянул голову в плечи, готовый в любую секунду рухнуть под тяжестью мохнатого тела, уже представил, как кровь из шейной вены обагряет прозрачные воды Ильменя.
– Сребр! – Голос прозвучат требовательно, на миг показалось, человек не зовет – приказывает!
«Морок, – подумал Добря. – Какой человек посмеет повысить голос на такую зверюгу? Морок. А может… не человек, а сам Лесной Хозяин зовет? Этому все дозволено. И раз тоже слышу, значит, я уже того… помер».
В груди больно кольнуло, ноги подкосились, и мальчик с размаху плюхнулся в воду.
Брызги полетели во все стороны, волк неодобрительно фыркнул, тряхнул мордой. И, будто передразнивая Добрю, тоже сел. Потом вскинул голову, завыл протяжно.
– Сребр! – Голос прозвучал гораздо ближе, чем прежде.
Кусты затрещали, нехотя пропустили огромного широкоплечего мужика. На смуглом обветренном лице не хватает одного глаза, от правой брови к скуле тянется уродливый шрам, щеки и подбородок покрыты густой порослью. Одежда на мужчине истертая, руки длинные, как весла, мощные. И хотя Добря никогда не видел разбойников, понял – этот именно из таких.
– Сребр!
Волк повернулся, мотнул мордой в сторону паренька.
– А это ещё кто? – нахмурился одноглазый.
Добря сглотнул, оцепенел от ужаса.
– Эй, малец! Чего в такую глушь забрался? Заплутал?
– Я… Я за батей иду, – признался мальчик.
– За батей? И это ж в какие дали?
– В Киев.
Губы мужика дрогнули, улыбка получилась скользкой, мимолетной.
– Сам-то откуда будешь? Из Рюрикова града, что ли?
Добродей даже кивнуть не смог. Страшная догадка была подобна испепеляющему удару молнии. Одноглазый – вовсе не разбойник, а гораздо, гораздо хуже! Лодочник. Тот самый, о котором рассказывают во всех окрестных селеньях. Де живет он у тихой речушки, что впадает в Ильмень, и служит не абы кому, а самому водяному царю, утопленников на тот свет переправляет.
– Эй! – вновь окликнул мужик. – Долго в воде сидеть собираешься? Вылазь, путешественник… И железом не свети.
И Добря подчинился, просто не смог воспротивиться пронзительному взгляду единственного ока. Да и толку возражать? На берегу от громилы не укрыться, а в воде и подавно. Глядя на растерянность мальчика, Лодочник заметно повеселел, озорно подмигнул волку, а Добре бросил суровое:
– Пойдем.
Неприметная тропка вывела к небольшой речушке. На берегу крошечный костерок, даже не костерок, а так – угли. Рядом с ним массивное бревно, ни один человек такую махину поднять не сможет. Добродей боязливо сглотнул, в очередной раз покосился на одноглазого, рядом с которым даже исполинский волк казался щенком. Сердце в груди ныло, не переставая.








