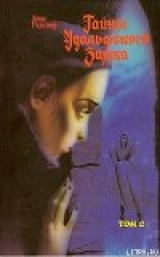
Текст книги "Тайны Удольфского замка. Том 2"
Автор книги: Анна Рэдклиф
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
ГЛАВА XLV
Спокойно насладись медвяною росою сна.
В уме твоем ни цифр нет, ни фантазий,
Которые забота начертала на мозгу людей, —
Вот почему ты спишь так крепко.
Шекспир
В эту ночь граф спал тревожно; он проснулся рано и, сгорая нетерпением поскорее увидеться с Людовико, отправился в северную половину замка; но накануне дверь была заперта изнутри и граф принужден был постучаться. Но ни на стук его, ни на громкий зов не последовало ответа. Однако, принимая в расчет отдаленность наружной двери от спальни и то, что Людовико, вероятно, крепко заснул, граф не особенно удивился, не получив ответа. Отойдя от двери, он пошел пока прогуляться по саду.
Было серенькое осеннее утро. Солнце, поднявшись над Провансом, давало лишь тусклый, слабый свет; лучи его с трудом пробивались сквозь дымку испарений, подымавшихся с моря, и тяжело носились над макушками деревьев, уже тронутых осенним багрянцем. Буря миновала, но волны все еще не улеглись и пенистыми валами ударялись о берег, между тем как бриза трепетала в парусах кораблей, готовившихся сняться с якоря и отплыть.
Тихая, грустная погода нравилась графу, и он направился в лес, погруженный в глубокую думу.
Эмилия тоже поднялась рано в это утро и отправилась, по обыкновению, гулять на краю обрыва, нависшего над морем. Мысли ее не были поглощены странными происшествиями, разыгравшимися в замке; печальные думы ее были всецело посвящены Валанкуру. Она еще не приучила себя смотреть на него равнодушно, хотя рассудок постоянно упрекал ее за эту привязанность, все еще не покидавшую ее сердца, хотя уважение уже давно исчезло. Ей часто вспоминались его прощальные взгляды и звук его голоса, произносившего последнее «прости»; какое-то случайное совпадение с особенною силой привело ей на ум эту сцену прощания, и она залилась горькими слезами.
Достигнув сторожевой башни, она села на обломанные ступени и в глубокой меланхолии стала наблюдать волны, подернутые туманной мглой и грядами катившиеся к берегу, разбрасывая на скалы легкие брызги. Их глухой ропот и туман, слоями подымавшийся вверх по утесам, придавали всей картине какую-то мрачную торжественность, гармонировавшую с настроением ее души; она сидела, отдаваясь воспоминаниям о прошлом; наконец ей стало невыносимо тяжело на сердце, и она поскорее отошла от этого унылого места. Проходя мимо дверцы сторожевой башни, она заметила какие-то буквы, вырезанные на каменной притолоке, и остановилась разглядеть их; хотя они были грубо выцарапаны перочинным ножом, но склад букв показался ей знакомым. Узнав наконец почерк Валанкура, она с тоской и волнением прочла следующие строки, озаглавленные:
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Торжественная полночь!
На уединенной круче
В развалинах старинной башни.
Где образы мистические путника смущают,
Я отдыхаю; вниз гляжу на водную пустыню,
Когда холодный месяц из-за туч
Сверкает на волнах.
С таинственной, невидимою силой
Мятется ветер над волнами.
Их мрачный рев мой поражает слух.
Порой средь бурных завываний ветра
Несется сверху голос духов – тихий, мелодичный,
И часто между туч их образы скользят.
Но тсс! Чей это вопль предсмертный раздается?
Вдали на океане блещет парус,
Корабль качается по бурным волнам!
О, моряки несчастные! Настанет день,
А взор его живительный вас к гавани уж не направит!
Из этих строк было ясно, что Валанкур посещал эту башню; что он, вероятно, был здесь не далее, как вчера, – описанная им ночь походила на вчерашнюю, – и что он удалился из башни лишь к утру, потому что в темноте невозможно было бы вырезать эти буквы на камне. Весьма вероятно, что он до сих пор бродит где-нибудь в парке.
Эти размышления быстро проносились в голове Эмилии, возбуждая в ней разнообразные чувства, угнетавшие ее душу; но первым ее движением было избегнуть встречи с ним. Она сейчас же удалилась от сторожевой башни и торопливыми шагами направилась к замку. По пути она вспомнила музыку, которую недавно слышала вблизи башни, и промелькнувшую мимо фигуру… в эту минуту волнения она готова была подумать, что тогда она слышала и видела Валанкура, но тут же припомнила другие обстоятельства, убеждавшие ее, что она заблуждается. Углубившись в чащу леса, она увидела какую-то фигуру, медленными шагами идущую в некотором отдалении. Мысли ее были заняты Валанкуром; она вздрогнула и остановилась: ей сейчас же представилось, что это он. Незнакомец стал приближаться, ускорив шаги, и прежде чем она успела сообразить, как избегнуть его, он заговорил с нею. Тогда она узнала голос графа. Он удивился, что она гуляет в такой ранний час, и пытался было посмеяться над ее любовью к уединению. Но с первых же слов он убедился, что смеяться в эту минуту было бы некстати и, переменив тон, ласково пожурил Эмилию за то, что она предается тщетной печали. Эмилия прекрасно сознавала справедливость его слов, но не могла удержать слез, и граф тотчас же переменил разговор. Он выразил удивление, что до сих пор не получил известий от своего приятеля, авиньонского адвоката, в ответ на его письмо с вопросами, касающимися поземельной собственности покойной г-жи Монтони. Граф с дружеским участием старался развлечь Эмилию надеждами на то, что можно будет восстановить ее права на наследство. Но надежда обладать этими поместьями уже не радовала Эмилию, раз она будет разлучена с Валанкуром.
Когда они пришли в замок, Эмилия тотчас же удалилась к себе, а граф де Вильруа вторично подошел к дверям северной анфилады. По-прежнему она была заперта; но теперь граф решил непременно разбудить Людовико и стал звать его еще громче прежнего. Ответа не было; граф, убедившись, что его старания тщетны, наконец стал бояться, не случилось бы какой беды с Людовико; быть может, он от ужаса, испугавшись какого-нибудь воображаемого видения, лишился чувств. И вот граф отошел от двери с намерением созвать всех слуг и сломать замок; снизу уже доносились шаги и возня проснувшейся прислуги.
На вопросы графа, не видал ли кто Людовико или не слышал ли о нем чего, все испуганно уверяли, что со вчерашнего вечера никто из них не отважился подойти к северной анфиладе покоев.
– Ну и крепко же он спит! – проговорил граф, – так как комната слишком удалена от наружной двери, то придется сломать замок. Захватите инструменты и идите за мной.
Слуга не двигался и молчал; и только когда собралась почти вся домашняя челядь, нашлись между нею люди, решившиеся исполнить приказание графа. Между тем Доротея сообщила, что есть дверь, ведущая с парадной лестницы прямо в одну из аванзал перед большим салоном; так как эта дверь помещалась гораздо ближе к спальне, то можно было думать, что Людовико проснется, услышав шум, когда ее начнут отпирать. Туда-то и направился граф и стал звать, но и тут крики его ни к чему не привели. Серьезно тревожась за Людовико, он собирался сам взять в руки отмычку и сломать замок, но вдруг его поразила необыкновенная, художественная работа этой двери, и он остановился. С первого взгляда можно было подумать, что она сделана из черного дерева, так темна и плотна была ткань, но по ближайшем рассмотрении она оказалась из лиственницы прованской породы – Прованс в то время славился своими лесами лиственниц. Красота отделки, тонкая резьба, чудный цвет и гладкость дерева убедили графа пощадить двери, и он опять вернулся к первой двери, той, что выходила на заднюю тестницу; взломав замок, он, наконец, вошел в первую прихожую; его сопровождал Анри и наиболее отважные из слуг: прочие дожидались исхода следствия, стоя на лестнице и на площадке.
В покоях, по которым проходил граф, стояла тишина; дойдя до большого салона, он громко окликнул Людовико; затем, не получив никакого ответа, распахнул настежь дверь спальни и вошел.
Глубокая тишина, царившая в комнате, подтверждала его опасения за Людовико: не слышно было даже тихого сонного дыхания. Но в окнах были закрыты ставни, так что б комнате стояла тьма и нельзя было различить предметы.
Граф приказал слуге открыть ставни; тот, идя по комнате, чтобы исполнить это распоряжение, вдруг споткнулся обо что-то и растянулся на полу. Его крик вызвал такую панику среди его товарищей, что они все мгновенно разбежались, и граф с сыном остались одни довершать затеянное предприятие.
Анри сам бросился к окну, и когда он открыл одну из ставней, то увидали, что слуга споткнулся на кресло у камина, – то самое, на котором вчера сидел Людовико; но теперь его уже там не было, да и нигде, насколько могли рассмотреть, при неполном свете одного окна. Граф серьезно встревожился; он велел открыть и другие ставни, чтобы продолжать поиски. Никаких следов Людовико… Граф постоял с минуту, ошеломленный изумлением и едва доверяя своим чувствам. Наконец глаза его невольно скользнули по постели; он подошел посмотреть, не спит ли там юноша, но и там оказалось пусто. Тогда граф заглянул в нишу – очевидно, и туда никто не заходил… Людовико точно в воду канул…
Граф старался разумно объяснить себе это необыкновенное явление: ему приходило в голову, не убежал ли Людовико еще ночью, подавленный ужасом в этих пустынных, мрачных покоях, под влиянием страшных слухов, ходивших о них между прислугой. Но ведь в таком случае Людовико с перепугу, естественно, первым делом искал бы общества людей, а его товарищи-слуги все уверяли, что не видели его. Дверь последней комнаты также была найдена запертой и с ключом в замке. Следовательно, невозможно было предположить, что он прошел оттуда, да и все наружные двери анфилады оказались запертыми засовами и с ключами налицо. Один момент граф склонен был думать, что юноша вылез в окно; тогда он осмотрел все окна; те из окон, которые отворялись настолько, чтобы в них мог пролезть человек, были тщательно заперты засовами или железными болтами и, по-видимому, никто не делал попытки отворить их. Да и трудно было допустить, чтобы Людовико стал подвергаться риску сломать себе шею, прыгая в окно, когда так просто было пройти через дверь.
Граф был до такой степени изумлен, что не находил слов; еще раз он вернулся осмотреть спальню; там не видно было никаких следов беспорядка, кроме разве опрокинутого слугою кресла, возле которого стоял маленький столик, а на нем по-прежнему находился меч Людовико, стояла на столе его лампа, бутылка с остатками вина и лежала книга, которую он читал. У стола, на полу виднелась корзина с кое-какими остатками провизии и топлива.
Тут Анри и слуги стали уже без стеснения выражать свое удивление; граф говорил мало, но лицо его обличало серьезную тревогу. Приходилось допустить, что Людовико выбрался из этих покоев каким-нибудь тайным ходом: граф не мог предположить, чтобы тут участвовала сверхъестественная сила; а между тем, если бы существовал такой ход, являлось необъяснимым, почему юноша удалился украдкой. Поражало и то, что не замечалось никаких следов, указывавших на такое бегство. В комнатах все было в таком порядке, как будто Людовико ушел обычным путем.
Граф сам помогал приподымать тканые обои, которыми были увешаны спальня, салон и одна из передних, чтобы убедиться, не скрывается ли под ними какой-нибудь потайной двери; но после тщательного обыска, никакой двери не оказалось.
Наконец он ушел из северных покоев, заперев дверь последней из аванзал, и взял ключ с собою. Первым делом он отдал распоряжение произвести самые тщательные поиски с целью напасть на след Людовико не только в самом замке, но и по соседству.
Удалившись с Анри в свой кабинет, он долго просидел с ним с глазу на глаз. О чем они беседовали – неизвестно, но с тех пор Анри утратил некоторую долю своей обычной живости и всякий раз принимал какой-то печальный, сдержанный вид, когда при нем касались предмета, так сильно волновавшего теперь семейство графа.
После исчезновения Людовико барон де Сент Фуа как будто еще более утвердился в своем мнении относительно возможности сверхъестественных явлений, хотя трудно было бы отыскать, какая может быть связь между тем и другим предметом; одно можно было предположить, что тайна, касающаяся Людовико, возбуждая страх и любопытство, делала воображение более чувствительным к влиянию суеверия вообще. Как бы то ни было, с той поры барон и его приверженцы еще усерднее прежнего стали держаться своих убеждений, а страхи среди прислуги замка достигли небывалых размеров; многие немедленно отошли от места, а прочие остались в замке лишь до тех пор, пока будут найдены новые слуги, чтобы заменить их.
Самые усиленные розыски оставались безуспешными: Людовико точно сгинул. После нескольких дней неутомимых поисков бедная Аннета предалась отчаянию, а прочие обитатели замка не помнили себя от изумления.
Эмилия, воображение которой было глубоко потрясено судьбою покойной маркизы и таинственной связью, существовавшей, как она думала, между нею и Сент Обером, была особенно заинтересована этим последним необычайным происшествием и очень огорчена исчезновением Людовико, своей верной и преданной службой заслужившего ее уважение и благодарность. Более чем когда-нибудь ей хотелось вернуться в спокойный, мирный приют свой в монастыре. Но малейший намек на это намерение возбуждал в Бланш искреннее огорчение; также и отец ее ласково удерживал Эмилию. К графу она чувствовала почтительную привязанность дочери и с согласия Доротеи, наконец сообщила ему о привидении, явившемся им обеим в спальне покойной маркизы.
Во всякое другое время граф только посмеялся бы над таким рассказом и подумал бы, что он порожден расстроенной фантазией рассказчицы. Но теперь он выслушал Эмилию со вниманием, и когда она кончила, попросил ее сохранить это происшествие втайне.
– Какова бы ни была причина и значение этих необыкновенных явлений, – прибавил граф, – их может разъяснить только время. Я намерен неусыпно следить за всем происходящим в замке и буду всеми силами стараться узнать судьбу Людовико. Тем временем надо молчать и быть осторожными. Я сам лично буду караулить в северных покоях; но еще ничего об этом не говорю, пока не настанет ночь, которую я наметил для исполнения моего намерения.
Затем граф послал за Доротеей и просил ее также молчать обо всем, что она видела и что впредь увидит сверхъестественного; тогда эта старая слуга рассказала ему подробности кончины маркизы де Вильруа, впрочем, с некоторыми из них он был уже знаком, а другие, напротив, сильно удивили и взволновали его.
Выслушав повествование экономки, граф удалился в кабинет и несколько часов оставался там один. Когда он опять появился, на его лице было какое-то торжественное выражение, поразившее Эмилию, но она никому об этом не сказала.
Через неделю после странного исчезновения Людовико, все гости графа разъехались; остались только барон де Сент Фуа с сыном да Эмилия. Вскоре, однако, последняя была смущена неожиданным приездом нового гостя – мосье Дюпона. Это заставило ее решиться немедленно уехать в монастырь. Восторг, написанный на его лице при встрече с нею, убедил ее, что он по-прежнему пылает к ней нежной страстью. Эмилия встретила его сдержанно, а граф с нескрываемым удовольствием. Он подвел Дюпона к Эмилии с улыбкой, как бы желая замолвить перед нею слово в его пользу. По всей вероятности, граф счел благоприятным признаком для своего друга смущение, появившееся на ее лице при встрече с ним.
Но сам Дюпон, более чуткий, понял смысл ее смущения, лицо его сразу утратило живость и по нему разлились печаль и отчаяние.
На другой день он, однако, искал случая побыть с нею наедине и повторил свое предложение. Эмилия выслушала это признание с искренним огорчением: она старалась смягчить вторичный отказ уверениями в своем уважении и дружбе. Однако отчаяние Дюпона возбудило в ее сердце нежное сострадание. Сознавая более чем когда-либо, как неловко ей долее оставаться в замке, она немедленно пошла к графу и сообщила ему о своем намерении вернуться в обитель.
– Милая моя Эмилия, – сказал он, – я с огорчением замечаю, что вы предаетесь иллюзии, – впрочем, иллюзии общей всем юным, чувствительным душам. Сердце ваше получило же стокий удар; вы убеждены, что никогда уже не оправитесь от него, и хотите поддерживать в себе эту уверенность до тех пор, пока привычка лелеять в себе горе не подточит силы вашего ума и не обесцветит ваших надежд на будущее печальными сожалениями. Позвольте мне рассеять эту иллюзию и пробудить вас к сознанию вашей опасности.
Эмилия грустно улыбнулась.
– Я знаю, что вы все это искренно чувствуете, – возразил граф. – Знаю я также, что время сгладит эти чувства, если только вы не станете переживать их в одиночестве и – простите меня – лелеять их с романтической нежностью. Я более чем кто-нибудь другой вправе говорить об этом и сочувствовать вашим страданиям, – прибавил граф с ударением, – потому что я сам испытал, что значит любить и оплакивать предмет своей страсти. Да, – продолжал он, в то время как глаза его наполнились слезами, – я тоже страдал! Но времена эти миновали, давно миновали! И теперь я могу уже оглядываться назад без волнения.
– Но, милый граф, – робко проговорила Эмилия, – что означают эти слезы? Я боюсь, что они противоречат вашим словам и говорят в мою пользу…
– Это слезы слабости, тщетные слезы! – возразил граф, отирая глаза. – Мне хотелось бы видеть вас выше подобной слабости. Впрочем, это только последние следы горя, которое довело бы меня до безумия, если бы я не старался всеми силами победить его. Судите сами, имею ли я право предостеречь вас от опасности предаваться горю? Ведь это ведет к ужасным последствиям: если вовремя не оказать противодействия этой слабости, то она затуманит печалью долгие годы, которые иначе могли бы быть счастливыми. Мосье Дюпон умный, прекрасный человек и давно питает к вам нежную привязанность; положение его и состояние исключительные; после всего сказанного мне нечего и добавлять, что я порадовался бы вашему счастью и что, мне кажется, мосье Дюпон мог бы дать его вам. Не плачьте, Эмилия, – продолжал граф, взяв ее руку, – я уверен, что вас ожидает счастье!
Он помолчал немного, затем прибавил более твердым голосом:
– Я не требую от вас никаких мучительных усилий для того, чтобы преодолеть свои чувства, одного я прошу, чтобы вы постарались подавить в себе воспоминания о прошлом, чтобы вы не утратили надежды на возможность счастья, чтобы вы с добрым чувством иногда помышляли о Дюпоне, а не повергали его в состояние отчаяния, то самое, из какого я стремлюсь извлечь вас, милая Эмилия!
– Ах, граф, – отвечала Эмилия, и слезы градом полились из се глаз, – я боюсь, что, желая мне добра, вы поддерживаете в шевалье Дюпоне несбыточные надежды; я не могу принять его руки! Если я верно понимаю свое сердце, то этому никогда не бывать. Я готова следовать вашим советам во всем остальном, и только в этом не могу изменить своего решения.
– Но допустите, что и я понимаю, что творится в вашем сердце, – отвечал граф со слабой улыбкой. – Вы льстите мне, говоря, что соглашаетесь следовать моим советам во всем остальном, и я извиняю вам ваше несогласие с моим мнением по поводу ваших отношений к мосье Дюпону. Я даже не стану убеждать вас оставаться в замке долее, чем вы желали бы; не смею вас удерживать теперь, однако, ссылаясь на права дружбы, требую ваших посещений на будущее время.
Эмилия, проливая слезы признательности и нежного сожаления, поблагодарила графа за все эти доказательства дружбы; она обещала ему слушаться его советов во всем, кроме одного предмета, и уверела его, что с удовольствием в недалеком будущем воспользуется приглашением его и графини, но в том только случае, если мосье Дюпона не будет в замке.
Граф улыбнулся этому условию.
– Пусть будет по-вашему, – сказал он, – а между тем монастырь отстоит от нас так недалеко, что я и дочь будем часто посещать вас; если же случится, что мы приведем с собою еще и другого посетителя, неужели вы не простите нас за это?
Эмилия смутилась и молчала.
– Ну, хорошо, – продолжал граф, – я не стану более касаться этого предмета, и прошу у вас извинения за то, что настаивал на нем так долго. Но надеюсь, вы отдадите мне справедливость и признаете, что мною руководило только искреннее желание счастья и вам и моему славному другу шевалье Дюпону.
Расставшись с графом, Эмилия отправилась известить о своем предстоящем отъезде графиню; та, из учтивости пробовала удерживать ее, но, конечно, тщетно; затем Эмилия послала записку к матери-игуменье, извещая о своем возвращении в монастырь; на другой же день вечером она отправилась туда. Мосье Дюпон с горестью провожал ее, а граф старался разогнать его печаль надеждой, что когда-нибудь Эмилия бросит на него более благосклонный взгляд.
Эмилия была рада снова очутиться в мирном убежище обители; там она снова встретила материнскую нежность игуменьи и дружеское участие монахинь. До них уже дошли слухи о необычайных происшествиях, случившихся за последнее время в замке, и после ужина, в самый день ее приезда, об этом только и говорили в монастырской трапезной; к Эмилии обращались с расспросами об этом необъяснимом случае. Эмилия держалась крайне осторожно; она лишь вкратце рассказала кое-какие подробности, касающиеся Людовико, исчезновение которого ее слушатели единогласно объясняли себе действием сверхъестественной силы.
– Давно уже существовало убеждение, – сказала одна из монахинь, сестра Франциска, – что в замке водятся духи, и я очень удивилась, услыхав, что граф имеет смелость поселиться там. Кажется, у прежнего владельца замка было на душе какое-то преступление, которое он желал искупить; будем надеяться, что добродетели теперешнего владельца предохранят его от кары за грехи его предшественника, если тот в самом деле совершил преступление.
– В каком преступлении обвиняли его? – спросила мадемуазель Фейдо, одна из пансионерок монастыря.
– Будем молиться за упокоение его души! – произнесла одна из монахинь. – Если он и совершил преступление, то уже достаточно наказан в этом мире!
Слова эти, произнесенные каким-то странным тоном, полным торжественности, поразили Эмилию; но мадемуазель Фейдо повторила свой вопрос, не обращая внимания на горячее вмешательство монахини.
– Я не решаюсь выражать предположений насчет того, в чем состояло его преступление, – отвечала сестра Франциска, – но я слышала много толков довольно странного свойства о покойном маркизе де Вильруа; между прочим говорили, что вскоре после смерти своей супруги он покинул замок Ле-Блан и уже никогда больше туда не возвращался. Меня здесь не было в ту пору, так что я передаю только слухи; так много лет прошло со времени смерти маркизы, что немногие из наших сестер помнят то время.
– А я помню, – сказала та же монахиня, что вмешалась в разговор, звали ее сестрой Агнесой.
– Значит, вы знакомы со всеми обстоятельствами дела, – обратилась к ней м-ль Фейдо, – и можете судить, был маркиз преступен, или нет, и в чем состояло злодеяние, в котором его обвиняли?
– Да, – отвечала монахиня, – но кто дерзнет выпытывать мои мысли, кто дерзнет силою исторгать мое мнение? Один Господь ему судья, и к этому Судье он призван…
Эмилия с изумлением переглянулась с сестрой Франциской.
– Я просто спросила вашего мнения, – кротко заметила м-ль Фейдо, – еоти предмет этот вам неприятен, я могу не касаться его.
– Неприятен! – с горячностью воскликнула монахиня, – мы пустые болтуны, мы не взвешиваем значения произносимых слов; неприятен – это жалкое слово. Я пойду помолиться!
С этими словами она встала и, глубоко вздохнув, вышла из комнаты.
– Что это значит? – спросила Эмилия, как только она удалилась.
– Ничего особенного, – отвечала сестра Франциска, – на нее это часто находит; но в ее словах нет никакого смысла. Ее рассудок по временам приходит в расстройство. Разве вы раньше никогда не видели ее такой?
– Никогда, – сказала Эмилия. – Правда, иной раз мне казалось, что в глазах ее светится печаль и даже безумие… Но в речах ее я ничего не замечала. Бедняжка, я помолюсь за нее!
– Ваша молитва сольется с нашими, дочь моя, – заметила аббатиса, – Агнеса нуждается в молитвах!
– Матушка, – обратилась м-ль Фейдо к аббатисе, – а каково ваше мнение о покойном маркизе? Странные происшествия в замке до такой степени раззадорили мое любопытство, что вы мне простите мои расспросы… В чем состояло возводимое на него преступление и на какое наказание намекала сестра Агнеса?
– Мы должны быть осторожны, выражая свое мнение о таком щекотливом предмете, – проговорила аббатиса сдержанным, но торжественным тоном. – Я не возьму на себя произносить приговор над покойным маркизом и догадываться, в чем состоял его грех. Что касается наказания, на которое намекала сестра Агнеса, то мне о нем ничего не известно. Вероятно, она подразумевала жестокое наказание, происходящее от угрызений совести. Берегитесь, дети мои, навлечь на себя такое страшное наказание – это не жизнь, а чистилище! Покойную маркизу я хорошо знала; она была образцом всех добродетелей; даже наш святой орден не краснея мог бы следовать ее примеру. В нашей святой обители погребены ее смертные останки, а небесная душа ее, без сомнения, вознеслась в обители горние!
В то время, как аббатиса произносила эти слова, прозвучал колокол к вечерне, и она встала.
– Пойдемте, милые дети, – произнесла она, – и помолимся за несчастных; пойдемте, покаемся в своих собственных грехах и постараемся очистить души свои, чтобы быть достойными небес, куда «она» призвана.
Эмилия была тронута торжественностью этого обращения и, вспомнив отца своего, тихо проговорила:
– Небес… куда и он призван!
Она подавила тяжкий вздох и последовала за игуменьей и монахинями в часовню.








