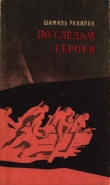Текст книги "Пробуждение барса"
Автор книги: Анна Антоновская
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Рассеченный молнией дуб обагрял листьями церковную площадь Эзати. Против серокаменной церкви на веселом оранжевом балконе дома азнаура Асламаза собралась вся семья азнаура смотреть на интересное зрелище испытания кипятком. Стройный Асламаз, затянутый в черную чоху, мог бы считаться красивым, если бы не след лезгинской стрелы, пронзившей ему правую щеку.
Внизу, словно взбудораженные ульи, жужжал народ. Обступив площадь полукругом, все напряженно следили за страшными приготовлениями. Церковные прислужники торжественно подбрасывали сухие поленья под медный котел, стоявший на почерневших кирпичах. Огонь жадно облизывал синими языками выгнутые бока котла, и едкий дым неровными клубами расползался в воздухе. Эзатцы были уверены в невинности Мераба, но… бог далеко, а гзири близко. И еще мелькали пугливые мысли: бог может воспользоваться случаем и за другое наказать. Тяжело топтались эзатцы на месте, перебрасывались отрывистыми фразами, крестились и с нетерпеливым любопытством старались придвинуться к котлу. Но окрики гзири держали всех за положенной чертой.
Семья Киазо стояла отдельной группой. Затравленные, они озирались по сторонам, на их лицах уже лежала печать отверженности. Среди них особенно выделялся бледный, с померкшими глазами Киазо. Еще так недавно красивая одежда царского дружинника разодралась об острые колючки лесных зарослей, загрязнилась придорожной пылью. В густых волосах запутался высохший сучок. Крепко сомкнулись распухшие и искусанные до крови губы. Киазо цеплялся за последнюю надежду – вчера ему удалось вместе с едой передать отцу драгоценную мазь против огня, за которую он отдал старухе знахарке последнее свое богатство – дорогую рукоятку княжеского кинжала. «Оправдают отца – могу быть в дружине азнаура Асламаза, уже обещал принять», – думал Киазо, с глубокой ненавистью заглядывая в начинающий кипеть котел.
Мать Киазо, с почерневшим от горя лицом, думала свою будничную думу о том, как снова после оправдания Мераба на их земле поволокут плуг две пары буйволов, как глубокие ямы наполнятся крупным зерном, как снова войдет в дом спокойная жизнь.
Сзади толпы осадила коней «Дружина барсов». Киазо быстро поднял голову и тотчас отвернулся.
Ностевцы с сожалением оглядывали Киазо и не узнавали в нем красивого жениха Миранды.
Толпа заволновалась.
– Идет! Идет!
Окруженный стражей, подходил, еле передвигая ослабевшие ноги, Мераб.
Рослый священник с рыжей бородой, в лазурной ризе, перекрестил нательным крестом уже бурлящую в котле воду и, опустив крест в кипяток, торжественно произнес:
– Если ты не виновен в поджоге царского амбара, то падет на тебя благословение бога, сына его и святого духа, и не будешь ты уязвим кипящей водой до второго пришествия. Смело опусти руку в кипяток и со спокойным сердцем достань крест во славу справедливого суда.
Мераб побледнел, судорожно задергался, мысленно призывая святую троицу не допустить обмана знахарки, клявшейся в чудодейственной силе мази.
Толпа затаив дыхание следила за всеми движениями Мераба, закатывающего левый рукав продранной чохи.
Вдруг старший гзири, соскочив с коня, подбежал к Мерабу, пристально взглядываясь в его оголенную, с желтым отсветом руку.
– Я в твою левую руку не верю, правую опусти в котел.
Мераб шарахнулся в сторону, схватился за сердце и жалобно застонал.
Толпа ахнула. Раздались протестующие крики, но их заглушил мощный голос Саакадзе.
– Нарушаешь закон, гзири, ты, верно, забыл, – правую руку для работы оставляют.
Киазо быстро вскинул благодарные глаза на Саакадзе.
Но гзири насмешливо ответил:
– Закон хорошо знаю, поэтому на обман не поймаюсь. Обнажай правую руку, иначе обеими заставлю крест ловить.
Мертвая тишина сковала площадь.
Вдруг Киазо изогнулся, одним прыжком очутился около гзири, яростно наотмашь рубанул его кинжалом по голове и, не оглядываясь на стоны, крики, брань потрясенной толпы, вскочил на коня убитого гзири и ветром пронесся через площадь.
– Держите! – неистово завопил священник.
– Держите! Держите! – вторила ему бессмысленно топтавшаяся на месте толпа.
Гиви уже сделал движение повернуть коня, но сильная рука Димитрия схватила его поводья.
– Полтора часа буду бить ишачью голову!
Молодой гзири выскочил вперед:
– Раньше суд, потом погоня, далеко не уйдет.
Асламаз перегнулся с балкона.
– Вы же на конях, азнауры, почему в погоню не скачете?
– Мы не стража, – ответил холодно Саакадзе.
Молодой помощник убитого гзири, уже давно мечтавший о должности старшего гзири, скрывая радость, поспешно приказал дружиннику снарядить погоню, распорядился убрать труп, плавающий в кровавой луже, за церковную ограду и, как ни в чем не бывало, преувеличенно сурово крикнул:
– Опускай, старик, левую руку, конечно, по закону надо судить. Если окажешься невиновным, за кровь с тебя не взыщем.
На площади раздались радостные восклицания. Кто-то услужливо громко стал восхвалять справедливость молодого гзири.
Мераб с готовностью сунул левую руку в кипяток и быстро выдернул обратно, держа в сжатых пальцах блестящий крест.
Рука Мераба осталась такой же бледно-желтой. И только, словно по лощеной бумаге, скатывались горячие капли… Радость охватила семью. Не было сомнения, Мераб невиновен. Но согласно судебному обряду молодой гзири надел на левую руку Мераба мешочек, завязал тесьмой и, приложив государственную печать, громко на всю площадь крикнул:
– Если через три дня кожа не слезет, режьте баранов на пир!
– Не осталось! – крикнул кто-то весело в толпе.
«Дружина барсов», взбудораживая мягкую пыль, скрылась за мохнатыми выступами Негойских высот.
Под звонкими копытами пронеслись крутые повороты Гостибского ущелья, и навстречу первому дыму близкого Носте взлетели пять лихих папах.
Дато, нетерпеливо поводя плечами, мечтал о встрече с красавицами в пылающих лентах, с манящими глазами, возбуждающими радость, о первом танце тут же на дороге, при въезде в Носте, под бешенство сазандари.
Димитрий вздыхал о выпитом без него вине, на что Папуна утешительно похлопывал по трясущемуся в хурждини бурдюку.
Ростом досадовал на болтливость ускакавших раньше товарищей, после которых нечем будет удивить даже ребенка.
Георгий предлагал отцов новых азнауров подбросить до верхушки острого камня. Димитрий одобрил это намерение, но требовал для деда равных почестей, так как дед и отец его весят вместе столько, сколько один Иванэ Кавтарадзе.
Пануш считал необходимым посадить дядю Шио на украшенного зеленью коня и с зурной проводить до дому.
Но Папуна решительно протестовал: не надо никого выделять, лучше всех отцов напоить вином, и пусть каждый добирается домой, как может. Смеясь и предугадывая встречу, натягивая поводья, спускались ностевцы к долине, наполненной солнцем.
В безмолвной тишине все ностевцы от стариков до детей, словно вбитые гвозди, торчали по обеим сторонам дороги.
Священник в праздничном облачении с выпуклыми ангелочками на полинялой голубой парче, с плоской иконой Георгия Победоносца, взлетающего на полустертом коне к потускневшим звездам, с дутым серебряным крестом в руке, протянутой навстречу подъезжающим, стоял впереди. Около него стояли нацвали, гзири с дружинниками, старшие и младшие надсмотрщики. Позади, у груды камней, в стороне от всех испуганно жались месепе.
Азнауры хотели броситься к родным, но тень властно поднятого креста пересекла дорогу. Потекла проповедь о покорности новому господину, удостоенному великой царской милости. Саакадзе нетерпеливыми глазами увидел на возвышенном месте Тэкле и мать, окруженную женами священника, гзири, нацвали, сборщиков. Тэкле восторженно смотрела на брата, а Маро, подавленная вниманием гзири, еще вчера не удостаивавших ее ответным поклоном, робко смахивала слезы, мешавшие видеть сына. Воскресный костюм Шио широко свисал лишними складками. Осторожные пальцы застыли на новой папахе. Он боялся повернуться, боялся зацепить длинным кинжалом белую чоху нацвали.
– Что это такое? – с недоумением прошептал Георгий.
– Не видишь, ишаки встречу тебе устроили, – умышленно зевнул Папуна.
Георгий оглянулся на товарищей. Дато, сдерживая смех, проговорил:
– Ешь на здоровье, Георгий.
– Убирайся к черту! – огрызнулся Саакадзе. Взмыленные кони сердито раздували ноздри.
– Если священник через полтора часа не кончит, я на него коня пущу, – яростно кусая губы, сказал Димитрий.
Только Ростом молчал.
«Саакадзе – владетель Носте, – сообразил он, – а родные новых азнауров – собственность Георгия».
Ростом покосился на товарища.
«А под ветвями чинары Нино, „золотая Нино“ – радостно думал Георгий, – но почему опущены ресницы? А вот дядю Датуна сегодня же обрадую новой одеждой, но что с ним, почему горбится? А вот отец Гиви, тоже печальный, несчастье какое случилось или не рады нам?»
Георгий быстро оглянулся на шепот Ростома и Дато. Друзья умолкли, избегая его взгляда.
Папуна гневно вытер затылок синим платком.
– С ума, что ли, сошел? Люди с родными хотят поздороваться, а он серебряный черт, о покорности на жаре говорит. Совести в нем нет.
Услышал ли священник шепот или взор его жены напомнил ему сказание об аде, но он поднял крест. Молодежь двинулась вперед. Священник строго оглянулся, подошел к Саакадзе и, благословив Георгия, кротко попросил его быть снисходительным господином, ибо перед богом все равны.
Георгий выслушал священника стиснув зубы. Мгновение – и Тэкле сидела на крепкой руке, а счастливая Маро, приподнявшись, старалась достать лицо сына.
Шио, как приросший, стоял между нацвали и старшим сборщиком. Пятки у него горели, он не смел двинуться: длинный кинжал, как назло, цеплялся за белую чоху нацвали. Наконец Георгий выручил отца.
Священник недоуменно переглянулся с гзири и нацвали, те презрительно пожали плечами. Саакадзе не только не ответил на торжественную проповедь, но даже не поблагодарил за встречу.
Саакадзе поспешил поздороваться с ностевцами, но перед ним все расступились и склонились.
– Что это значит? – изумился Георгий. Ему не ответили. Низко кланялись, топтались на месте, сжимали папахи.
– Дядя Иванэ, победа!
– Будь здоров, Георгий, – смущенно ответил Кавтарадзе. – Что ж, поздравляю, повезло тебе… Вот мой Дато тоже получил надел…
Он замялся и неловко спрятался за чью-то спину.
«Что с ним случилось? – тоскливо подумал Георгий. – Где радостная встреча, о которой мечтали на Негойских высотах?»
Саакадзе оглянулся.
Товарищи, окруженные родными, не замечали его.
Подошел Элизбар. Рот кривился улыбкой, перевязанная рука беспокойно двигалась на груди. Обрадованный Георгий бросился к другу и, обняв, горячо поцеловал.
Элизбар, повеселев, радостно крикнул:
– Э, Георгий, ты такой же друг остался! Спасибо, не забыл в царском списке Элизбара. А мне вот руку вонючей травой перевязывают. Отстал от вас, жаль, на метехский пир не попал… Говорят, царь без тебя жить не может, скоро в князья пожалует… Теперь не интересно нас видеть…
– Тебе, Элизбар, руку или голову вонючей травой перевязывают? Дороже всего мне родные и товарищи.
И добавил тише:
– Приходи, Элизбар, поговорим. Что тут произошло?
Дед Димитрия, тяжело опираясь на палку, подошел к Георгию и, поклонившись, почтительно произнес:
– Отпусти, господин, домой, с утра народ скучает, гзири согнал тебя встречать, устали…
Побагровел Георгий, нагайка хрустнула в пальцах… Сорвавшись, он схватил Тэкле, за ним, едва поспевая, бежали Маро и Шио. Народ, облегченно вздохнув, поспешно расходился.
Дома в глаза Георгию бросилось изобилие еды. Груды всевозможных яств скрыли скатерть. На большом подносе скалил зубы жареный барашек.
– Старший сборщик прислал, – пояснила Маро, уловив недоуменный взгляд сына, – а жареного каплуна – нацвали. Сладкое тесто с вареньем жена священника приготовила, и гзири бурдюк вина сам принес, а вот блюдо гозинаки – подарок надсмотрщика… Что случилось, сын мой? Неужели правду говорят – царь тебе Носте подарил?
– Правда, моя мама… но что здесь случилось? Почему народ на себя не похож?
Маро не успела ответить. Ожесточенно ругаясь, вошел Папуна.
– Хороший праздник, бросил коня и убежал. Конечно, Папуна двоих может таскать. Хотел заставить пузатого нацвали привести коней, да боялся – зайдет в дом, обед скиснет. О, о, о, Маро, молодец, сколько наготовила! Ну-ка, Георгий, покажем азнаурский аппетит.
– Уже показали… Видел, как встретили?
– А ты думал, целоваться с тобой полезут? Где видел, чтобы господина народ целовал? Подошла ко мне старуха Чарадзе, согнулась кошкой: «Попроси господина оставить нам двух баранов, говорят, все будет отнимать». Хорошее слово у меня на языке танцевало, жаль, не для женского уха.
– Что ты ответил ей? – робко спросила Маро.
– Ответил? Хорошо ответил, ночь спать не будет. – Папуна расхохотался. – Решил, говорю, новый господин Носте, азнаур Георгий Саакадзе, у всех мужчин шарвари снять, пусть так ходят… Знаешь, Георгий, поверила: побледнела, зашаталась, долго крестилась, теперь по всему Носте новости разносит.
– Это, друг, совсем не смешно, – задумчиво произнес Георгий.
– Э, дорогой, брось думать, давай лучше зальем грузинской водой царского барашка… Маро, признайся, откуда разбогатела? Бывшее начальство прислало?
Папуна захохотал.
– Подожди, Маро, еще много вытрясут разжиревшие воры… Тэкле, не смотри скучной лисицей, азнаур Папуна не забыл привезти тебе подарки. Подожди, покушаем – увидишь. Мы с Георгием весь тбилисский майдан запрятали в хурджини и три праздничные одежды, полученные Георгием от царя, тоже туда поместили.
– Дорогой большой брат, потом покушаешь, раньше покажи подарки.
Тэкле обвилась вокруг шеи Георгия, и он только в этот момент почуствовал нахлынувшую радость. Из развязанных хурджини выплеснулся ворох разноцветных шелковых лент, кашемир разных цветов, зеленые и красные стеклянные бусы и платок со сладостями. Маро, довольная, разглядывала синий шелк, бархатный тавсакрави и тонкий лечаки. Шио тут же примерил полный праздничный костюм и залюбовался кисетом.
Подарки Папуна ослепили Тэкле. Полосатые сладости соперничали с голубым камешком колечка.
В проворных зубах рассыпался оранжевый петушок.
Серебряный браслет и булавку с бирюзой для тавсакрави Маро после тысячи восклицаний тщательно спрятала в стенной нише.
Шио, напевая песенку о чудной жизни богатых азнауров, вертел в руках новую папаху.
Но Папуна не забыл и других друзей: один из хурджини остался неразвязанным. Яркие ленты, бусы, сережки и сладости ждали детей Носте. Папуна предвкушал радость «ящериц» при виде сладкого лебедя, куска халвы или ленты.
Маро опьяненная ходила около сына, точно не веря своему счастью, касалась черных волос, рук, лица. Шио, ошеломленный, в пятнадцатый раз перекладывал одежду сына и все не мог по своему вкусу повесить на стене шашку Нугзара. Тэкле носилась по комнате, успела разбить глиняный кувшин и примерила на голове все ленты.
Поздняя луна холодными бликами расплескалась по Носте, качалась по каменным стенам, кольнула глаза Георгия. Он тихо встал. Протяжно зевнула дверь. Тартун одобрительно постучал хвостом. Георгий бесцельно постоял над ним и вышел на улицу.
«Я, кажется, их ничем не оскорбил, а может, обиделись за принужденную встречу? Конечно, обиделись, завтра выяснится, и мы посмеемся над глупостью гзири».
Георгий широко вдохнул ночную прохладу. Осторожно ступая, брел он по закоулкам близкого его сердцу Носте. Взбудораженные мысли теснили голову. Действительность принимала уродливые очертания. Кто-то приглушенно рыдал.
«Нино», – догадался Георгий и увидел на крыше согнутую фигуру. Нино испуганно метнулась в сторону. Длинная тень замерла у ее ног, и Георгий властно схватил беспомощную руку.
– «Буду ждать тебя вечно», – не твои ли это слова, или шумный ветер турецких сабель надул в уши пустые мысли о золотой Нино?
– Нет, Георгий, вся моя жизнь в данном тебе, обещании, но кто мог предвидеть такое возвышение? Разве дело богатого азнаура, владетеля Носте, думать о дочери своего пастуха? Нино всегда была беднее других девушек, но глупостью никогда не страдала.
– Подожди, Нино, почему мое возвышение должно вызывать в любимых людях слезы? Ты первая должна была встретить меня с песней. Чем я заслужил твою скорбь?
– Скорбь от предчуствия… Твое возвышение, Георгий, – мое падение. Какими руками достать тебя?
– Никогда, Нино, не говори так, – задумчиво произнес Георгий, – иначе, правда, могу разлюбить. Ничего не могу сделать с собою: не люблю рабские души. Будь тверда, если хочешь моей любви.
– Слушай, Георгий, и на всю жизнь запомни слова твоей Нино, да, твоей… Мое сердце для другого не забьется… Георгий, ты солнце, воздух, только тобою буду дышать до последнего часа. Но ты не знаешь, у каждого человека своя судьба, пусть случится предначертанное богом. Не сопротивляйся, Георгий, и не думай обо мне.
– Нет, только о моей Нино буду думать, сейчас дадим клятву друг другу в верности… Я клян…
– Постой, Георгий, не клянись. Прими мою клятву, а сам не клянись… Я верю тебе, и, если угодно будет богу, Нино будет счастлива. Клянусь святым Георгием, будешь ли моим мужем или нет, никогда рука другого не коснется меня, сердце не забьется для другого, мысль не остановится на другом, и до конца жизни только тебя, Георгий, будут видеть мои глаза… Ты же свободен во всем. Ничто не изменит моей клятвы.
– Хорошо, я клясться не буду, но Нино мою никому не отдам. Пусть никогда не плачут эти глаза.
– Ты больше не услышишь плача Нино.
В расширенных зрачках всколыхнулись зеленые огни. Сжались руки, испуганной птицей забилось сердце.
Глубокая чаша опрокинула голубой воздух. Растаяли острые звезды. У плетня, почесываясь, закряхтел дед Димитрия. Георгий и Нино, смеясь, быстро скатились с земляной крыши.
…В просторном доме отца Ростома ради важного дела с утра собирались отцы новых азнауров. Необходимо до появления Георгия вынести решение.
На предложение отца пойти взглянуть, не поднялась ли вода в речке, Ростом пожал плечами и, взяв папаху, зашагал к Димитрию, где собравшиеся «барсы» обсуждали вчерашнее событие.
– Некоторых по дружбе и так отпустит.
– Отпустит? С твоим внуком он дружен, может, тебя и отпустит, на что ему старики. А что делать родителям новых азнауров, им царь грамоты не дал.
– С твоим сыном Георгий тоже дружен, – не сдавался дед Димитрия.
– О нас нечего думать. Дато уедет, Амши – богатая деревня. Но как оставить Носте? Вот у меня: я работал, пять сыновей работали, месепе работали, жена домом распоряжалась, две дочки – красавицы будут – с птицей возились… Зачем ему дарить дом? Шесть коров имею и буйвола, у каждого сына конь на конюшне, двадцать баранов, четыре козы, пчел много! Все своими руками нажил, а теперь уходи к сыну? Какое сердце должен иметь, чтобы уйти?
– Мой Димитрий говорит: Георгий всех отпустит.
– Э, отец, конечно, отпустит, а хозяйство?
– Димитрий, дурак, думает, на него похожи друзья. – Отец Димитрия сокрушенно махнул рукой.
– Вот мой Элизбар тоже дурак, – вздохнул старик, – вчера его Георгий в гости звал. Сегодня побежал, а Шио в дом не пустил: «Спит еще мой богатый азнаур…» Давно ли за навозом ко мне бегал, а теперь внука в дом не впускает… Эх, плохо, когда свой господином становится. Что теперь будет? У меня тоже три коровы, желтая отелиться должна, четыре буйвола, овцы есть, кони тоже… птицы много… Жена каплунов любит, двадцать пар выкормила! Землю хорошую царь Элизбару отвел, речка рядом шумит, лес густой, поле широкое, но на голой земле только танцевать удобно. Даже буйволятника нет. Придется здесь остаться, а Георгия упросить надел в аренду взять…
– Я тоже так думал, а мой Гиви слышать не хочет; поедем на новую землю, дом выстроим, тутовых деревьев там много, шелком будем жить, а что делать с пустым домом без хозяйства? Пока шелк наработаешь, голым останешься, даже танцевать неудобно.
– Поедем?! А разве тебе царь тоже вольную дал? Разве твой Гиви не знает, он один вольный, а все его родные – собственность Георгия? – волновался дед Димитрия. – Я согласен уйти, Димитрию сто монет царь подарил, как-нибудь устроимся. Лучше на голой земле, да свободным быть, семья наша небольшая. Но разве отпустит?
– Хорошо иногда о свободе думать, – с досадой плюнул отец Ростома, – у тебя почти хозяйства нет. Одна корова и шесть хвостатых овец – большое хозяйство! А у меня после Иванэ первое хозяйство: пять коров имею, теленок растет, три коня, как ветер, пятнадцать курдючных овец, пятьдесят кур имерийской породы, двадцать гусей! Какой огород сделал, канавы провел, трех месепе имею, – все это бросай? Если даже отпустит, не пойду.
– Человек всегда жадный. Вот Иванэ… Амши – богатая деревня, можно скот развести, дом хороший взять, почему не уходит? К сыну? А сын что, чужой? – нервно выкрикнул отец Матарса. – Пусть свободу даст, сейчас уйду с семьей, – повторил он страстно.
– Подожди, накушаешься еще свободой. У Георгия всегда острый язык и твердый характер были, только раньше власти не имел.
Как ни спорили, как ни решали, все получалось плохо. Царским крестьянам жилось лучше княжеских, но крестьянам мелкого азнаура приходилось впрягаться в ярмо для поддержания азнаурского достоинства своего господина. Не найдя выхода, порешили отдаться на божью волю и уныло разошлись по домам.
Озадачена была и молодежь. В Тбилиси не задумывались над случившимся, но теперь растерялись. Как действовать дальше, как держаться с главарем неразлучной дружины, которому царь отдал в руки судьбу родных? Только Димитрий возмущался странным отношением к Георгию.
– Ишаки! – горячился Димитрий. – Не знаете Георгия. Какой был, таким и останется.
– Ты не понимаешь, Димитрий, у тебя прямой характер. Мы сами должны облегчить действия Георгия. Стесненный дружбой, он не сможет поступать с нашими родными, как, наверно, уже решил.
– Плевать я хотел на богатство Шио, – возмутился Пануш. – Мне отца жаль, заплакал, думал – ему царь вольную дал… За сто монет выкуплю отца, уйдем, пусть мать и сестра пока останутся. Урожай снимем, продадим, мать и сестру выкупим, а зимой охотой можно жить, говорят, теперь зайцев много.
– Счастливый, Пануш, отца гордого имеешь, – сокрушенно покачал головой Ростом, – я сегодня со своим поссорился: без хозяйства уходить не хочет.
– Ростом прав, – прервал неловкое молчание Элизбар, – не будем мешать Георгию, уедем к Дато в Амши на несколько дней.
– А я говорю, вы изменники, в такое время бросать друга, – горячился Димитрий, – можете ехать хоть в… ад, а я сейчас пойду к Георгию.
– Иди, иди, – расхохотался Пануш, – вот Элизбар первый хотел представиться господину Носте, даже в дом не впустили. Так и ушел со своей вонючей травой, не увидев владетеля.
– Шио дом не успел починить, может, потому не впустили, – серьезно добавил Гиви.
Димитрий с изумлением смотрел на друзей.
– Поедем, Димитрий, с нами. Что делать! Положение меняет людей. Георгий лучше других, но зачем заискивать? А если ты один останешься – смеяться будут, Димитрий хорошо свое дело знает, – убеждал Дато. – Я не владетель Носте, поедем ко мне.
– Голову вместе с папахой оторву, кто про меня такое скажет – вскочил Димитрий. – Едем, пусть подавится своим Носте… Первый к нам приедет.
– Вот слова настоящего азнаура, – рассмеялся довольный Ростом.
Через полчаса, точно гонимые врагами, взмахивая нагайками, бешено мчались в Амши молчаливые всадники.
Георгий не сразу узнал голос отца. Сдернул с головы бурку, оглядел пустую комнату. Говорили у наружных дверей. Он не доверял ушам. Приподнялся на тахте, крепко потер лоб.
– Зачем беспокоитесь, сборщик знает, сколько у кого можно взять. Правда, первое время больше возьмем. Раньше дом хотел чинить, теперь новый будем строить. Месепе много в Носте, пусть работают. Около церкви думаю строить. Вот Гоголадзе лес заготовили, возьмем его, пусть новый у Кавтарадзе достанут. Скоро зима, мы ждать не можем.
Голос у Шио твердый, уверенный, чуствовалось презрение к соседу.
– Гоголадзе богатые, могут купить, у них всего много, а у нас, сам знаешь, Шио, все сборщик отбирал, – плакался другой, – две овцы остались, если заберете…
– Скучно тебя слушать, Захария. На сборщика жалуетесь, а сами в подвалах и ямах сыр прячете… Зачем хитрите, сам обойду. Что полагается господину – надо отдавать. Каждому его доля будет выдаваться. Сколько наработаешь, столько и получишь. Что тебе, Кетеван?
– Вот, дядя Шио, ты велел белый мед принести, все собрали. Богом клянусь, больше нет.
– Один кувшин? По-твоему, выходит, дядя Шио совсем дурак. Убирайся отсюда. Сборщик знает, как надо учить вас.
Ошеломленный Георгий с трудом поднялся, хлопнул дверью и застыл на пороге. Черная комната была завалена резаной птицей, молочными поросятами, свежим сыром, взбитым маслом, упругими фруктами.
С шумом распахнулась дверь. Георгий вышел на двор. Худенький старичок с проворством ребенка выскочил на улицу и скрылся за углом. Георгий смотрел во все глаза на отца, опьяненного счастьем и властью. Одетый в праздничную чоху, с затуманенными глазами, он был неузнаваем.
Георгий понял: разговором делу не поможешь, надо немедленно что-то предпринять, на что-то решиться, но встревоженные мысли не находили выхода.
– Где мать и Тэкле?
– Жена гзири за ними пришла, ее девушки платье для Маро с Тэкле шьют, синее шелковое, твой подарок… Мерить пошли… Долго спал, дорогой. Маро не хотела уходить, ждала, когда проснешься, но жена гзири сказала, иначе к воскресенью готово не будет. В воскресенье о твоем здоровье молебствие отслужит священник, потом к нему обедать пойдем, – захлебывался словами Шио.
– Где Папуна?
– Папуна с утра сердитый: детей ждал, а кто посмеет у владетеля Носте крик поднимать?.. Куда уходишь? Все приготовлено в саду, Маро сейчас придет… За двумя месепе послал, пусть работают. Маро трудно одной…
Упоенный, он продолжал говорить, не заметив, как Георгий широко зашагал по необычно пустым улицам…
– Уехал? – переспросил Георгий деда Димитрия. – Куда уехал?
Но ни дед, ни родители остальных друзей не знали, куда ускакали сыновья. Особенно поразил Георгия дом Элизбара, где он любил бывать. При его появлении семья разбежалась, в доме поднялась суматоха. Георгий догадался: прятали ковры и другие вещи.
Отец Элизбара вышел к нему, долго кланялся, просил азнаура оказать честь войти в дом.
– Что ты, дядя Петре, точно первый раз меня видишь. Как живешь, здоровы у тебя?
– Здоровы… Только плохо в этом году, война была, много сборщик взял… Семья большая, не знаю, как зиму будем…
– Не беспокойтесь, дядя Петре, проживем.
Георгий удивился. Петре никогда не жаловался.
Сборщики, дружившие с богатыми, получали щедрые подарки и облагали их гораздо меньше бедняков.
Хуже дело обстояло у Даутбека. Всегда радостно его встречавшие, они вышли к Георгию с каменными лицами.
– Хозяйство свое пришел проверять? Не беспокойся, ничего не скроем, – холодно сказала мать Даутбека.
Саакадзе посмотрел на них и молча вышел на улицу.
У дверей большого дома стояла с палкой бабо Кетеван. Она когда-то дружила с бабо Зара.
Георгий безотчетно, как в детстве, подошел к ней.
– Бабо Кетеван, дай яблоко.
Кетеван засмеялась:
– Только за яблоки бабо помнишь? У, кизилбаши…
Она, бурча, вошла в комнату и быстро вернулась, держа в руках золотистое яблоко.
– На, Тэкле половину отдай.
Георгий засмеялся: в течение шести лет бабо Кетеван повторяла одно и то же. Он разломил яблоко и предложил бабо самой выбрать половину для Тэкле. Кетеван испытующе посмотрела и, вздохнув, сказала:
– Одинаковые, ешь, какую хочешь.
Георгий с наслаждением вонзил крепкие зубы в рассыпчатую мякоть.
Из дома выбежала молодая женщина, за нею, шлепая чувяками, семенил испуганный мужчина. Женщина резко оттолкнула старуху.
– Из ума выжила, – прошипела женщина, – войди, господин в дом, хоть весь сад возьми, твое…
Георгий посмотрел на женщину. Мелькнули пройденные годы: вот она, под смех соседей выгнав его из фруктового сада, с палкой преследует по улице. Недоеденное яблоко упало на дорогу…
Маро расстроенная встретила Георгия. Не все ли равно, в каком платье молиться за такого сына?
Георгий нежно обнял мать. Она заплакала.
– Нехорошо, Георгий, Папуна из дома убежал, ты голодным ходишь… Соседи прячутся, никто поздравить не пришел… Первые кланяются… Жены гзири, надсмотрщика, нацвали проходу не дают, вертят лисьими хвостами. Где раньше были?
«Что-то надо сделать», – стучало в голове Георгия.
Шио рассердился.
– С ума сошла! Горе большое! Нашла, о чем плакать. Соседи первыми кланяются? Пусть кланяются. Раньше я, бедный азнаур, перед всеми мсахури шею гнул, теперь пусть жирный Гоголадзе немного буйволиную шею согнет, и Оболашвили тоже пусть кланяется, и гзири тоже, и нацвали. Пусть все кланяются владетелям Носте.
– Когда от доброго сердца кланяются, ничего, а когда завидуют, ненавидят, боятся, такой поклон хуже вражды, – сокрушалась Маро. – Пойдем, Георгий, в сад, там кушанье приготовлено… Два месепе пришли работать, мать и сын… Вот самой делать нечего. Шио велел, – добавила она виновато.
В саду под диким каштаном с еще не опавшими листьями стояли из грубо сколоченных досок узкий стол и скамьи. Георгий с отвращением оглядел яства, обильно расставленные на цветном холсте. Заметив опечаленное лицо матери, молча сел.
Шио самодовольно, с жадностью поедал все, на что натыкался глаз.
Хлопнула дверь, и в сад вошел Папуна. Георгий опустил голову.
Папуна молча подошел, сел, вынул платок и вытер затылок.
Шио, без умолку говоривший, налил вино и хвастливо заявил:
– Нацвали большой бурдюк в подарок прислал.
Папуна молчал.
– Сейчас горячий шашлык будет, – захлебывался Шио. – Эй, Эрасти! – крикнул он.
Подбежал изнуренный мальчик. Бесцветные лохмотья едва прикрывали коричневое тело. Он согнул голову, точно готовясь принять удар.
– Шашлык принеси, дурак, и скажи матери, пусть еще два шампура сделает.
Мальчик стремглав побежал обратно.
Георгий посмотрел на Папуна, но тот упорно молчал.
Злоба росла, давила Георгия, кулаки сжимались, глаза застилал туман.
Прибежал Эрасти. На глиняной тарелке румянился шашлык. Глаза Эрасти блуждали, в углах рта пузырилась голодная слюна. Он дрожащими руками поставил блюдо перед Шио.
Георгий взглянул на мальчика.
– Садись, ешь.
Эрасти непонимающе мигал глазами.
– Ешь, говорю! – стукнул кулаком Георгий.
Посуда подпрыгнула, расплескивая содержимое. Шио кинулся поднимать опрокинувшийся кувшин. Эрасти, полумертвый, упал на скамью. Георгий подвинул ему шашлык.
– Ешь, пока сыт не будешь.
Эрасти взял кусок мяса. От страха пальцы никак не попадали в рот.
– Добавь для смелости вина, Георгий, – повеселел Папуна.
– Это вино слишком дорогое для месепе, – обиделся Шио.