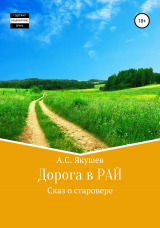
Текст книги "Дорога в РАЙ"
Автор книги: Андрей Якушев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
– На погосте у нас порядок. За могилой крестной я сам слежу. Да и родительский день не мной придуман… Останешься вот -вмести навестим. А дом-то… Так что ж ты хотел. Дом твой столько лет стоит как сирота, – укорил Иванович. – Скажи спасибо, что цел. А тятьки своему, что таким крепким на веки его срубил. Тятьки давно нет, а дом стоит как память о нем. Нам бы так оставить что-то нами сработанное.
– А почему он в стороне оказался? С него, насколько я знаю, наша деревня начиналась, – не скрыл обиды Николай Фотийвич.
– Да ты обиду на нас не держи…Он нами не забыт. И оставлен на виду таким как есть. И не просто так, а с умыслом.
– Не понял.
– Так тут и понимать неча, – хитро сощурился Иванович, будто довольный тем впечатлением, которое произвел заброшенный дом на Николая Фотийвича. – То– то нам и надо… Не для тебя конечно. Для тебя мы все внутри сохранили, веря, что ты все-таки вернешься и не на пустое место. С наружи же не для тебя.
– Но для кого же?
– Для тех, кто на наш рай зарится. Он для них, как показуха… А по нонешному как реклама.
– Нашли чем рекламировать.
– Да ты сперва покумекай, потом осуждай. В рай-то каждый норовит по пасть. Все на готовенькое. Не знашь что ли как нас выживали из наших деревень. Мы только обживемся в непролазной тайге, избы построим, огороды раскорчуем, а нам хохлов подселивают. Они курят, пьют горилку, матерятся, гадят, а работать в тайге – ни шиша. Какое жилье с ними. Мы все бросали и уходили подальше. И вот теперя тоже. А тут – рай. И каждый норовит попасть. Приедут посмотреть. А тут домишка замшелый на курьих ножках. А за оградой или ты говоришь за железным занавесом поди еще хужи. Одна вывеска для потехи – Рай. И скажут себе: мы уже нажились в таком рае. И поворот от ворот. А нам это и надо. Однако, скумекал?
– Скумекал. И буду в нем как часть этой рекламы убогости.
– А че ты хотел.
Глава шестая
Р Е К Л А М А
На первый взгляд дом вполне оправдывал свое нынешнее назначение. Старая крыша, его покрытая колотой дранкой, кое-где была залатана ржавыми листами железа, как обветшалая одежка заплатами. Толстые брусья стен почернели. Ставни окон обвисли. Окна потускнели. Плахи завалинок обвалились. Крыльцо покосилось. Ступени грозили развалиться. Резные столбики, поддерживающие плоский навес, скособочились. А как бы над всем этим сиротством высилась одинокая плакучая Ива, как горестная дева с распущенными волосами. Ее не было тогда, когда он уходил. Да и все остальное не было таким.
В памяти Николая Фотийвича дом остался большим, ухоженным и зажиточным. Всюду виделась рука отца. Запомнилась, что он все время что-то подделывал, подгонял, вырезал, стараясь сделать дом еще краше. Любил напоминать с гордостью: «Построен без единого гвоздя колышками, да клинышками. Топором да пилой. И чтоб все ладно было. И все по-божески. Вот мотри, три окна на южном фасаде. Три ни больше, не меньше. Ибо, есть: «Отец, сын и Дух святой» Вот у нас в горнице и полно солнышка. Мать не нарадуется. Каков хозяин – таков и дом». Так или ни так говорил отец, но смысл всплыл в душе Николая Фотейвича таким образом и зацепил за сердца тяжкой виной, будто сам был виновен в том, что отчий дом, забытый им, превратился в жалкую убогость. И не только дом. Двор без поленницы. На вороте закрытого колодца уныло висело ржавое ведро. Большой огород на склоне к реке зарос густой полынью. Прясло из жердей завалилось. Куда не посмотришь – запустенье.
Упрек Ивановича был справедлив. Николай Фотейвич не стал оправдываться. Да и зачем. Тяжелея стало от того, что теперь он не найдет в себе силы восстановить все как было прежде, не говоря уже о том, чтобы заняться землей, хотя бы вроде дачника и проводить здесь летнее время на своей малой родины и среди земляков. Он безнадежно повернулся к Ивановичу, не скрывая этого, и будто сам себя осудил:
– Да, Иванович, ты прав: выход у меня один– быть частью вашей рекламы. – Не быть же мне капитану на старости лет во всех своих регалиях тут свадебным мореходом. И кричать на свадьбе ради потехи: « Полундра! Теща на горизонте. Спасайся, кто может» .Лучше согласно времени рекламой нищеты быть. Сидеть на сгнившем крыльце в оборванных до колен джинсах, в морских деревянных колодках на босу ногу, в замызганной тельняшке и в выцветшей штурманской фуражке с туским крабом над треснувшим козырьком. Не бриться. Не мыться. И чтоб рожа была опухшей, как у бича. И буду, как пугало в огороде. Все для вашего рая польза, а мне наказания за долгое отсутствие, как блудному сыну. Ну как, староста, на твой взгляд.
– Однако, вроде хорошо, ежели прикинуть, -сощурился Иванович, пряча смешинку. -Время тако…Вчера капитан, а седни – дворник. А че. У нас в артели каждый на своем месте и млад и стар. Никто работой не обижен. Всяку работу человек должен делать пока есть силы. Не в наказании дело за провинность каку, а в любом деле, которое в общине нашей нужно всем. Для тебя наказанием будет, если мы тебя на иждивении возьмем. Рай-то рай да работы в нем непочай.
– На иждивении у своих земляков – ни в коем разе. Моей пенсии мне хватит. Но и бездельником слыть не хочу, да и не привык. Почему и в городе маялся. – повысил голос Николай Фотийвич, заметив усмешку.
– Так-то лучше, чем жалится. Всерьез-то не дашь себя обьегорить, да еще и по пустякам. Дело-то выеденного яйца не стоит, чтобы всерьез говорить – то. Да ты и сам такой. Как себя, моряка, обговорил. Смех один. А к рекламе – самое то. Так, глядишь, и сговоримся, – продолжал Иванович все в тоже духи.
– Но, если и я такой, тогда слушай, – сказал Николай Фотийвич как можно серьезнее. – Я согласен. Но без испытательного срока. И с твердой оплатой и вовремя, а то будете тянуть как работодатели сейчас делают.
– Какой ишо оплатой? – спросил Иванович, теряя усмешку.
– Оплата такая. Мене достаточно, чтобы у крыльца с утра стоял жбан с бражкой, шматом сало и картошкой в мундирах.
– Так за этим дело не станет, – с облегчением выдохнул Иванович.
Оба рассмеялись, довольные тем, что нашли общий язык. А потом Иванович с легким сердцем, но с какой-то таинственностью на лице предложил:
– Теперя заглянем в избу.
– Что-то не так? – насторожился Николай Фотийвич.
– Смотря для кого, – уклончиво ответил Иванович. – Тятька-то твой, царство ему небесное, дом построил по староверски, с секретом. Варнак в него не зайдет со своим душком.
– Да какой же я варнак.
– А чем пропиталась твоя душа за столь время. Кто знат. Я тебе вроде брата, и то сказать не могу. В доме же Матка она сразу угадат. И если что не по нее – не пропустит.
– Но это мне не страшно. Я до мозга костей продут от всякой нечисти морским ветром.
– Дай-то Бог, – Иванович, не желая впутывать душу свою, да и сберечь душу крестного брата своего, закатил глаза к высокому небу и размашисто
перекрестился.
Глава седьмая.
М А Т К А
Подошли к крыльцу. Николай Фотийвич, все еще чувствуя боль в ноге, спросил, кивнув на подгнившие плахи:
– Не сломаются?
– С чего бы! – заверил Иванович. – В моем бренном теле ни один пуд – и ишо не раз ни одна доска не проваливалась под ногами.
Уверенно ступил прямо на вторую ступень. Ее плаха, жалобно хрустнув, вдруг подвернулась и ввалилась. Он, проваливаясь, взмахнул руками, и ус-
пел ухватиться за столбик:
– Над же так! Да еще как нарочно при хозяине. На мою голову… Ядрить ее налево.
– Что ты все ядрить да ядрить? Старовер вроде.
– Так это вместо мата. Мы же не материмся. А порой хочется. Вот я и придумал. И вошло в привычку – и к месту, и не к месту. А седня на языке. Так при тебе прикидываюсь. А то все староверы, да старовера. А мы че – те же русские… Но перед Всевышнем – другие.
– Я не Всевышний! – сказал Николай Фотийвич. подумав о своей ноге, которая при каждом неосторожном шаге давала о себе знать. – Но если оступлюсь, накрою твою голову пару ласковыми, не смотря что ты крестный.
– Не обессудь, все рук не хватат. – И Иванович почесал бороду, которая, наверное, иногда заменяла ему затылок, и изрек смущенно, – Бог не Мякишка. Скрывай не скрывай, а он примечает и никакого обмана не пропустит. Сколько раз себе говорил, да и другим тоже. А толку…
Сени были не заперты. На дверях в дом тоже не было замка.
– Так у нас повелось, – сказал Иванович, распахивая дверь. – Исполнять одну из заповедей Христа – не воруй! И дом открыт и душа открыта. – и похвастался как ни в чем не бывало. – Обычаи отцов не нарушаем.
Но за дверью оказался настолько высокий порог, что не каждый сходу возьмет его. «Тем более я со своими мотылями», – подумал Николай Фотийвич, не решаясь поднять ногу. И не скрыл недовольство:
– Что-то мой батя перестарался.
– Нет! Он постарался и не зря, а с умыслом. – возразил Иванович. – Посуди сам. На улице трескучий мороз. Откроишь дверь нараспашку, мороз-то хлынет по низу, а тут порог. Мороз и упрется. И ишо, высокий порог малышню приучал не ползать через порог, а переступать через него.
– Ясно. То-то я легко перешагивал все высокие комингсы, встречавшие на своем пути. – заключил Николай Фотийвич.
– Много чего еще в доме, что тебя напугат, – произнес Иванович, про-
пуская его вперед.
– Я уже ни раз напуганный, – отмахнулся Николай Фотийвич. А зря. Не успел и шага сделать в кухню, как все существо его сжалось от какой-то насторожённости. Он замер. Над ним нависла балка, лежавшая поперек входа. Потолок, который она удерживала, был из широких плах, давно небеленых. И всем своим существом он ощутил, что стоит ему двинуться дальше, как балка вместе с потолком свалится ему на голову. А это, пожалуй, будет больнее чем излом ступени под ногами.
– Проходи, не бойся, – сказал за его спиной Иванович. – Это балка из кедра, а никакая-то подручная доска под ноги на скору руку. Балка надежна. Да и с задумкой. На тебя не свалиться… Она соображат не хуже нас.
– А ты откуда знаешь?! – машинально, но шепотом спросил, он с трудом снимая с себя наваждение.
– Мне ли не знать, – тоже шепотом, но, словно открывая какую-то тайну, отвечал Иванович. – Вишь, она не зря поперек лежит. Это для того, чтобы какой варнак в избу без спроса не зашел. Такое вложили нее, как душу, мужики-плотники, скопом, уложив ее на сруб и, назвав ее маткой, обсевали ее. Обряд блюли. Он таков был: Хозяйка, варила кашу. Хозяин закутывал горшок в полушубок, заносил в сруб и подвешивал к матке. Один из плотников влезал наверх, обходил последний венец, сея хмель и хлебные зерна на счастье и благополучие. Потом подходил по матке к горшку с кашей, перерубал топором веревку, Горшок с кашей ставили в круг под маткой. Ели кашу и запивали бражулькой, чтоб держалась балка и злой дух в избу не пущала.
– Умные мужики были, – сказал Николай Фотийвич, расправляясь. – И не было случая, что бы она не сваливалась на голову? На мою, например.
– На твою нет. Ты не варнак какой. Она тебя просто припугнула, за то, что ты долго в избе своей не бывал. Для нее это грех.
– А вдруг переборщили, обмывая. Она возьми – и перепутай.
– Не перепутает. Все с умом, а не с бухты-барахты нами в нее вложено. И не попьяне топором махать и глаз иметь острый. Ни в коем разе. А не обмоешь, так она и на нас обидится, чего доброго. Так и сидели под ней, ровно проверяя, не заскрипит ли где, не даст ли она знать о себе. Таков у обычай: что не сделал, к тому же нужное – все обмой, как новорожденное. К тому же, это матка нечай в доме. И не нами названа– Маткой! – закончил Иванович со значением.
– Я не пойму, -протянул вдруг Николай Фотийвич с явным осуждением. – Это у женщины матка. А деревянная балка в избе причем.
– Вот те на! – развел руками Иванович явно обескураженный. – Взбредет же в голову такое. Это все море сказывается. Баб-то нету. Вот вы и богохульствуете, где и как и до чего можно достать мужику под юбкой. А матка не только женское чрево, куда твое семя натруженное падает. Она всему голова, без которой жизни нет. Она и у пчел, и у растений разных. И на русском языке, она – Матка. Разве душевнее скажешь. Язык – то у нас знает толк, чтоб метко назвать. А балку эту иначе и не назовёшь. Сам посуди. Она ведь тоже новорожденного качат. Забыл, поди! Так вот, вишь крюк в балке. На ем зыбка подвешивалась… И все мы на ней, как в руках материнских качались. Разве не так?
– То-то я не укачивался в море, – сказал Николай Фотийвич, удивляясь простоте объяснений глубокого содержания. И, посмотрев на балку, сказал ей. – Качала меня, а теперь пугаешь и поделом. Главное, не свались на меня раньше временя.
– Не бзди! – теперь уже посоветовал Иванович, – Она не пальцам делана, как и мы с тобой. И на годы. Глядишь и крюк ишо пригодится.
– Типун тебе на язык…
– Ты все, чо не доскажешь, на свое коверкаешь. А пора бы и о хорошем. Крюк-то для зыбки.
– Ты в своем уме! Я же сказал – одинок я….и однолюб! Какие внуки… От кого? Сожалею, но это так…И чуда не будет…
– Чудо будет, если верить. Деревня, ни город. Одна русская печка че стоит. По себе знаю. Настужусь бывало месяцами в одиночку на зимней охоте, в избу вернёшься – скорее бы косточки погреть. не до греха тут. Да и годы тоже не те. А женка не будь дура, тоже в одиночестве намаялась горемычная, печку приготовила– и в жерло наколенное меня, как в пекло и без противня, да на хвойные ветки. Выскочишь, словно народившийся. А она тебе ковш бражки сует. «Пей, Ванюша, чего там!» А сама нагишом и распаренная. Хватаешь ее и на печку. А она для чудо сделана. Поверь, по себе знаю. Предки наши ее с умом делали. Натопишь ее, а она все длиннющую зимнюю ночь тебе и веселит, подогревая и душу, и твое бренное тело. Она не из кирпича, а из подсобной глины. Свежую ее мешали с солью и песком. Потом сбивали в опалубке. Утрамбовывали. Били тяжёлым пестиком до тех пор, пока глина не становилась твердой как камень. И всю печь ставили помочью три-четыре мужика за один день. И время ее не берет. Она для сибиряков как тулуп, пока они молодые. Завернуться в тулуп и на морозе, что на печке, чудят. А нам теперя лишь на печке ладно и то так, по старой привычке, не ожидая чуда…..
– А хотелось бы? – перебил его Николай Фотейвич как бы невзначай, но в душе чувствуя то, что до этого не чувствовал: щемящую тоску одиночества, которая вдруг наполнял его душу.
– Согреет тебя печка, узнаш…
– Навряд ли печь мне поможет. Да еще одинокому.
– Не зарекайся. Она не только душевную силу даст, но и телесную. И ты разморённый на теплой лежанке и в одиночестве маясь, враз, забудешь, че в голому на столько лет дурь забил про однолюбство. И соскочишь с печки, чтобы найти в раю свою половину.
– Тебе бы духовником быть, – сказал Николай Фотийвич.
– Кто знат, – кивнул, соглашаясь Иванович. – А разве не чудо … Ты в далеком море был, где люди тонут. Моя крестная молила, не переставая, Божию Матерь, спасти тебя. Потом Японская война прошла, а о тебя не весточки. Все наши уверились, что ты утонул. А крестная все: «Чует мое сердце Никорушка живой. Да и Божья Матер подсказывает это». Так и отошла. И на мою телеграмму ответа не было. Мы и ее и тебя отпели. Царство вам небесное. А ты живой. И сам бог привел тебя к родовой печке. И не верится, но это так. Ты живой и здоровый, разве не чудо. Мало ли че ишо жизнь подкинет.
– Не хватит ли?
– Так уж это уж как бог даст. Но на него надейся, а сам не плошай.
Глава восьмая
Р У С С К А Я П Е Ч Ь
У печки все было как при матери. В ее арочных нишах все еще стояли в горшки от большого до маленького. К ней были прислонены длинный ухват, кочерга и деревянная лопата. У подножья лежала кучка дров. Арочное жерло было открыто. До и сама она, занимая пол кухни, была центром теплоты, домашнего уюта, семейной сытости, выглядела все еще как добротная хозяйка в доме, хранившая в жерле все благополучие, которое всегда отдавала тем, кто ее обхаживал. Но их давно не было, и она молчала, глубоко скрывая в чреве своем, тот холод, что накопился в нем.
«Как и мама, – содрогнулся Николай Фотийвич. – Она тоже не упрекнула меня. Молчала бы, вытирая слезы радости на глазах, и забывая всю боль, которую я принес ей, не давая ей весточки о себе. Прости меня».
Он вдруг почувствовал себя тем мальчишкой, который прощался более шестидесяти лет тому назад тут у печки со своей мамой. Она протянула ему вынутые из печки картофельные лепешки. Прошептала дрогнувшими губами: «На дорожку, сынок. Когда поди тебя накормят и чем на том парохде».
– Кормили меня, мама, на пароходе хорошо, – вслух сказал он. – Но запало мне в душу что вкуснее твоих лепешек, испеченных тобой в нашей печи, я больше ничего ни ел…
– Верно говоришь, Крестный. Я тоже из того голодного детства. Но знашь, вспоминать не хочется, что и как мы ели.
– Наверное, потому, что ты взрослел, не покидая свою малую родину. И тоска по ней не томила твою душу. А в моей душе осталось хорошим только это. А вот сейчас, смотрю на печь и наплывает на меня, что-то еще большее, что исходила и от нее и наполняло душу чуткостью, как от родительского воспитания, которую я всю свою жизнь и проявлял.
– На лежанке-то, небось, лежал мальчонком и сказки слушал? Знамо дело, – улыбнулся ему Иванович.
– Может так и было. А сейчас и в памяти всплыло, – тоже улыбнулся Николай Фотийвич, рассматривая верхнюю лежанку под потолком так, будто не веря, но продолжал, словно впадая в детство, которое и у него было. – В окна бился метелью мороз. Мы с тятькой нежились в тепле, в ожидании, когда мама, возясь у печки, позовет к столу. Я держал на коленях толстенный том Пушкина и читал по слогам сказку о царе Султане. Тятька, полусидя, слушал. На третьей девицы я вдруг прочитал без всякой запинки:
Кабы я была царицей,
Я б для батюшки царя
Родила б богатыря!
А тятька восхитился, но не моим первым успехом в чтении: «Ай да Пушкин, под руку сказку подал». И крикнул маме строго:
– Слышь, мать! А ты кого мне принесла да ишо на покосе?
– От кого понесла, того и принесла, – отвечала мама, хлопая, видимо разгоряченной крышкой прикрывая чугунок с тем, что томилось в нем, наполняя аппетитным ароматом всю куть. – Станет плясать от печки, русского духу наберется. А лежмя лежать будет не будет толку.
– Ты мотри, мать да не заговаривайся, – оборвал отец, защищая меня и подмигнул мне ободряюще, мол, не бери в голову. А маме:
–Илья Муромец сколько лет на русской печи лежал?
– Да, поди, тридцать лет и три года, – посмеивалась мать, дробно отбивая, как судовую склянку на обед, деревянной ложкой об стол.
– И никто ему не сетовал. А мы-то всяго, пока метель метет. И силенок еще не набрались, чтобы на защиту Руси встать. А пока нас хватит, чтобы с
печи не с лазя, щуку тебе поймать. Не так -ли, сынок? А я отвечал, заливаясь смехом под вой метели:
– По щучьему велению, да по– моему хотенью.
– Слышишь, Мать? Сынок-то в меня пошел и о тебе заботится вроде меня. Так пойдет, так он избавит тебя с печи не слезая, от твоей готовки. И будет тебе печь из жерла свово сама выставлять на стол, что душа пожелает.
– Учи, учи – и выйдет из него, на печке лежа, Ванечка – дурачок.
– Не выйдет. Он ума набирается, книжки читая. Ну– тка, сынок, дальше.
– И я громко, чтобы мама слышала, нараспев читал:
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела
И в светлицу входит царь,
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.








