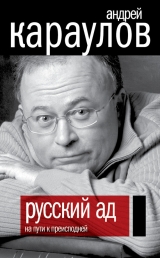
Текст книги "Русский ад. На пути к преисподней"
Автор книги: Андрей Караулов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Вот он, 88-й год, – закончил Петраков. – Заводы – действительно встали, причем – по всей стране, хозяйственные связи оборвались, а в ответ тут же появились известные народные фронты, люди вышли на улицу: в Куйбышеве на митинг протеста собралось почти 70 тысяч человек.
Чуприянов молчал.
На стене тикали старые ходики, вокруг висели фотографии в красивых рамках, в окне истерически билась жирная муха.
На дворе – снег, а в окне – муха, вот как это может быть?
– Будто… о какой-то другой стране говорите… – протянул Чуприянов. – А мы тут жили-жили… почти ничего не замечали, а в то, что замечали, – не верили…
– До полного развала страны оставалось два года, – заключил Петраков.
– А Егор Тимурович, значит… теперь и до нас добрался? – вздохнул Чуприянов. – Длинные у вашей Москвы руки… И за Ачинск схватились…
Ему очень хотелось поменять тему.
– Приватизационный чек – десять тысяч рублей! – откликнулся Петраков.
Он быстро приналег на картошку и был, казалось, очень доволен.
– Хороший человек, – хмыкнул Чуприянов. – А цифры у него откуда?
– Как откуда? С потолка, Иван Михайлович, откуда же еще? Но это не вполне рубли.
– Как? – изумился Чуприянов. – Ишь-ты… А что ж… тогда, коль не рубли, можно спросить?
– Никто не знает, слушайте…
Петраков красиво допил свою рюмку.
…Такой стол, конечно, может быть только в России: все либо с огорода, с грядки, либо – из леса. Россия никогда не умрет от голода (на это, видимо, и расчет местной власти, кстати говоря, потому что власть на местах очень быстро сейчас превращается в паханат), ибо главные богатства страны это, конечно, не нефть и газ, а лес, озеро или река.
Самое чудесное на русском столе – это моченые яблоки, но никто не знает, как их подавать: то ли как десерт, то ли как закуску.
– Рубль есть рубль, – вздохнул Чуприянов, – в России царей не было, Романовых, а рубль – уже был… – слышите, да? Москвичи! Если это не рубль, значит, не пишите… на вашей новой бумажке… что это рубль, че ж людей-то дурить! Приватизационный талон… или… как?..
– …ваучер. У Гайдара человечек есть, – сообщил Петраков, – Володя Лопухин, он и предложил назвать эту счастливую бумажку ваучером; словечко, конечно, непонятное, но грозное…
Чуприянов снова разлил «по клюковке».
– Ваучер, надо же… Замечательная русская забота – угроза: «Не влезай, убьет!» на английский язык, как известно, не переводится, англичане не понимают, что это значит. Зато мы, русские, понимаем с полуслова… Рыбу кидай, – приказал он Катюше. – И водку в уху, лучше – полстакана, так?..
По голосу чувствовалось: большой начальник.
– А водку-то… зачем? – не понял Петраков.
Прежде он никогда не слыхал, чтобы в уху добавляли водку.
– А еще, ешкин кот, надо обязательно в ведро с ухой опустить березовую головешку. Чтоб наварчик, значит, дымком отдавал, иначе это не уха, это будет рыбный суп!..
Про головешку Петраков тоже слышал впервые.
– Надо ж… рецепт какой…
– Старорусский, – широко улыбнулся Чуприянов. Вэтой улыбке была такая открытость, что сразу становилось тепло: видно же, искренний человек, русский, без дна. – Там, в ведре, литров шесть водицы, не меньше.
Чтобы она стала ухой, полагается шесть килограммов линя – хариус у нас нынче идет на второе… раздельное питание, короче говоря, рыбный день… Варим так: рыбка опускается в марле… и кипит в ведре, пока глаз у рыбки не побелеет. Почему? Да потому что рыбы в бульончике или костей, не дай бог, не может быть; рыба всегда подается отдельно, ставится на стол рядом с бульоном, и лучше всего – в деревянной мисочке…
Если – тройная уха, значит, не обессудьте: три раза по шесть килограмм, марля за марлей… каждый кидок – минут на семь-десять, не больше. Но обязательно должны быть ерши. Если уха тройная – обязательно ерши, а ерши нынче делись куда-то, нет их в озере, вот хоть убейся…
Таких, как Чуприянов, директоров, Бурбулис обзывал «красными директорами».
Это он как клеймо ставил, а директора посмеивались: красный цвет – цвет крови, «красный» – значит… директор до века, до последнего вздоха.
Паразит он и есть паразит – вот только откуда этот Бурбулис взялся?
Почему так много сейчас паразитов?
– Если на Западе вам заказывают отель, выдается специальный талончик – ваучер… – закончил Петраков. – Отсюда и заголовок…
Он ел не отрываясь, в обе щеки, не замечая крошек, валившихся изо рта.
– Черт его знает, – усмехнулся Чуприянов, – я в отелях не бывал… всегда жил только в гостиницах, но считать, раз такой мажор пошел, я умею, грамотный…
Сколько людей сейчас в России? Сколько осталось, точнее говоря? Мильонов сто пятьдесят – так? Умножаем на десять тысяч рублей. Умножили? Умножили. И что? Правительство… Ельцин этот… считают, что вся собственность Российской Федерации… заводы, фабрики, комбинаты, железные дороги, порты, аэродромы, магазины, фабрики быта… все, что есть у России… все это стоит… – сколько? – Чуприянов напряг лоб. – Полтора триллиона… – всего? Нынешних-то рублей? Е-ш-шьти… – а они у нас считать-то умеют, эти министры? Они хоть школу-то закончили?.. Как, Николай Яковлевич? Да, у нас один «Енисей», – Чуприянов мотнул головой, – вон он, на том берегу… тянет на пару миллиардов, а если с полигоном, где Петька Романов, Герой Соцтруда, свои ракеты взрывает, и поболе ведь будет…
Петраков взял рюмку.
– И что… они, демократы ваши, думают власть удержать после такого жульничества?.. Да я сам народ в Ачинске на улицы выведу!
Когда русский человек нервничает, в нем всегда появляется некая угроза – обязательно!
– Ну хорошо, это все – пацаны, – заключил Чуприянов. – А Ельцин-то, Ельцин куда смотрит?
Он злился.
– Особый случай, как говорится… наш новый Президент. – улыбнулся Петраков. – Но меня вот… – Чуприянов подлил водку… – да, благодарю вас, Иван Михайлович… меня вот что интересует: если вдруг случится чудо и в обмен на ваучеры ваши мужики получат, все-таки, акции Ачинского глинозема… вот как сибиряки себя поведут? Комбинат – огромный, стабильно имеет прибыль, значит, тот же Егорка… вправе рассчитывать на свою долю – верно? Как он поступит: будет ждать свою долю… год, другой… или продаст, к черту, свои акции… вот просто за бутылку?
Катюша разлила по тарелкам уху, но Чуприянов не ел – он пристально, не отрываясь, смотрел на Петракова.
– Если сразу не прочухает – продаст, – быстро сказал Чуприянов.
– Так… – Николай Яковлевич согласно кивнул, – а если… как вы выразились… – что ж тогда?
– Тоже продаст. Станет моим ставленником, вот и все.
– Кем, Иван Михайлович?.. Кем станет?
– Моим ставленником. Я ж его сразу раком поставлю, что ж здесь непонятного? Я что, дурак, что ли, егоркам такой завод отдавать?
К чертовой бабушке вниз по течению, короче говоря…
Чуприянов, кажется, уже опьянел. «Вся русская история до Петра Великого – сплошная панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело, – подумал Петраков. – Кто это сказал? Ведь кто-то сказал… – как же точно сказано, а?..»
– Они ведь – трудовой коллектив, Иван Михайлович…
– Насрать! Раз трудовой, вот пусть и вкалывают, – огрызнулся Чуприянов. – Чем дальше в лес, тем б…ди дешевле! А с прибылью комбината мы уж сами как-нибудь разберемся, верно говорю.
– Упрется Егорка, Иван Михайлович. Не отдаст!
– Ишь ты, пьянь тропическая! Так я ж ему такую жизнь сорганизую, да он тут же повесится, сердечный! Причем – со счастливой улыбкой на своем вечно небритом лице, потому что здесь, в Ачинске, ему некуда идти, все тропы обрываются, город маленький и без комбината ему… да и всем тут… – хана просто…
Но вот вы, умные люди, академики, бл…, объясните мне, старому глиномесу: если наше государство вдруг сходит с ума, почему в Москве это сумасшествие называется реформами? – Чуприянов взял рюмку, покрутил ее и – резко поставил, почти кинул обратно на стол. – Если наше государство не хочет покупать глинозем само у себя, если наше государство не хочет (или не умеет) распорядиться своими богатствами – что ж… да ради бога… пусть государство покупает основные богатства не само у себя, а у Чуприянова, я ж за! Разбогатею, это факт, раз кооперативы про…бал, хоть сейчас-то разбогатею! На курорты поеду, на юных гондонок поглазею всласть, можа у меня что и зашевелится… – поди плохо? Только если господин Гайдар отделяет наш комбинат от государства лишь потому, что он понятия не имеет, что такое глинозем, то это, в три гроба душу мать, в корне, извиняйте, меняет всюситуацию в стране – слышите, да? Если этот парень не хочет, чтобы я, по привычке, и дальше требовал у правительства деньги на новую технику, то я его сразу огорчу – буду! Буду требовать! Модернизировать и перестраивать комбинат из своего кармана я не стану, нашли ж, бл, дурака! Если я разбогатею, так я сразу жадный окажусь! Я теперь буду сволочь. Такой стану жадный – Гарпагон отдыхает! То есть я буду как все, потому что у нас в стране сейчас все сволочи!
Мой комбинат меня не переживет? Нашли чем испугать, я ж старый! Пусть это трухля и уходит вместе со мной на тот свет, оно и лучше будет, значит, незаменимые – есть! А для легенды вообще хорошо: был Чуприянов – была жизнь, а раз помер, значит, и вам всем смерть! Я ж Катюхе своей этот быдляк… не оставлю, быть глиномесом – не ее дело, да и не справится она с комбинатом! Я ей деньгами отсыплю, яйца оставлю, а не курицу, ибо куда же Катюхе моей… столько яиц? – Поймите, Николай Яковлевич, я издавна привык жить за счет товарища Брежнева, Леонида Ильича, или его сменщиков. То есть – государства! Жить за свой счет я, извините, научусь не скоро, потому что у меня дело – к ящику идет!
И всю прибыль я оставлю себе, а не трудовому коллективу, потому что в гробу я видел этот великий трудовой коллектив! Кто они без меня? А никто! Хватит, бл, уже романтики; прибыль я отправлю к друзьям-компаньонам в Австралию, меня там все хорошо знают, потому как я Гайдару совершенно не верю! Да и как ему верить-то? Вы на рожу его посмотрите, как Гайдар подарил нам комбинат, так, пожалуй, и отберет его!
То есть, так… уважаемый Николай Яковлевич, уважаемый наш… академик: я, будьте уверены… лично выгребу из своего производства все, что смогу. Сам (для начала) скуплю его акции, а уж потом, когда на комбинате смертью запахнет, приеду к вам, в Москву, и громко скажу: ей, правительство, гони деньги, нет у меня денег на самосвалы и бетономешалки! Так что думай, правительство, решай: или – спасай мой комбинат деньгами, или Россия у тебя, правительство, без алюминия останется – вот ведь какое греховодье будет, вот ведь к чему дело идет!
Петраков спокойно доедал уху, густо намазав маслом кусок черного хлеба.
– Но если по уму, Иван Михайлович, деньги надо… все-таки… вкладывать в производство, в комбинат… – выдавил он наконец.
Самое важное за бутылкой водки – не поссориться.
– А я не верю Гайдару! Я знаю директоров: у нас Гайдару никто не верит. Он что, месил когда-нибудь глину ногами? Он хоть раз ходил, как мы, к зэкам на запретку? У нас же, считай, концлагерь здесь… на вредных участках такие говнодавы сидят – с пером в боку запросто можно рухнуть… Он на нас с Луны свалился, этот Гайдар, понимаете? И с приватизацией ничего не выйдет, будет сплошное воровство – воровство директоров, вот что я сейчас думаю, даже уверен в этом!
…Никто не заметил, как появился Егорка, – сняв шапку, он мялся в дверях.
Разговор оборвался на полуфразе, чисто по-русски, как-то незаметно. Чуприянов и Петраков молча выпили по рюмке и так же молча закусили – солеными маслятами. Молодец, Россия: никто в мире не додумался отмечать водку солеными грибками, а пиво пить с воблой – никто!
– На самом деле по глинозему… решения, кажется, пока что нет, – сообщил Петраков. – А вот алюминий будет продан.
– Какой алюминий? – насторожился Чуприянов.
– Красноярский алюминиевый завод, уважаемый Иван Михайлович.
– Так он крупнейший в Союзе!
– Потому и продают. Купит, говорят, некто Анатолий Шалунин. Сейчас – учитель физкультуры где-то здесь, в Назарове.
– Сынок чей-то?.. – Чуприянов сразу, похоже, пришел в себя, весь хмель сразу пропал.
– Нет. То есть чей-нибудь – наверняка. Не от святого ж духа явление! Лет ему… собственно, вчера узнал… что-то возле тридцати. А может и меньше.
– Куда ж нынешнего денут? Куда отправят? Директора? Он же молодой!
– На тот свет, я думаю, – спокойно сказал Петраков. – Если, конечно, будет сопротивляться.
Он тщательно вытер губы бумажной салфеткой и выразительно поглядывал на раскаленную сковородку, где шипели куски хариуса.
– Кто первый схватит, тот и сыт, Иван Михайлович, вот вам… наша новая национальная идея.
– Значит, – разозлился Чуприянов, – ко мне тоже придут – верно?
– Приватизация будет кровавой, – согласился Петраков.
Они опять замолчали.
За окном только что было очень красиво, светло и вдруг мигом все почернело; так откровенно, так быстро ночь побеждает только в Сибири. Зимой в Сибири нет вечеров, зимой есть только день и ночь.
– Какая глупость: ваучеры должны быть именные! – взорвался Чуприянов. – Только! С правом наследия! Без права продажи из рук в руки!
– Точно так, – кивнул Петраков. – Только Егор Тимурович убежден: именные акции – не рыночный механизм. А он же у нас рынок строит!
– Да плевать мне на Гайдара, прости господи! Ведь будут убивать!..
– Очевидно, Гайдар считает, что на рынке должны убивать, так я думаю. На базаре торговцы… часто убивают друг друга – разве не так? «Хитров рынок», да? Хорошая книжка была…
Чуприянов вздрогнул:
– Но это вам – не колхозный рынок! Это у нас – вся страна! Вы… вы понимаете, что начнется в России?..
– Понимаю, – кивнул Петраков, – что ж тут непонятного? Я только сделать ничего не могу. Я теперь никому не нужен, Иван Михайлович.
– Все мы, похоже, теперь не нужны!.. – махнул рукой Чуприянов.
– Да. Пожалуй, что так…
Ночь, ночь была на дворе, а время – седьмой час…
Егорка закашлялся. Не специально, не из-за врожденной деликатности, просто так получилось в эту минуту, а кашлял он так, будто вместо легких у него – трактор.
– Чего? – вздрогнул Чуприянов. – А?..
И опять стало слышно, как работают ходики.
– Мы, Михалыч, трудиться боле не бум, – твердо сказал Егорка. – Обижены мы… Михалыч!
– В сенях подожди, – взорвался Чуприянов. – Тебя вызовут!
– Но если, Михалыч, кто на тебя с ножом закозлит, – спокойно продолжал Егорка, – ты, Михалыч, не бзди: за тебя весь наш народ встанет, мы всем обществом назаровских носков так огуляем, мало не будет, дело тебе предлагаю!
Чуприянов налился кровью – может быть, правда это «клюковка» вдруг стала такой красной?
– Сиди в сенях, марамой! Аппетит гадишь!
Петраков засмеялся:
– Запомни, Егорка, на обиженных в России воду возят!
Егорка вытянул губы и как-то уж совсем по-ребячьему взглянул на Чуприянова:
– Я ж за баню, Михалыч, обижен, я ж не за себя, пойми ты это по-людски, пожалуйста!
Петраков сам положил себе кусок хариуса и аккуратно содрал с него вилкой аппетитную кожицу.
– А пацан этот… Ша… лунов? – Егорка повернулся к Петракову. – Сейчас учитель, штоль?
– Физкультуры.
– А будя, значь, новый у нас начальник?
– Ну, управлять заводом должны управленцы, а он будет хозяином. Так я думаю.
– Знача, рабство теперь вводится? – Егорка смотрел на Петракова широко раскрытыми глазами.
– Так во всем мире, Егорка, – улыбнулся Петраков.
– А мне, мил человек, по фигу как во всем мире – у нас вводится?
– Вводится.
– А зачем?
– Попал в говно – так не чирикай… – опять взорвался Чуприянов. – Это у нас не рабство, а демократия, идиот! Это чтоб лучше было, понял?
– Кому лучше-то, Михалыч? От назаровских! Кому?
– Че пристал, хныкало?! Правду ищешь?
– Ищу.
– А ты не иш-щи…не занимайся фигней…
Чуприянов опять потянулся за бутылкой.
– Я… в общем… в Эфиепах не был, – не унимался Егорка, – там, где комуняки у негров даже бананы отбирают, но сча у нас – не рабство, потому как я вот на Михалыча… могу аж анонимку накатать, сигнал дать куда надо могу, и ее ж, депешу мою, рассмотрют, у нас, в Сибири, порядок такой осталси, – какое ж это рабство? А у счиренков назаровских…
у физкультурников… у этих… всех нас на работу строем погонят, как у немцев в кино… мы ж как пленные станем! А че? нет штоль?.. Мы, Михалыч, назаровских знам! Эти люди – не люди! И деньжиш-щи-то у них откеда? Откеда, я спрашу! Это ж с нас деньжищи! С палаток… разных, где я до Ельцина пиво брал, они ж там зад об зад стоят, – с них! А можа, и зазевался кто… какой-нибудь съездюк… дороги-то на Красноярск во каки широкие, хотя я свечку не держал и понапраслину тягать сча не буду. Но от физкультуры… от ихней… прибыль, видать, большая, раз они завод забирают, в школах таки деньжиш-щи не плотют…
Егорка опасался, что его не поймут и для убедительности перешел на крик.
– А ващ-ще, мил человек, – Егорка косо взглянул на Петракова, – когда назаровские к власти придут, они ж свою деньгу на нас отрабатывать станут! А на ком ж иш-що?
– Так ведь и сейчас несладко, – возразил Петраков. Ему определенно нравился этот человечек.
– Несладко, да, – кивнул Егорка, – но беды-то нет, недостатки есть, а беды-то нет, потому как счас мы – не говно, а будем говно, точно тебе говорю!
Погано живем, скушно, Москву вашу не видим – факт. Но деньги у нас никто сча не отымает. Деньга есть пока. Жизнь есть! А эти ж – эти ж все отберут! Эти – такие! Михалыч – директор с характером, тока он у нас не тухтач, как назаровские! С Михалычем-то мы и договориться могем, а к тем-то гражданам просто так не подойди! Они так фаршмачить начнут… все с нас выгребут, прямиком до нитки, они ж вощ-ще нам платить не будут, потому как не умеют они платить! И не люди мы станем без денег-то, хуже собак станем, озвереют все, потому как это собаки без денег обходятся, а человек – нет! Затопчут они нас, ты послушай! Так затопчут… – хуе-мое с бамбулькой, прямым текстом тебе говорю, нам и самим-то за себя стыдно станет, хотя б перед детишками родными, во… в какое состояние мы войдем, а как потом выходить будем? Да и не спросит нас никто, потому как страна эта станет уже не наша!
– Краснобай… – протянул Чуприянов.
И опять все молчали.
– Я, – Егорка помедлил, – можа, конечно, и не то говорю, мы ж барашки, в лесу живем, но если назаровские, мил человек, у вас завод покупают, то вы там, в Москве, все с ума посходили! И это я кому хошь в глаза скажу, а правительству – в морду дам, если это ваше правительство где-нибудь встречу!.. И че вы, мил человек, – Егорка смотрел сейчас только на Петракова, – к нам в Сибирь лезете?.. Че вам всем неймется-то, а? Мужики наши в сорок первом… с Читы, с Иркутска… не для того Москву защищали, чтобы она счас для нас хуже оккупантов была! А Ельцину я сам письмо составлю, хоть и не писал отродясь ничего, – упряжу, значит, шоб назаровских не поддерживал, он же сам потом пожалеет! И ты, Михалыч, знай: мы – правду любим! Да разишь мы… тока? В России все правду любят! И баньку мы с Олешей строить – не будем, неча нас обижать… осиной разной… а если я вам обедню испортил, так вы уж звиняйте меня, какой есть!..
Егорка с такой силой хлопнул дверью, что Катюшка – вздрогнула.
– А вы, Иван Михайлович, его на галеры хотели, – засмеялся Петраков. – Да он сам кого хочешь на галеры пошлет!
Чуприянов не ответил. Он сидел, опустив голову, сжимая в руке давно опустевшую рюмку.

5
Ельцин чувствовал, что он превращается в зверя. В удава.
На крест не просятся, но и с креста не бегают!
Он бы с удовольствием, конечно, отправил бы на тот свет Хасбулатова, за ним – Руцкого, Зорькина, но Хасбулатова – раньше всех.
А как иначе? Россия, вся Россия, давным-давно банда, здесь, уж извините, кто кого! Ведь они, компания эта, они его, Бориса Ельцина, не пощадят, случись что, они уже приготовили ему гильотину. А может быть и галстук из каната – им все равно! Президент обязанрасправляться с теми, кто готов (желающие есть всегда) расправиться с ним, с лидером нации, выбить из-под него стул, точнее – царский трон…
Ну хорошо: Хасбулатов приговорен (он, Ельцин, его приговорил), Коржаков и Стрелецкий, его сотрудник, все сделают как надо, несложно, наверное… дальше что? Какой выход? Длинная шеренга, вон же их сколько, сволочей, кровные враги, понимашь… Трупом больше – трупом меньше, конечно, – но Европа? Америка?! Что скажет «друг Билл», увидев гроб уважаемого Руслана Имрановича, а? Чья работа, эти похороны? Кто хулиганил? Чьи уши торчат?
Демократического… можно сказать… Президента, так что ли?
Но и цацкаться с ними… прав Коржаков… они-то, его служба, уже натренировали руку на наглецах-банкирах (что-что, а убивать эти ребята мастера, действительно мастера, у них все как в кино, понимашь…) – да, конечно, Руслан Имранович легко уйдет вслед за господами Медковым («Прагмабанк»), Литвиновым («Россельхозбанк»), был бы приказ, как говорится!..
Ельцин боялся всего и всех, именно так – боялся всего и всех, поэтому не гнал от себя даже самые мрачные мысли.
Он, Президент, больше всех боялся того государства, той системы рыночных отношений, которые он же и создавал – тупо, совершенно тупо подчиняясь той демократии, которая крутила им как угодно, во все стороны, налево и направо.
Он оказался в заложниках у них, у демократов, он мог поменять любого министра, мог, конечно, но он никогда бы не решился поменять всех министров сразу. Да и выгнать, прямо скажем, кого-то из них он уже не мог, силенок не хватало, тут же Америка встала бы за их спиной, – Ельцин слишком поздно сообразил, что он на карту поставил, оказывается, свою жизнь; ему совершенно не улыбалось умирать за демократию, не для этого он всю свою жизнь делал карьеру!
Американцы могли бы убрать его в два счета, никакая охрана от них не спасет; Президентом России стал бы (уж они бы помогли!) Чубайс или Гайдар.
Кеннеди убили, а уж его-то, прости господи!..
Ельцин все время думал об этом.
Только что, неделю назад, кортеж машин банкира Гусинского на Арбате подрезал служебную «Волгу» Коржакова.
«Кто ж это шмаляет-то?» – удивился начальник службы безопасности Президента!
Ельцин согласился: беспредел на дорогах в Москве надо заканчивать, Гусинского пора поставить на место и провести фронтальную проверку его «Мост-банка», здесь без Генеральной прокуратуры не обойтись.
Очень хорошо: против «Моста» и Гусинского была тут же проведена войсковая операция:сотрудников «Моста», его охрану и всехслучайных прохожих на Калининском проспекте люди Коржакова положили в сугробы – на полтора часа. Гусинский кинулся в Шереметьево – сбежал в Венгрию… от греха подальше, как говорится; он был уверен, что его либо убьют, либо арестуют. – Да, он, Борис Ельцин не сажал в лагеря, не сажал в психушки… зачем? его специальные службы просто убивали людей… – и с Хасбулатовым в принципевсе вопросы были уже решены (спровоцированный инфаркт, что проще, на самом деле, хотя… раз на раз не приходится, конечно. По «совету» Горбачева, шеф КГБ Чебриков пять лет назад провел такой «опыт» с Гейдаром Алиевым, ибо Горбачев был уверен, что незаметно убитьАлиева легче, чем отправить его на пенсию, но Алиев выжил). А пуля в лоб… восемь граммов свинца, так просто, да?., пуля не выход в данном случае, ибо Хасбулатов тут же, мгновенно, просто через час после смерти будет назван в России национальным героем. А как? Он, Председатель Верховного Совета, погиб в борьбе с Ельциным, с его режимом; Россия любит убитых, Россия любит убитых больше, чем живых… – лесная страна, вся страна – лес, в лесной стране – законы леса… люди борются друг с другом как звери, как лесные дикари. – Да, надо бы, конечно, как-то иначе, умнее, – подвестиХасбулатова и Руцкого под официальнуюказнь, под Уголовный кодекс, под расстрел. Пуля, но по закону.И картинка хорошая, все как на Западе, все как у людей, понимашь: Хасбулатов и Руцкой идут, сложив за спиной руки, на казнь, а вокруг – ликующие крики демократической толпы. (Пометка в ежедневнике Президента: «Площадь: использовать Новодворскую».) И – рокировочка: вместо Хасбулатова, понимашь, – академик Юрий Рыжов, коль он отказался от должности премьера, вместо Руцкого – Галина Старовойтова…
Он был агрессивно провинциален, этот человек.
Жуткое одиночество. Именно так, жуткое.
Ельцин очень хорошо помнил этот день, точнее, вечер: 22 сентября 1991 года.
Все началось именно тогда, 22 сентября, – с записки Бурбулиса на его имя.
Понеслись центробежные силы!
Ельцин не любил читать; в Кремле знали: бумаги, которые идут к Ельцину, должны быть короткими, три-четыре фразы, максимум – пять.
Нет уж: коротко писать Бурбулис не умел.
Ельцин… чуть больше года прошло, а как красив, как молод… да-да, как же молод он был тогда… Ельцин… взял в руки красивый компьютерный текст и еще раз прочитал слова, подчеркнутые Бурбулисом: «Совершенно очевидно, что, столкнувшись с фактом создания нового Союза, Президент СССР будет вынужден немедленно подать в отставку…»
«Верно, – подумал Ельцин, – так и надо, удар под дых. Три республики сразу, одним махом, образуют новое государство – Союз Независимых Государств, как пишет Бурбулис, хотя о названии надо, конечно, еще подумать. А может быть, не три, может быть, и больше… Назарбаев, Снегур… – хотя Назарбаев маму родную продаст, это точно, он никогда не тяготился моральными ограничениями!
Назарбаев очень хотел, чтобы Горбачев сделал его вице-президентом (была такая идея), потом – премьер-министром, Горбачев не возражал, хотя и думал в то время об Александре Яковлеве, потом – о Собчаке. Нет, Нурсултан Абишевич всегда будет крутиться между ним и Горбачевым как соленый заяц – вот хитрый казах!»
Ельцин встал и подошел к окну. Ночью Кремль был чуден, красив и казался большой, невсамделишной игрушкой-пряником.
«Как страшно…» – подумал Ельцин.
Он тихо смотрел в окно. Отъехала чья-то «Волга», и Ивановская площадь совсем опустела.
Ельцину было стыдно. Ельцину было стыдно за самого себя. Как человек, как лидер, он был сильнее и решительнее, чем Горбачев, но Горбачев в Кремле был как рыба в воде, а Ельцин – как слон в посудной лавке.
Горбачев позорил Ельцина несколько раз; сначала – октябрьский пленум, потом – кино о его поездке в Америку и, наконец, случай на Успенских дачах, когда Ельцину пришлось соврать, что его столкнули в водоем. Отбиваясь от Горбачева и КГБ, Ельцин вдруг догадался, что он, Ельцин, не очень умен. Страх снова, еще раз, оказаться в дураках был у него так силен, что превратился в комплекс: не напороть бы.
Документ лежал на столе. Ельцин знал, что Бурбулис – рядом, у себя в кабинете; по вечерам Бурбулис никогда не уезжал раньше, чем Президент…
Горбачев, Горбачев не давал Ельцину покоя, Ельцин его ненавидел. Президент России любил и умел мстить. А мстить было за что…
В 87-м, после пленума, Ельцин оказался в больнице. Здесь ему все время давали какие-то таблетки. Убить не могли, нет, но отравить мозг, сделать из него придурка – запросто. А странная катастрофа под Барселоной, когда маленький самолет, в котором летел Ельцин, вдруг грохнулся на землю?
Ради бога… Все претензии к испанскому летчику, нечего летать на частных самолетах!
Ельцин смотрел на Ивановскую площадь. Он так и не привык к Кремлю – не смог.
«Вот ведь… Иван Грозный ходил по этим камням…»
Ночи в Кремле были очень красивы.
Ельцин любил власть, любил побеждать. Чтобы побеждать, ему нужны были враги. Всегда нужны! Ельцин умел побеждать, но он не умел руководить. Он умел отдавать приказы. Он умел снимать с работы. Стиль руководства Ельцина сформировался на стройке, потом в обкоме; других «университетов» у Ельцина не было.
Он вернулся к столу. Прямо перед ним в огромной раме чернела картина: река, обрыв и два дерева, похожих на виселицу.
«Надо будет снять», – подумал Ельцин. Странно: он уже месяц в этом кабинете, а картину – не замечал.
Ельцин нажал кнопку селектора. Правое ухо у Ельцина было абсолютно мертвое (простудился в Свердловске), и, как все полуглухие люди, он говорил очень громко.
– Геннадий Эдуардович… я посмотрел… наработки. План хороший. Но… – Ельцин помедлил. – Мало что выйдет… я думаю.
Он тяжело вздохнул.
Бурбулис стал что-то быстро-быстро говорить, но Ельцин его тут же оборвал:
– И… знаете что?.. Идите домой…
Он положил трубку. На часах половина первого.
Ельцин встал, подошел к окну, отодвинул штору и прижался лбом к холодному стеклу.
Да, он хотел власти. Абсолютной власти. Мечта всей его жизни: чтоб над ним, над Ельциным, никого бы не было!
С тех пор прошел год. Абсолютная власть – есть. И что же? В кого он превратился?
В России, как и на всем постсоветском пространстве… (гитлеровский термин, между прочим: «постсоветское пространство») держать власть, именно так: держатьвласть… мог, конечно, только тот человек, для которого человеческая жизнь ничего не стоит, то есть у него уже есть опыт убийств, ибо смерть (самоубийства) людей после расстрела, именно расстрела, у него «на ковре» в горкоме партии, в Москве, тоже убийство.
Если бы Ельцин, о нем речь, если бы Ельцин родился этак бы лет на двадцать пять-тридцать раньше, он был бы органичен, конечно, и в сталинской компании; этот человек, первый секретарь Свердловского обкома КПСС, очень легко менял собственную систему ценностей, очень легко! – И не важно, кто они, его враги… действительно враги или, например журналист Георгий Гонгадзе, то есть один из тех, кто просто осточертел… – быть Президентом и не убивать… нет уж, так не бывает, так не может быть в двадцатом веке, не та это страна, Россия, и не те в этой стране богатства и земли!
Нужен взрыв. Шок. Нужна беда – общенациональная, государственная (видимость беды). Восстание! И – «утро стрелецкой казни»: всех к ногтю, понимашь, всех, кто изменил Родине, то есть ему, Президенту России…
Хасбулатов – наркоман, завести его легко, очень легко, психика подорвана, амбиций – море! Наживку проглотит – ну и лады, сразу подтянется Руцкой, этот… в стороне не останется, будьте спокойны, ему всегда надо быть впереди, он же генерал!.. – Завести их, завести сволочей, да так, понимашь, завести, чтоб всю Москву разнесли, хоть в клочья, не жалко… – новую Москву поставим, еще краше сделаем!
Закон власти: главная опасность всегда исходит только от своих.
Одна банда. А в банде каждый хочет быть главарем, в банде каждый, или почти каждый, считает себя смертником, камикадзе, то есть человеком с харизмой, это ж банда, к богатству, к власти, еще большей власти надо успеть как можно скорее, прямо сейчас!
Где гарантия (кто даст?), что господин Бурбулис завтра… нет, не завтра, быстрее, уже сегодня… не превратится в Хасбулатова? Если у государственного деятеля нет личной жизни, просто нет, только карьера, одна карьера… – он что, нормальный человек, что ли?







