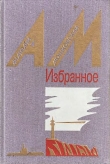Текст книги "Матрос Казаркин"
Автор книги: Андрей Скалон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Скалон Андрей Васильевич
Матрос Казаркин
Андрей Васильевич Скалон
МАТРОС КАЗАРКИН
Повесть
СРТ 91-91 заканчивал переход в новый район лова, и в рубке после ужина собралось много народу в хорошем настроении. Казаркин стоял на руле и травил длинную историю о призвании. Речь на эту тему зашла случайно, почему было не потрепаться в конце хорошего, почти выходного дня?
Сначала Казаркин доказал, что пьянство не может считаться призванием, а вот живопись, которой на СРТ 91-91 занимались сразу двое – вахтенный, в данный момент третий штурман и электрик Котя, в данный момент игравший в кают-компании в домино,– это уже призвание; заодно Казаркин и рассказывал в качестве наглядного примера на тему о призвании интересней-ший и забавнейший случай из своей жизни.
– Вот была у меня баба в Караганде, она в пивнушке работала. Баба как баба, все у нее было, и здесь и тут, а все прахом пошло, когда призвание у нее обнаружилось. Вот тебе смех, а мне? Я бы, может, женился на ней и моря бы этого в глаза не видал бы никогда, и дети были бы, и все такое. Я там сварщиком работал.
У нее призвание было, как если к ней в пивную малый в шляпе забредет, то непременно его обсчитать и охамить последними словами. А почему – потому что они все цивильные, которые при шляпах. Вот как она понимала. Ну и кидала она их, просто сил нету. Приди в спецовке, она тебя обслужит, и пивка тебе нальет, и бутерброд, и белой подаст, если у тебя глаза честные, но попадись ей в макинтоше да в шляпе – упаси и оборони! Это, считай, пропало дело. Вот кто футбол любит или телевизор, а ей не надо, ей надо обштопать малого при шляпе. Она потом сама не своя от радости, удовлетворенная. И мне все это рассказывает. Мне-то сначала было все это так себе, а потом смотрю, вроде у меня к ней растет чего-то, понимаешь. Ну, ведь я все же как-никак не мальчик, пора бы уже и обзавестись, и все такое. И вот у меня к ней растет. Да. И решил я искоренить это призвание. Только она начнет мне свои подвиги рассказывать... А баба была просто живая такая, все у нее ловко, быстро круть-верть – и яичница уже скворчит, пиво пшикнуло. Я про то, допустим, чтобы выпить где не дома, и знать не знал, все у меня было как в раю. Да, не было у бабы забот, так завела себе порося. Мне бы ее на другую работу перевести, я приносил подходяще, медяки эти пивные можно бы и бросить. С них не шибко-то разживешься; все это базар про пиво, дома там на воде или машину на пивной пене. Это я не знаю, я вот пока с ней жил, так никаких сбережений мы не заводили, а так и жили, как птицы. Правда, был у меня в плане номер первый – домик. Вот, кажется, неправда – какой мне домик, бич бичом, вербован-ный, босяк. А может, в общем-то ты и прав, не было у меня тогда домика в первом номере, это я сейчас вспоминаю и первый номер вставляю. Вообще не в том дело, а пустила она меня по наклонной плоскости, метнула меня, что называется, через блок-канифас. Я вот, допустим, слушаю ее похвальбу: того в шляпе, туда его в шляпе, сюда его в шляпе, мне просто неудобно за себя и ее жалко, просто ни к чему такое призвание. Прямо сказать, обижена она на этих, которые в шляпах ходят. Вот попался ей один такой паразит в шляпе, и теперь остальным в таком головном уборе житья от нее нету. Я ей раз "стоп" скомандовал, она не понимает; второй раз скомандовал, она не понимает. Стал ей объяснять, все это дело растолковывать. Ну сам пойми, ну кто его знает, шляпу?
Допустим, вот в детях было. Идет кто-нибудь мимо детдома, а ему кричат: "Чур-чур, не меня, человек в зеленой шляпе идет". Так то – дети, да и то зеленой шляпы только и боялись, и никакой другой. А ей-то – баба совсем спелая, солидная, можно сказать, женщина, а такое призвание. И вся беда, что в таком козометном плане она все делала – умрешь со смеху. Скучно все же за мокрой стойкой стоять, она и развлекается. Но я этому делу решил навести конец и такой приду-мал трюк – ты подожди, это тебе не кино, это такой смех получится, просто держи кайдан, а то отпустит. Я эту козу обдумал в точности, во всей тонкости, и с получки устроил. А вообще-то как бы я знал это, как теперь...
Да ладно, чего было, того не вернуть.
Покупаю я шляпу! Купил пару вина, конфет и цветочков в зелененькой травке, забежал домой, переоделся, шляпу дорогую на голову, сел в такси и поехал ее встречать. Я ее встречал после работы: во-первых, она иногда деньги не сдавала, домой брала, а потом, знаешь, пивная есть пивная, тут тебе того и гляди, в общем народ там известный. Я-то хоть и не здоровый парень, но на драку человек смелый, да и припасал кой-чего.
– Чего припасал-то?
– Ну, не пистолет же, так, по мелочи. Цепку коротенькую носил. В драке с пьяным человеком главное – глаза, смотри твердо, и никто тебя не тронет. Ну, а если прет на тебя, не понимает, давай по соплям сразу. Ну, это другой разговор, я тебе драки могу рассказывать, как стихи читать: чем дальше, тем больше. Я ведь посреди драк и вырос, нас еще в детдоме городские тренировали. В школу идешь – побьют, из школы идешь – сам кого-нибудь отметелишь. Послевоенные детдомовцы же, знаешь, голодные да злые. Это первое наше дело было – драка.
Ну, это все ерунда, главное – как я ее встренул.
Она там прибирается, пересчет делает, а я отодвинул мужиков, там человека три еще пива не напились, галдят под дверью, а зайти боятся, она у меня была женщина серьезная вообще-то. Вот ты замечал, когда у бабы долго мужа нету или кого-нибудь подходящего, она обязательно серьезная делается, а на обороте ласковая чересчур, прямо-таки слабая. Плохо им без мужиков.
– Гулящие – они такие.
– Дурак ты,– спокойно ответил Казаркин в темноту рубки.– Значит, зашел я, дверь ящиком придвинул, стою. Чтобы она меня во весь рост при шляпе увидела, как обернется.
– А где она сейчас? – спросил кто-то искренним и сочувствующим голосом.
– Не знаю, это давно было. До морей. Я скитался тогда по всему свету. Вообще-то тут шляпа, может, и не так виновата, может, просто метеосводка была плохая, но только посмотрела она на меня и даже не улыбнулась...
Казаркин замолчал и замелькал спицами руля, сосредоточив все внимание на картушке. Третий тоже ничего не говорил, хотя во время рассказа Казаркин обращался главным образом к нему как к постоянному своему собеседнику на вахтах и как бы подчеркивая этим объективность своей истории и отсутствие стремления воздействовать на всю аудиторию, убеждать и доказывать. И слушатели понимали этот прием и солидно помалкивали, разве изредка помогали сочувствен-ным словом, и только молодой матрос Сапунов не выдержал незаконченности, неопределенности казаркинского рассказа, Сапунов не мог понять, чего ему хочется: посмеяться или вздохнуть с грустью после этой истории, у которой и конца-то недосказано, тем более что вроде смехом все должно было кончиться.
– Ну, я думал, точно смешное! А это обязательно про баб ересь разведут! – сказал Сапунов.
– Почему же ересь? Жизнь это, дорогой! – сказал Казаркин задумчиво.
– Так я ничего, только ты смешное обещал,– настаивал Сапунов.
– Мало ли что обещал, про смешное, завтра приходи, расскажу.
Сапунов замолчал в дальнем углу у гирокомпаса, а Казаркин добродушно хмыкнул и сказал третьему штурману:
– Молодой еще, все смехотушки.
Разговор больше не налаживался, о призвании совсем забыли, и постепенно рубка опустела. Радист у себя включил музыку, а Третий ушел в штурманскую к журналам и картам, потому что вахта уже кончалась.
– Ты вот, Третий, скажи, ты бабе своей веришь? – громко и неожиданно спросил Казаркин.
– Кто им верит? Пока за ней глаз есть – она такая, нету глаза, дак тут верь не верь...
– Нет, ты вот верь. Я лично верю. Точно.
– Ты руль держи, верит он. Жены нету, так и веришь, а будет своя, тут тебе и вся вера насмарку пойдет.
– Ох, рыскаем мы маленько.
– Он тебе нарыскает сейчас,– сказал Третий, имея в виду капитана.
– Ничего, спит старый. Ну и смешно он спит в шторма. Я зашел как-то, а он на пузе лежит, как на подушке. Спит. Как шторм, я заметил, так он сразу начинает на пузе спать.
– На таком пузе спать можно.
– Оно, если здорово разворачивать начнет, может его с койки сбросить. Запросто, это же всякому пузу пузо...
Пришел сменщик, а за ним в рубку забрался Старпом
– Курс сто тридцать сдал,– сказал Казаркин.
– Курс сто тридцать принял.
– Счастливой вахты,– сказал Казаркин и загрохотал сапогами по трапу.
По дороге в каюту Казаркин забрел на кухню и с удовольствием проглотил две большие палтусовые котлеты, запил их компотом, собрал поварешкой косточки со дна котла и перещелкал их целую горсть своими острейшими зубами. Казаркин любил всякие компотные косточки – и сливовые и абрикосовые, а Васька-кондей всегда поощрял едоков, чего бы они ни ели, котлеты или косточки, и потому никогда не сердился, если кто после вахты пошурудит на камбузе в его отсутствие.
Федя Гулимов уже спал, и Казаркин залез наверх на свою койку, поболтал ногами и уснул, недолго поворочавшись, уснул удивительно спокойным, удивительно приятным сном.
Постукивая друг о друга, качаются на воде дюралевые кухтыли-поплавки, с грохотом уходят в воду окованные железом траловые доски, живо изгибаясь на блоках, струятся в воду стальные тросы-ваера.
Грохот стих, кто-то сказал:
– Четыреста метров. На грунте.
"Ловись, рыбка, большая и маленькая",– шепнул про себя суеверный Гулимов.
Идет траление. Косо двигается пароход, волоча за собой трал по грунту на глубине четырехсот метров. Там обрываются водоросли, мутится ил, косяки сельди смещаются в сторону, поднимают-ся вверх, заполняют огромный мешок трала, где рыбью гущину постепенно сдавливает страшная сила. В темноте на такой глубине, наверное, не видно, как трал волочится по дну, по песку, по камням, как подпрыгивают плавно его доски, а наверху, на палубе,– простор, стоят на самой воде на горизонте материки рассветных, теплых и розовых облаков.
Робы у тралмейстера и Казаркина были еще совсем чистые, и поэтому они спустились в свою каюту перекурить и срубать банку тушенки, пока трал будет загребать рыбу. В каюте Гулимов обратил внимание на очень заметный со свежа кошачий запах и сказал, валясь прямо в робе на койку:
– Вот это да, псевдонимом несет!
Казаркин полез в угол под печку и достал кошку, она в последнее время приспособилась жить у них в каюте. Кошка звонко оцарапала прорезиненную робу и потом терпеливо перевисла на руке и виновато жмурилась. Кошку выбросили в коридор, а рубать тушенку передумали, так как очень чувствовалось по дрожанию корпуса, что за бортом волочится на глубине трал и дает по ваерам сигналы, как воздушный змей по нитке. Каждый по-своему колдовал на удачу в новом районе, а видимость уверенности своим уходом в каюту они уже создали, и осталось только перекурить, лежа на койках, и потом уж спокойно подняться наверх, чтобы вирать трал.
Над пароходом скопилась большая стая чаек, они кружили среди мачт, облетали пароход со всех сторон, висели над ним неподвижно, чуть поворачивая желтоклювые головы, пикировали на воду. Чайки ждали трал вместе с рыбаками.
Недалеко баловались два круглых мокрых сивуча, розовая на рассвете вода казалась маслянис-той, до того скользко и мягко двигались, ныряли и плыли, и вертелись, и выставали в ней огромные, тяжелые звери.
– Не переживай, Федя, будет рыба! – сказал невпопад Казаркин.
– Не каркай! – взвился Гулимов и плюнул на палубу через левое плечо.
– Вот суевер малограмотный,– улыбнулся Казаркин,– куда плюешь, сейчас пищепродукт принимать будем!
Прошел час, и трал начали поднимать, натужно загудела лебедка, тяжело начали мотаться на барабаны промасленные, с редкими клоками водорослей ваера. Барабаны лебедки разбухали на глазах, скрежетало и визжало, терлось железо о железо, пароход тянул стальную паутину с добычей со дна морского. Наконец в воде появились светлые, расплывчатые очертания трала, всплыли дюралевые головы кухтылей, и виден стал весь безобразно раздутый мешок трала, похожий на желудок фантастической глубоководной рыбы, заглотившей косяк селедки. Началась суета на палубе, загомонили в рубке, высунулся Капитан и сипло начал кого-то материть. Казаркину стало весело, он потихоньку приплясывал возле шпиля.
Стукнули одна за другой пришедшие на дуги траловые доски. На глубине еще, раньше людей, прозрели рыбу чайки, замятушились, закричали. Мертвая, уснувшая рыба всплывала из глубины брюхом кверху, некоторая, еще шевеля плавниками, выходила за закрылки трала. Сверкая ослепительным исподом крыльев, одна за другой стали падать на рыбу чайки, хватать, рвать рыбу друг у друга, с криком, мяуканьем, писком, жадно и быстро глотать и подниматься, с трудом отрываясь от воды, взлетать вверх с наполовину проглоченными крупными жировыми сельдями, усиленно махая крыльями, судорожно дергая мокрыми, яично-желтыми перепончатыми лапами.
Казаркин ясно и остро видел их круглые хищные глаза с оранжевыми райками, видел, как разевались костяные, крючковатые, узкие и длинные клювы одного цвета с лапами, чувствовал, как наглы и вздорно-завистливы эти птицы. Но на чаек никто не сердился – это была их законная доля в добыче, и не сердились на сивучей, когда те, осторожно оплывая визгливую чаячью толкучку, оплывая троса и кухтыли, опасаясь сетей трала, ловили зубами и глотали упущенных чайками селедок.
Казаркину нравилось, когда сивуч, резко и скользко крутнувшись в воде, хватал зубами крупную селедку – селедка успевала розово, металлически блеснуть на солнце – и ловко и деликатно глотал рыбу.
Потом Казаркин шпилем поднимал трал на стрелу, СРТ кренился на правый борт, в трале сыро и грузно перетекала, переваливалась живая тяжесть рыбы, корячились два матроса, перехватывая сизалевыми концами по частям уже не выдерживающий вне воды своей добычи трал, покрикивал Федя Гулимов. Наконец развязан кайдан, и хлынула, растеклась на желтых досках палубы рыба, все растет и все растекается толстым слоем, ползет по палубе гора рыбы, часть еще жива; шевелят-ся несколько крабов, они как во сне двигают оцепенелыми конечностями и ползут, цепляясь, из груды; розовобрюхим пятнистым чудищем мелькнул среди селедки огромный вспученный окунь, плющеные камбалы, палтусы, несколько минтаев с вылезшими белыми глазами; запутавшись в пустом трале, висят колючие желтые и кирпичные цветы звезд, зеленые сгустки водорослей.
Сильно и резко пахнет рыбой.
Лопаты, которыми гребут и кидают селедку, покрыты серебряным слоем чешуи, сапоги утопают в толще, и через резину ноги чувствуют твердые и скользкие тела раздвигаемой рыбы.
Казаркин уже бросил шпиль и кидает рыбу лопатой, отгребает ее ногами и покрикивает:
– Эхма! Эхма!
Первое траление – это еще радость удачи, это еще спорт, это еще не работа. Работа – впереди, и впереди усталость и ненависть к каждой тонне перекиданной из трала в трюм селедки, впереди тошнотворное ощущение склизкой, леденящей тяжести всей ее текучей, нескончаемой толщи на палубе, когда уже ни у кого не достанет силы обратить внимание на медленно изменяю-щиеся оттенки рыбьих красок, попадающих из полных гармонии морских глубин в мир резких теней и яркого дневного света.
– Давай без перекура! Не сдохнете! Давай! Давай! – кричит злой от удовольствия Капитан.– Разоспались, едри вашу мать!
– Вот орет! – хлопнул себя по резине Гулимов.– А я о чем говорю ему, а?
Без перекура, сразу начали второе траление.
Казаркин перевалился через фальшборт сморкнуться, и в тот момент, когда он глянул прямо под себя в зеленовато-серую, мягкую и холодную воду, его друг, тралмейстер Федя Гулимов, отдал стопор, и ваером Казаркину прибило голову к планширу, раздробило нижнюю челюсть, переломило обе скуловые кости. Череп лопнул в двух местах, но ваер шел скользом, и потому у матроса голова осталась на месте, если бы он сунулся дальше и ваер попал на затылок или на шею, голову оторвало бы совсем.
Казаркин очнулся через минуту, увидел, как по палубе, белея в крови, медленно плывут зубы. Небольшие плески волн доставали и растворяли кровь и волокли зубы по палубе, по рыбьей чешуе и слизи. Он старался поднять два зуба, но глаза стали плохо видеть, и он опять потерял сознание.
Очнулся он уже на крышке трюма, на брезенте перед самыми глазами опять лежали зубы, кто-то их поднял и положил туда. До каюты Казаркин добрался сам и еще успел взглянуть на себя в зеркало: вместо лица был невероятно большой черно-лиловый пузырь, глаз не было видно.
Отчетливо Казаркин долго еще ничего не помнил.
На палубе шла быстрая работа. Боцман бегал по пароходу и искал аптечку, потом вспомнил, что она у Старпома.
Старпом не любил чаек и, считая их вредными птицами, проводил над ними свой любимый биологический эксперимент: он засовывал в небольшую селедку стомиллиметровый гвоздь и бросал селедку с кормы в воду, какая-нибудь чайка схватывала селедку и глотала ее на глазах у Старпома. Старпом удовлетворенно хмыкал и старался уследить момент, когда чайка начнет переваривать железо, но обычно чайки улетали и помирали вдалеке. И сейчас невыспавшийся Старпом высыпал из кармана вместе с ключами несколько гвоздей, гвозди он прибрал, а ключ отдал боцману, а потом и сам пошел в каюту к Казаркину посмотреть, что произошло, и материться начал загодя.
В каюте было много народу, кто в робе, в слизи и в чешуе, кто полуодетый из постели. Гулимов стоял на коленях у своей койки, поддерживал лежавшего на спине Казаркина за плечи, шептал:
– Слышь, Сережа! Слышь, а?
– Лицо-то распухло,– сказал кто-то.
Гулимов обернулся на голос и, не поняв сказанного, снова спросил:
– Слышь? Сережа!
– Уговорил дружка, Гулимов? Где зашибло? Ну-ка пусти.
Гулимов послушно отодвинулся.
– Плохо, наверное, череп лопнул,– сказал Старпом.– Наши меры тут не помогут. Хоть бы до базы додержался.
Все молчали.
– Тут не аптечку, тут акт составлять нужно,– сказал Старпом Капитану.
Пока шли к базе, начался легкий ветерок, стремительно, как обычно и бывает в заливе Аляска, налетел крепкий шторм. Казаркин немного пришел в себя, даже сам поднимался по шторм-трапу на борт базы, за ним лез страховавший его Федя Гулимов. Корзину им спускать не стали. Ну, выбило матросу зубы, ну, салазки вылетели, это не такая редкость на море, но, когда врачиха сделала осмотр, она испугалась. На базе не было условий для такой операции, да она и не взялась бы, потому что здесь нужен был хирург высокого класса, и Казаркина решено было передать на берег самым срочным порядком. Врачиха докладывала о своем решении высокому тучному человеку с крабом на каракулевой шапке, а в углу, держа свою телогрейку под мышкой, стоял Гулимов. Лицо у него было черное, закаменевшее, он все предлагал кровь.
– Кровь у меня есть,– чуть не плача, отбивалась от него врачиха.
– Мы нашу дадим, мы свежей...
– У меня есть кровь, но кровь тут ни при чем, вы понимаете?
– Выдь из лазарета,– мрачно сказал человек с крабом,– там подожди.
Гулимов послушался, а у дверей лазарета приятели с базы дали Гулимову выпить.
Снова была пересадка. Теперь Казаркина, и Гулимова, и врачиху спускали в корзине. Врачиха встала очень неудобно, а была в обычном платье, и короткая ее юбка задралась намного выше положенного, и в другой момент засветили бы туда матросские глаза, может, и сказанул бы кто-нибудь что-нибудь, но сейчас на палубе СРТ 91-91 была гробовая тишина. СРТ пошел в ближний американский порт, врачиху, непривычную штормовать на маленьком судне, тошнило, Казаркин всю дорогу был в бессознательном состоянии, а Гулимов перехватил лишнего и все время спал наверху на казаркинской койке.
Всю дорогу как коршун висел над Капитаном Старпом.
– Хорошо, конечно, если они его сошьют,– рассуждал Старпом,– жалко парня. Вот хоть и не люблю их обоих, а все равно жалко...
Капитан не обращал внимания на старпомовские речи.
– Опять же переодеть его надо, в робе неудобно перед американцами,печально вздыхал Старпом.
– Ничего, переморщатся,– зло сказал Капитан.
– Понимаешь, не наколбасил бы чего Казаркин-то. Он ведь и в мыслях-то такой, знаешь, язык у него что угодно сболтнет. А это заграница. Международная ситуация выйдет! А кто будет отвечать? Мы с капитаном.
Радист связался с американским портом и высунулся из своей рубки:
– Порядок, Гордей Гордеич! Только шторму усиление обещают. До шести-восьми.
– Восемь так восемь,– сказал Капитан.
Сшил Казаркина старый Хирург, похожий на злого варана, на обычного пустынного варана, сухого и жилистого, сероватого, в складках кожи, на тех варанов, которых Казаркин видел в детстве, в эвакуации.
Все ночи ему снились вараны и пустыня, горячая, удушающая. Варан работал над ним семь часов кряду, просверлил, пробил сломанные кости и насадил их на стальной каркас. Вся эта механика держалась на настоящих болтах и гайках. А пришел он в себя первый раз на глазах у Хирурга. Хирург держал за спиной сигарету, а увидел, что Казаркин очнулся, сигарету из-за спины вынул и затянулся, а Казаркина повезли от него по длинным-длинным белым потолкам, которые сплошь светились упрятанным за красивые декоративные решетки светом. Казаркин смотрел на эти решетки, стараясь определить время прошедшее и время настоящее, и думал еще, что неплохо было бы в том ресторане, в Караганде, который он отделывал, сделать такие же светильники. Ему было обидно, что тут, в госпитале, такие светильники, а в Караганде чуть ли не простые лампочки на проводах висят. Ему стало очень хорошо, что так быстро он начал уже думать и видеть все вокруг себя, а уж совсем втайне, даже от себя самого, радовался Казаркин, что жив, что не умер, не погиб в холодных жилистых руках ненавистного варана. И потом не мог Казаркин определить, почему Хирург был ненавистен ему. Казаркин никому не верил в этом госпитале. Они американцы – он русский, незачем им его жалеть и спасать, они могут винтить ему череп на гайках, могут поставить на нем опыт для ихней американской пользы. Ведь если он умрет, никто не докажет, что было неправильное лечение, потому что своих никого рядом, один он здесь, в Америке, а если и раскопают это дело, так не воевать же из-за него атомными бомбами!
В общем чувствовал себя Казаркин как бы в плену, но в плену чрезвычайно комфортабельном, с потрясающим своей технической оснащенностью нужником, ванной и прочими вещами. Кстати, в технике нужника Казаркин так и не разобрался до конца, выяснил только, где врубается вода, нужник был облагорожен и превращен техникой в нечто настолько серьезное и солидное, настолько отвлеченное от существа проблемы, что напоминал какую-то лабораторию. Казаркин усмехался и не без некоторого самокритичного юмора думал, что будь бы этот нужник в какой-нибудь новой секции во Владивостоке, то хозяева без стеснения оставили бы его на виду, как оставляют что-нибудь столь же ослепительное и сверкающее, например, холодильник.
Так и окружала Казаркина Америка – широкими толстыми стеклами палаты, нейлоновыми беззвучными дорожками на полу, странными лампами с мягким светом на потолке, так и не мог Казаркин привыкнуть к вкусной жидкой пище, которой его кормила медсестра Клара, пища была совершенно американская, даже интернационально-зеленая трава на газонах имела американский облик и пострижена была по-американски, и все вообще – простыни и подушки, и банки с соками и молоком, и пивом, и газировкой, и краска на стенах, и линолеум, и даже воздух с океана – все было чужим, американским. Казаркину трудно было представить себе каналы международных отношений, какие-нибудь дипломатические порядки, трудно было представить себе кипы документов на английском языке, в которых точно значились бы его имя и фамилия, написанные иностранными буковками. И ему не приходило в голову, что кто-нибудь, представляющий в Америке его государство, должен заботиться о попавшем сюда русском матросе, потому что уверен был Казаркин только в том, что он своей стране должен все и всем, телом и духом, это было естественно, ну, а считать за своей страной какие-нибудь долги и обязанности перед своей единичной личностью Казаркину бы и в голову не пришло. Да ни разу и не промелькнуло в уме Казаркина высокое собирательное слово Родина, он думал: "домой на пароход", "домой во Владик", хоть и не имел дома как такового и между рейсами жил в каютах различных пароходов своего треста, в межрейсовых гостиницах, у товарищей, чаще всего у Феди Гулимова, в общежи-тиях, у женщин, с которыми время от времени вступал в более или менее длительное сожитель-ство. Квартиры ему, как холостяку, не полагалось, да и вообще с квартирами во Владивостоке было туго.
Иногда, правда, у него возникало успокоительное соображение, что кто-то где-то о нем позаботится, вспомнит о нем, так как отвечает за него перед высшим начальством, он даже ожидал какую-нибудь бумагу, в которой ему велено будет прибыть в какой-нибудь пункт, где живут наши дипломаты.
Казаркин жил в это время, как летел, изредка только притыкаясь ногой земли. Постоянно горячо и душно было голове, часто терял сознание, погружался в какой-то фантастический бред, но бывали и часы, когда он наводил относительный порядой в ощущениях и тогда мог управлять своими мыслями. Тогда он старался вспоминать самые хорошие места из своей жизни. Их было немного, поэтому он особенно ценил возможность вспоминать о них и думать. Особенно дорого ему было одно, перед рейсом пролетевшее времечко, когда он жил во Владивостоке у Маши в однокомнатной секции на пятом этаже на проспекте Столетия. Маша уходила на работу, а он оставался дома один и иногда выпивал, потихоньку наигрывая на гитаре, а иногда уходил в город побродить и посидеть в ресторане, заходил на работу в рыбтрест потолковать со знакомыми мариманами – в Диамиде всегда можно было найти кого-нибудь знакомого.
С Машей получилось все не так, как полагается, она в последние дни особенно нервничала и давала намеки жениться, а он как-то не задумывался серьезно. Как-то утром было, Маша собира-лась идти, а Казаркин не пускал ее, она отрывала от себя его жадные руки и непонятно сердито, непонятно с удовольствием говорила :
– Пусти, я на работу опаздываю. Пусти, черт клешнятый!
Федя Гулимов знал про Машу и все звал к себе в гости, чтобы приходили посидеть и поближе познакомиться, у Фединой жены Нинки очень хороший глаз, и уж если она посмотрит на бабу и она ей понравится – жениться можно, закрыв глаза,– баба порядочная. И вот Серега стал звать Машу в гости к Гулимовым, сказал, что приглашают вечер провести.
– Пойдем?
– Никуда я не пойду,– Маша уже без шуток, свободно вырвалась от Казаркина и пошла к зеркалу поправить прическу.
– Ну, семейно посидеть, Маша!
– А кто ты мне? – вдруг закричала Маша.
– Как кто?
– Ну вот кто ты мне? Муж? Или брат? Родственник?
– Ну, а эта самая,– запридуривался Серега.– Любовь-то которая?
– Что ты говоришь? – иронически сказала Маша, она хотела что-то еще сказать, но не сумела, у нее стали набегать слезы.
Серега собразил, что дело плохо, и растерянно молчал.
– Ну вот что, если к Феде, то к Феде. А ко мне чтобы не приходил и не показывался. Иди к своим друзьям, у них весело. А со мной скучно. Меня ведь и муж за это бросил, ему тоже скучно было дома, в кабаках зато весело. Ведь это он меня бросил, а не я его! Я ведь и не видела ничего хорошего! Полгода он в рейсе, а потом три месяца на берегу, что есть муж, что нету. Да я ведь и не взглянула ни на кого за это время. А потом он же меня и бросил! Он меня бросил – не нужна ему жена,– море да кабаки! Все вы одинаковые!
– Маша-а, ну заткнись ты маленько,– Серега старался говорить понежнее, жалко было смотреть на Машу.– Ну чего ты завелась и пошла, пошла...
– Семейно! – передразнила Серегу Маша.– Слов бы таких не говорил. Любовь, любовь! В гробу я видела такую любовь! Тебе же дурь согнать! Переспал и пошел!
– Маша! – отчаянно крикнул Серега, но дверь уже хлопнула, слышно было только стукоток каблуков по лестнице.
– Во, ревнивая баба,– засмеялся Казаркин и упал на спину на подушки.
Казаркину стало очень хорошо, когда он подумал, что вот посидят они с Федей, посоветуются, а потом Федя будет свидетелем и все тому подобное, и наконец-то будет и семья, с Машей.
Всю жизнь Казаркин только и делал, что работал или бичевал в ожидании работы. А тут он лежал в постели, а за него переживала хорошая женщина, а за окном на заливе шторм – это было видно по цвету солнца, нервно и ветрено бившему в окно с залива. Он вылез из постели и прошле-пал босыми ногами к окну. Встал, прижавшись к стеклу лицом, и долго смотрел на буйный в белой пене залив. Залив был покрыт белыми гребешками мелких волн, ветру негде было разгуля-ться. Гребешки шли так плотно друг за другом, что Казаркину представлялось, будто невиданный по величине косяк рыбы зашел в узкую бухту и, стесненный берегами и неглубоким дном, теперь лежит толстым слоем, выставляя белые спины, бурля водой и перемешиваясь каждую минуту: одни рыбы вниз – в толщу и гущу, другие вверх – к ветру и солнцу.
Какое-то счастливое и плавное волнение охватило Казаркина, он разводил руками, улыбался прижатым к стеклу лицом, чувствовал, как колышутся стеклянные листы окна от прямо бьющего в них ветра, чувствовал через стекло каждый порыв, каждое движение этого солнечного упругого ветра с моря.
Он повернулся и оглядел свое временное жилище.
Утренняя неприбранность изумила его своей жизненностью и правдоподобностью: широкая постель – его и ее постель – была раскрыта и смята; на тумбочке, рядом с будильником и зеркалом, лежали различные женские приспособления: железно-резиновые бигуди, раскрытая с маленьким круглым зеркальцем пудреница, флакончики духов и губная помада в золотом столбике, а на стульях, в ногах постели, на смятых и брошенных как попало брюках ласково лежала текучая женская рубашка. Он прошелся по комнате и поймал себя всего, в длинных черных трусах, с худыми волосатыми ногами, с костистой жилистой грудью, на которой орел терзал женщину, с шишковатыми плечами и большими тяжелыми кистями рук, в зеркале. На стене затукало радио. Он подпрыгнул и упал на мягкую постель, высоко вздрыгнул ноги, поболтал ими в воздухе и в изнеможении полежал, расслабленно раскинувшись. Внутренняя гармония распира-ла грудь. Потом он оделся и посидел одетый, в новой японской рубашке, в новых, тоже японских, туфлях с уже покорябанным глянцем, потом долго и с удовольствием брился и смотрел при этом, как по крыше соседнего дома ходил под ветром кот и искал солнцепека за трубой в затишке. У кота двигались лопатки, и при поворотах ветер задирал ему шерсть на спине.
Они с Машей помирились и еще жили весело и несерьезно, пока не настало время уходить в рейс, и Маша пришла провожать. Народ в этом рейсе был новый, они вместе с Федей пришли в новый экипаж, и все вокруг были еще незнакомые. Казаркин соскочил по сходням на пирс к Маше.


![Книга Матрос 30-го Черноморского экипажа Петр Кошка и другие доблестные защитники Севастополя [Издание второе] автора К. Голохвастов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-matros-30-go-chernomorskogo-ekipazha-petr-koshka-i-drugie-doblestnye-zaschitniki-sevastopolya-izdanie-vtoroe-250731.jpg)