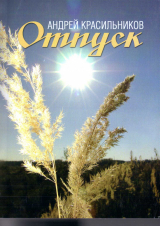
Текст книги "Отпуск"
Автор книги: Андрей Красильников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Огуречный сезон нынче начался раньше обычного и грозил побить все рекорды скоротечности из-за небывало стойкой жары и достаточно высокой влажности. Ещё неделька-другая – можно выщипывать всю ботву и ставить на это место летний обеденный гарнитур: лёгкий пластмассовый столик с шестью стульями. Впрочем, к чёрту пластмассу! Нанять заезжих молдаван, и они смастерят настоящий, деревянный, вгонят ножки в землю, на века, чтобы этих проклятых огурцов больше никогда здесь не видеть.
Огородная плантация занимала заднюю часть участка, где сохранился чугунный межевой столб, служивший основой всех заборов: Ланских, их соседей по улице и с тыла, а также расположившегося наискосок участка Крутилиных. В этом общем для всех углу стояли четыре одинаковые деревянные сооружения недвусмысленного назначения. В полагающемся по санитарным нормам метровом коридоре густо росла крапива. Но ни она, ни жуткое зловоние, ни полчища мух не мешали общению сверстников Алика Ланского и Лёни Крутилина, ленившихся обогнуть две улицы, чтобы попасть друг к другу. Со временем надворные постройки разобрали за ненадобностью, и приятелям стало куда комфортнее переговариваться через забор. Но если одному вольная профессия позволяла безвыездно сидеть за городом, то второго жизнь понемногу отучила от поездок на природу, заставляя каждую свободную минуту рыскать в поисках хлеба насущного. У друзей существовал уговор: как только Лёня выбирается на дачу, он первым делом стучит по гулкому чугуну.
В последнее время такой сигнал звучал всё реже и реже. Особенно в будни.
На сей раз колотить по столбу не пришлось: Леонид появился к самому концу огуречного полива, и они столкнулись на границе своих владений нос к носу.
– Привет огороднику! – обидно подразнил свежеприехавший дачного завсегдатая.
– От золотаря слышу, – отозвался тот в таком же тоне. Не так давно Крутилин честно признался, что ради денег приходится не брезговать ничем. За откровенность тут же получил крепко приклеившийся ярлык от язвительного товарища.
– Что новенького?
Вопрос относился не к рукописям Ланского, а к событиям местного быта, каковыми периодически становились введение платы за вывоз мусора с поселковой помойки, увеличение тарифа на газ и электроэнергию, очередная вырубка соседнего леса под новые участки и прочие неприятности, сменившие недолгую эпоху добрых новостей конца восьмидесятых.
Ответ чуть не свалил с ног благодушного соседа своей сенсационностью:
– Вадик приехал. Три дня назад. Отпуск тут проводить собрался.
В былые времена они дружили втроём. Одногодки, дети из приблизительно одинаковых семей, связанных длительным знакомством, не могли не сблизиться на почве летних забав. Их даже звали «три мушкетёра» за преданность друг другу. Жестокая жизнь разрушила идиллию юных лет. Первым отпал тот, кого за повышенный интерес к противоположному полу сравнивали с Арамисом.
– Ты его видел?
– Нет ещё. Мама к ним заходила. Ей Вера Николаевна сказала. А сам он ко мне носу не кажет.
Крутилин, не успевший ещё переодеться и переобуться, быстро просчитал в голове все ходы. Разговор явно требовал другой обстановки.
– Я сейчас разберу сумку, перекушу и приду, – пообещал он и торопливо засеменил в сторону дома.
Глава третья
1
Моложавая дама лет шестидесяти (на самом деле – шестидесяти шести) грациозно выплыла на открытую террасу. Она не шла, она несла себя, и ей это удавалось в любой обстановке, при любых обстоятельствах, даже при пустяковом перемещении внутри собственного дома без всяких свидетелей. В руках у неё был фарфоровый кофейник.
– Дима! За стол! – скомандовала она, как и прежде, когда сын, послушный мальчуган, мгновенно откликался на её голос.
Но сейчас никто не отозвался.
– Что за безобразие? Всё остынет, – с наигранным апломбом произнесла недовольная мать, выдержав минутную паузу.
Солнце ещё и не думало садиться, но отблески его лучей уже никак не могли попасть на восточную сторону, где Вера Николаевна любила пить вечерний кофе. Этим её ежедневный рацион, по традиции, завершался, хотя впереди оставалась немалая часть активного дня: прогулка, смотрение телевизора, рукоделие, беседы с домашними, чтение.
Вера Николаевна не относила себя к кругу пенсионерок, потому что не работала никогда. Пенсию ей, разумеется, платили: за потерю кормильца, случившуюся приблизительно в том же возрасте, когда её ровесницам одноимённое пособие начисляли за многолетние труды на подневольной службе. И тут выяснилась любопытная деталь: уход с работы объективно старит человека, совершая психологический слом в его сознании, выводя на иной жизненный виток, для многих последний. Не служившая домохозяйка не испытывает таких эмоций и остаётся в прежней возрастной категории: ведь пятьдесят пять для женщины – пора расцвета, а не заката.
Никольская овдовела семь лет назад и два года носила траур по своему единственному мужу в признательность хотя бы за то, что избавил её от необходимости спешить по утрам в казённое заведение, высиживать там по восемь часов с мыслью о домашних делах, а потом тратить столько же времени на приобретение продуктов, приготовление пищи, ремонт одежды, стирку, уборку квартиры, воспитание детей и исполнение супружеских обязанностей, чем занималась после работы лучшая половина населения лучшей на земном шаре страны. И если уж от чего приходилось отказываться, то только от последнего.
Вера Николаевна не посещала присутственное место, хотя и имела диплом экономиста. От этого её семья теряла ежемесячно рублей сто – сто пятьдесят (на самом деле, меньше, учитывая транспортные расходы и изнашивание одежды с обувью), но приобретала неизмеримо большее. Во-первых, в доме всегда царил уют, во-вторых, питались Никольские только изысканными блюдами, не повторявшимися в течение целого месяца, в-третьих, сын постоянно был под присмотром, в-четвёртых, супруги вели светский образ жизни, посещая театры, концерты, выставки, просто знакомых, в-пятых, они сполна испытывали все радости, дарованные природой, которые не в силах отнять даже ханжествующая советская власть. Согласитесь, потерять это ради десяти – пятнадцати красных купюр с изображением основоположника всех бед и несчастий можно лишь по великой нужде. Но её в доме не испытывали, поскольку глава семейства получал аж пятьсот рублей, а зарабатывал ещё больше. (Великий и могучий русский язык своеобразно отреагировал на двоякую сущность оплаты труда при социализме.) Дополнительную прибыль составляли вполне легальные доходы в виде гонораров за статьи и книги, почасовой платы за чтение лекций, вознаграждения за опеку своих аспирантов и выступления на защите чужих… Всего теперь и не упомнишь. При этом Сергей Данилович специально себя не утруждал и особого рвения не выказывал, но мелкие ручейки, как водится, тянулись к полноводной реке и пополняли её хоть скудными, но всё же заметными потоками.
Конечно, так было не всегда. Начинали молодожёны с заискивающих намёков в адрес его родителей. Однако старики без жалости расставались с излишками, чтобы единственный внук оставался под надзором родной матери, а не деревенской девки, коих в конце пятидесятых несть числа было в хороших московских домах, даже при неработающей хозяйке. К уходу на покой отца-профессора сам Сергей защитил уже докторскую и вполне крепко встал на ноги. Жестоко преследуя инакомыслие, государство щедро поощряло мысль, не догадываясь о взаимосвязи этих двух понятий.
Вера Николаевна рано вышла замуж – в двадцать лет, ещё студенткой. Получилось всё как в сказке. Будучи дочерью врагов народа, она вообще не надеялась попасть в приличную семью: таких невест тогда чурались, словно прокажённых. Её подруги по несчастью, отчаявшись, выскакивали за представителей класса, не ведавшего карьерных притязаний. И в самом деле, не понизишь же в должности шофёра или токаря, если у него тесть расстрелян за шпионаж в пользу Тувы, а тёща мотает срок в казахских степях! Но красавица Верочка, ловившая на себе сотни оценивающих взглядов мужчин своего круга, даже думать не желала о мезальянсе.
И вдруг произошло чудо: её пригласили в военную прокуратуру, выдали справку о реабилитации родителей (оказалось – посмертно) и вернули кое-какие вещи, отобранные у них при аресте. Горе сиротства (давно пережитое de facto, она не очень болезненно восприняла de jure) тут же затмилось радостью восстановления в правах. Конечно, случись такое событие года на четыре раньше, она поступила бы в университет, тогда ещё квартировавший на Моховой, а не в какой-то там институт для двоечников. Но надо ковать железо, пока горячо. К прокурору могут вызвать и вторично, совсем по другому поводу. Наша власть проделывала и не такое. Ухажёров у неё хватало всегда. Так получилось, что первым радостную весть она поведала розовощёкому блондину Серёже Никольскому из соседнего подъезда. И он тут же, не задав никаких лишних вопросов, сделал ей предложение.
Наверное, в этом знак судьбы, подумала про себя Верочка и тут же согласилась. Буквально за один день туман вокруг её судьбы рассеялся, свинцовые тучи над головой сменились голубым безоблачным небосклоном. Ещё неизвестно, кто испытал большее счастье, потому что Серёжа был страстно влюблён в неё со школьной скамьи, но робкий характер не позволял ему признаться в этом даже самому себе. На решительный шаг его подвигло невероятное, фантастическое известие: он и представить не мог, что в эпоху диктатуры пролетариата реабилитируют интеллигентов. Ещё больше оказались растроганы его родители, испытывавшие угрызения совести при каждой встрече с бабушкой Веры за своё благополучное существование на воле.
Рождение маленького Вадима совпало с написанием диплома. Молодая мать решила отказаться от полагавшегося ей академического отпуска и взять свободное распределение. Защита успешно прошла через полгода после родов, и грудной Дима избавил Верочку сначала от необходимости отрабатывать диплом под страхом тюрьмы где-нибудь в Каракалпакии, а потом, под нажимом свекрови, и вообще от трудовой повинности. Сама же профессорша Никольская в духе революционных настроений молодости продолжала участвовать в построении социализма, преподавая школьникам иностранный язык, считавшийся в разное время языком то союзника, то врага, то младшего брата по общему лагерю, и не собиралась бросать работу, чтобы нянчить внука.
Тридцать восемь лет прожила Вера Николаевна как за каменной стеной. Её абсолютная неготовность к вдовству выразилась в особо тщательном уходе за собой во время двухлетнего траура и в последующем принятии правил поведения великовозрастных невест, предполагавшем полное забвение детей и внуков ради будущего супруга.
Кандидат в очередные мужья проклюнулся не сразу. Им стал франтоватый господин на пять моложе её самой, занимавшийся бизнесом на базе руководимого им некогда государственного предприятия. Конечно, такой кавалер, тоже овдовевший, мог соблазнить и юную красотку. Этим он тоже занимался, но, как оправдывался в случае разоблачения, факультативно. Сексуально полноценного мужчину, безусловно, не могли прельстить внешние достоинства шестидесятилетней дамы, но в её колоде всегда имелся козырной туз – сын, занимавший столь высокий пост, что судьбоносной аудиенции с ним рядовой предприниматель мог добиться только в силу родственных связей. Ради избавления от одиночества Вера Николаевна прощала новому избраннику и карьеризм, и адюльтер, и массу других недостатков, моля Бога не прибирать его раньше неё, дабы в третий раз не оказаться перед проблемой выбора.
С помощью пасынка пронырливый Станислав Игнатьевич быстро пошёл в гору, но, из чувства благодарности, не огорчал супругу, не любившую оставаться в пустом доме, долгими отлучками. Правда, снижение Вадимом высоты своего полёта позволило отчиму почувствовать себя самостоятельнее и наглее. И вот – отъезды в город на всю неделю. Вера Николаевна не стала выявлять объект его внимания, – не всё ли равно – однако решила примерно наказать сына как виновника своих бед, заточив его на даче вместе с собой.
Неожиданно тот согласился. Хотя долгие годы отчуждения от матери не могли не сказаться на их отношениях. Приехать-то приехал, но жить по её законам не желал. Вот и сейчас не вышел к вечернему кофе.
– Будешь подогревать сам, – вещает Вера Николаевна в пустоту и наливает себе чашку из кофейника. Ей ещё нужно убрать посуду до вечернего показа бразильского телесериала, пройтись до леса и обратно (компанию обычно составляет соседская невестка), немного повязать, дочитать очередную главу из Шеллер-Михайлова и постараться уснуть до наступления рассвета, иначе будет разбит весь следующий день.
2
Дожидаясь друга, Ланской снова устроился под тентом. Этот жест означал к тому же окончание огородной повинности.
– Боль… Спасибо, – услышал он от проходившей мимо жены.
«Боль… Больше так не буду».
– Куда теперь? – задал Александр довольно странный вопрос для первых минут знакомства. Он умел ловко перевести утвердительную интонацию в вопросительную, выдать своё желание за желание собеседника и вообще повернуть диалог в нужную сторону деликатным, но не предполагающим возражений образом.
Обычно новые знакомые в таких случаях проявляли неуверенность, даже растерянность. Ничего подобного на сей раз не случилось.
– Конечно, в храм. Сегодня же Богоявление. Или Крещение. Как вам угодно.
Ланской считал себя верующим человеком, но отношения его с церковью складывались весьма сложно. Официальное духовенство он не признавал, памятуя о политическом мародёрстве семнадцатого года и предательстве ещё живого главы русского православия, но старался хотя бы изредка причащаться, за неимением других, у этих пастырей.
Ведомый своей попутчицей, он поднялся на Ивановскую горку и вскоре очутился в крошечном приделе, где сразу приметил ящичек для пожертвований на благоустройство храма сего. Народа впереди было немного, очевидно, одни прихожане. Только что закончилась литургия, и они заботливо разливали освящённую воду в принесённые загодя банки и бидоны, обсуждая обычные мирские дела. Всё тут дышало домашним уютом и спокойствием. Появление незнакомцев не осталось незамеченным. Говорившие вдруг почему-то перешли на шёпот и стали сворачивать свои беседы. Незваная гостья мгновенно оценила обстановку и тут же попыталась разрядить её:
– Простите нас, мы только что с митинга.
– С какого митинга? – насторожённо полюбопытствовала крупная женщина в пёстром платке.
Казалось бы, вся Москва знала о манифестации, но у этих людей один из важнейших обрядов христианства занимал всё сознание без остатка, не оставляя места мирскому суемудрию. Первым это понял Ланской и поспешил встрять в диалог:
– Против безбожной власти.
Одна из прихожанок, помоложе и поприветливее, отреагировала мгновенно:
– Ой, молодцы какие! Только у вас посуды никакой нет. Куда же вам водички-то налить?
– Не беспокойтесь, – виновато ответил Александр, – мы как-нибудь обойдёмся.
– Нет, так не годится. Сегодня праздник. Большой праздник. Вы сами-то крещёные? – поинтересовался седобородый старик, видимо, приходский староста.
– Конечно! – в один голос заверили вошедшие.
– Значит, и ваш праздник тоже, – заключил староста. – Мы вас с пустыми руками не отпустим.
Приняв их, очевидно, за мужа и жену, гостеприимная община налила одну литровую банку на двоих:
– Это от всех напастей и болезней. И если дом освящать надумаете.
Ланскому пришлось подыграть добрым дарителям. Он с поклоном принял сосуд, как подобает главе семейства. Его мнимая половина тем временем произнесла:
– Спаси, Господи.
Уходя, Александр пошарил в кармане, извлёк оттуда первую попавшуюся купюру, оказавшуюся десятирублёвой, и опустил в прорезь ящичка. Его напарница хотела сделать то же, но он ей шепнул:
– Не надо. Они приняли нас за супругов. Пусть так и думают.
На улице, осеняя себя крестным знамением у порога церкви, Ланской явственно почувствовал, что в его жизни произошло что-то важное, обязывающее, будто неведомая сила накрепко притянула его к стоявшему рядом нежному и доверчивому созданию, имя которого он до сих пор не знал.
3
Не успел Крутилин ступить на порог своего дома, как перед ним вырос сын, находившийся в явно дурном настроении.
– Каким ветром принесло? – неприветливо поинтересовался Толик.
– Раньше ты был рад моим неурочным визитам, – ответил ему отец. Он сразу догадался, что дело тут не чисто. – Какая шлея под хвост попала?
Восемнадцатилетний Анатолий готовился к поступлению в университет. Годом раньше он недобрал балла для зачисления на государственный кошт, получив четвёрки за сочинение и математику. Несколько товарищей по несчастью, несмотря на такой исход экзаменов, стали студентами с помощью родительского кошелька, способного оплачивать их образование. Крутилины и мыслить не смели обучать ребёнка за деньги. Глава семейства, служивший верой и правдой в одном из муниципальных департаментов, зарабатывал сущие гроши, а его учительствующая супруга и того меньше. Толику, надеявшемуся на чудо, объяснили горькую правду: не на кого ему рассчитывать, кроме самого себя. Прокормить родители худо-бедно могут, прикрыть наготу самым дешёвым образом – тоже, но учить за свой счёт – абсолютно исключено. Нет у них тайных вкладов, левых доходов, богатых родственников и излишков недвижимости для сдачи внаём. За дачу в зимний период много не выручишь, а перебираться туда на круглый год и таскаться в переполненных электричках на работу ради двухсот пятидесяти долларов месячного дохода от московской квартиры они не согласны.
Юноша умом всё понимал и не требовал таких жертв. Но внутри что-то надломилось: впервые принял он удар судьбы, разящий без промаха по самому больному месту. Толик не видел себя вне студенчества, он стремился в эту среду с её буднями и праздниками всеми силами разума и души и, потерпев неудачу, причинявшую чуть ли не физическую боль, стал винить в случившемся не собственную нерадивость, не строгих экзаменаторов, не бедствующих отца с матерью, а некую абстрактную систему, выталкивающую ему подобных за борт жизни в клокочущий волнами тревог, кишащий акулами океан действительности. Он часто слышал воспоминания взрослых о других временах, когда учёба не стоила ни рубля, когда не пускали за границу, сажали за крамольные книги и писателей и читателей, но не разводили по шеренгам в зависимости от семейной мощны: одних – в свет учения, других – во тьму необразованности. Кроме того, грозила армия навевающими ужас «горячими» точками, дедовщиной, Чечнёй, психопатами-сослуживцами, разряжающими автоматы в рядом стоящих и ударяющимися затем в бега, мужеложествующими унтер-офицерами, недокормом и прочими кошмарами.
Уже в сентябре Толю определили на службу. Нашлось тёплое местечко в дочерней фирме крупного концерна, присосавшегося к исправно фонтанирующей нефтяной скважине. Для одних из недр земли била чёрная жижа, для других – чистое золото. Первые ходили чумазыми и пропахшими бензином, вторые лоснились от дорогой косметики и благоухали лучшими европейскими духами и одеколонами. Первые делали всё своими руками, вторые нуждались в девочках-служанках и мальчиках на побегушках. Зная, какая ему уготована роль, юный Крутилин было возмутился, но отец спокойно разъяснил ему один из непоколебимых веками законов российской карьеры: способному человеку важно зацепиться за любое место в солидной организации, хоть дворником. Внутри всегда предпочитают двигать своих, и на приличную должность легче угодить из примелькавшихся и отмеченных талантами сотрудников, чем из аутсайдеров.
Восхождение по иерархической лестнице Крутилина-младшего длилось недолго. Его действительно заметили, и уже через два месяца он сидел за компьютером, а к Рождеству стал даже начальником группы. С этого момента вклад сына в семейный бюджет превысил совокупную зарплату обоих родителей. Но в мае Толик объявил, что не желает больше тратить время впустую, что ему нужно освежать в памяти школьные знания, затуманенные безграмотностью коллег по работе, что он увольняется, перебирается за город и начинает интенсивно готовиться ко второму штурму Воробьёвых гор. Все эти аргументы весомо подкреплялись заначкой в тысячу долларов, составленной из премиальных выплат и свидетельствовавшей не только о продуманности финансовых последствий дезертирства, но и об аскетизме ярого ревнителя наук и его неподверженности мирским соблазнам.
Отговаривать Анатолия было бесполезно. Сошлись на компромиссе: он оформляет отпуск за свой счёт на время призыва, плавно переходящее в период экзаменов (с первым на работе моментально согласились, признав такое решение мудрым, о втором завгруппой решил до поры до времени умолчать), и исчезает из Москвы сразу после дня рождения. Впрочем, само совершеннолетие отмечалось уже на даче, где виновник торжества остался вдвоём с бабушкой. Веря в свою силу воли, он планировал безвылазно сидеть за учебниками. Так и происходило в первые две недели. Но потом не ко времени вызывающе ему улыбнулась расцветшая за зиму Мирра.
Девочка и раньше нравилась Толику. Он находил несомненный шарм в её угловатости, вечной припухлости верхней губы и независимом поведении. Она словно бросала вызов природе, сотворившей её не по идеальному лекалу женского совершенства, но не убившей проклятый Евин ген сознания собственной исключительности. Не привыкшая сдаваться ни в чём, девушка научилась затушёвывать шероховатости своего внешнего облика тем особым внутренним светом, который изливается из глубин естества, высвечивая выигрышные детали и затеняя остальные. Толик и Мирра сызмальства вместе играли в невинные детские игры. Разница в два года дала себя знать, когда ему стукнуло шестнадцать. Горизонты вмиг расширились, он, всегда выглядевший старше своих лет, стал вхож в компанию более взрослых ребят, где познакомился с голенастыми и грудастыми девицами весьма фривольного поведения, и на их фоне старая подружка осталась в сознании партнёршей по пинг-понгу и бадминтону. Сейчас же в её дерзкой улыбке он увидел претензию на более серьёзную игру, для которой она, теперь уже тоже достигшая шестнадцати, вполне созрела.
К удивлению, Толя не обнаружил соперников, хотя посёлок жил полной жизнью круглый год, и школа, куда ещё ходила его пассия, кишела претендентами на её благосклонность. Но сверстники не привлекали юную сердцеедку. Существа, заикавшись отвечавшие у доски, казались ей абсолютно бесполыми, мужчинами представлялись лишь солидные и самостоятельные особи противоположного пола, а нравились из них лишь те, кто не утратил при всей респектабельности способности к безрассудству.
В маленьком посёлке ничто ни от кого не утаишь. У Извековых быстро стало известно: молодой Крутилин за зиму так преуспел в крупной фирме, что стал кормильцем неудачника-отца и несчастной матери и, шагая такими темпами, годам к двадцати пяти превратится в миллионера и усвистит в Америку. Иного продолжения удачливой судьбы молва не ведала, уже имея аналогичные примеры перед глазами (двое соседей по улице отправили своих отпрысков за океан и морально готовились кончать свой век на чужбине). А где два – там и три.
Роковая улыбка затормозила темп Толиных занятий. Будучи по природе рационалистом, он счёл более экономным со всех точек зрения форсировать события. Подкараулить Мирру оказалось несложно. Тут же было назначено свидание, затем второе, и прогулки под луной вскоре сделались составной частью режима дня. Теперь учёба не страдала: делу – время, потехе – час. Правда, ночные рейды в лесные гущи кончались щекочущим эротическим возбуждением, нараставшим с неотвратимостью девятого вала. Но более опытный кавалер умело удерживал его до поры до времени, давая понять своей барышне, что процесс идёт в нужном направлении, плод зреет, а срывать его приятней полностью спелым: тогда он приносит большее наслаждение. Таким образом он предполагал дотянуть до отъезда Мирры на юг, откуда та планировала вернуться к концу его вступительных экзаменов. А там – либо пан, либо пропал.
Отъезд намечался на первые числа июля. И вдруг всё мигом изменилось. Взбалмошная девчонка распаковала уже собранный чемодан и осталась дома.
– У меня нет хвоста, – недобрым голосом огрызнулся Анатолий. – У меня есть только жёсткий график, в который внеочередной родительский день не вписывается.
Крутилин понимал состояние человека, только что сдававшего непростой письменный экзамен по математике и до сих пор не знавшего результата (хотя сам Толик в своей пятёрке не сомневался):
– Хорошо, я сейчас уйду.
– Куда?
– К дяде Алику. Пообещал заглянуть к нему сразу после ужина.
– Ужин будет через десять минут. Бабушка уже пошла его разогревать. На том диалог прервался. Леонид отправился к матери на кухню, а Толя побрёл в летний душ: эта процедура предшествовала каждому приёму пищи.
За столом они встретились вновь. Но разговор явно не клеился.
– Всё же ты не в своей тарелке, сынок, – заключил Крутилин.
– Это субъективное суждение.
– Суждение отца о собственном ребёнке всегда объективно. Даже когда оно субъективно. Таков вот силлогизм.
– Кто автор?
– Да любой. Самому неграмотному человеку сие становится абсолютно понятным с появлением родительского инстинкта. И ты когда-нибудь поймёшь.
– Не пришлось бы понять очень скоро, – вставила своё слово Надежда Кузьминична, намекая на известное обстоятельство.








