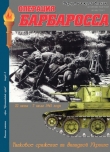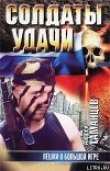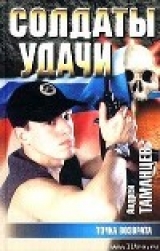
Текст книги "Точка возврата"
Автор книги: Андрей Таманцев
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Три капитана
В пять часов вечера два недовольных капитана СБУ ступили на брусчатку патриаршего подворья на Юрской горе. Они были в гражданском, и ничто не выдавало в них военных. Последние годы отучили панов офицеров от оперативной работы. Все больше приходилось заниматься «крышеванием» местных коммерческих структур. Поначалу, когда СБУ объявила городской преступности войну без правил, это требовало и отваги, и оперативности. Война была выиграна несколько лет назад, оставшиеся бандиты фактически подчинялись эсбэушникам, а сами эсбэушники погрязли в... В новой работе.
Капитаны имели приопухшие злые лица. Они бессистемно послонялись по двору, заглянули в храм, предъявив ксивы, потоптались в фойе реставрируемых патриарших палат. Они сунулись в обезлюдевший монастырь, прошли несколько коридоров и, побоявшись заблудиться, махнули рукой и вышли. Они настолько лениво исполняли поручение генерала Комиссарова, что не заметили даже, что за их брожением по подворью наблюдает невзрачный человек с острыми глазами и чемоданчиком в левой руке. Он подошел к ним, когда они, устав от оперативной работы, присели покурить на задворках монастыря.
– Здоровэнькы булы, паны офицеры! – поздоровался незнакомец. – Я – доверенное лицо пана Моцара. Называйте меня паном Степаном.
При этом пан Степан сильно акцентировал на иностранный манер. Впрочем, капитанам это было безразлично. Они только угрюмо кивнули и хмуро представились. Того, что был постарше, был более опухший и угрюмый, звали Сапоговым, а тот, что помоложе, еще не утративший полностью признаков человека военного, представился как Сосенко. Между тем пан Степан продолжал:
– Каковы, по-вашему, результаты осмотра?
Сапогов пробурчал нечто невнятное, но вряд ли приличное, а Сосенко откликнулся вслух:
– Фиг его знает! Тут охраны будет хренова туча, когда папа приедет. Не представляю себе, как тут можно хотя бы попытаться напасть...
– Вы плохо смотрели, друзья мои, – сказал пан Степан, – но от вас это и не требуется. Вы должны будете просто повсюду сопровождать меня, выполнять мои поручения и совершать официальные действия, дозволенные вам по вашему служебному положению.
– Мы и сами не мальчики! – возмутился было Сосенко, но Сапогов оборвал его:
– Молчи уж. Делай, что приказано.
Пан Степан повел хмурых капитанов к крыльцу храма и показал на водостоки.
– Как вы думаете, что это такое? – спросил он.
– Мы не знаем, – честно признались капитаны. Тогда Степан приказал Сосенко сбросить куртку, извлечь из дыры мусор, а потом закатать рукав рубашки и просунуть руку в отверстие. Удивленный Сосенко сообщил, что внутри стены имеется большая полость. Пан Степан довольно улыбнулся.
– Хорошая бойница, не правда ли? – сказал он. – А ведь папа неизбежно будет проходить мимо нее.
Капитаны, пораженные, молчали.
– Пошли! – Пан Степан махнул рукой в направлении входа в монастырь.
Подсвечивая мощным фонарем, он привел капитанов к чулану, заваленному мусором.
– Если интуиция мне не изменяет, это здесь.
Он извлек из чемоданчика саперную лопатку, воткнул в мусор и кивнул на нее капитанам. Ничего не поделаешь, пришлось господам офицерам заниматься черной работой. Сменяя друг друга, они через некоторое время проделали узкий, но все-таки достаточных размеров лаз под потолком чулана. Пан Степан с фонарем и пистолетом полез первым. Вскоре все трое оказались в бойничной галерее. Здесь стоял свежий запах керосина, табака, валялись какие-то объедки, но никого не было.
– Он был здесь! – воскликнул Сосенко. – Он вернется!
Сапогов только пыхтел после лазания по древним лабиринтам, а пан Степан снисходительно усмехнулся.
– Нет, не вернется. И вообще советую вам забыть, что наш противник восьмидесятилетний старик. Помните о другом. Он – профессионал самого высокого класса. Высшей квалификации. Если вам что-то говорят такие слова.
И пан Степан окинул своих временных подчиненных презрительным взглядом.
* * *
Через тридцать минут пан Степан имел совещание с паном Моцаром.
– Старик перехитрил нас, – спокойно докладывал Степан. – Он перепланировал покушение. Возможно, почуял подвох. Возможно, просто ему в голову пришел более удачный план. И этого плана мы не знаем. Деда надо вычислять по-другому. Со своей квартиры он съехал якобы в санаторий. На самом деле он, конечно, в городе. Надо выявить все адреса, где он может скрываться.
– Не забывайте, – возразил Моцар, – что Дед – разведчик, а сейчас – лето. Он может и в парке ночевать.
– Нет, не думаю. Он не молод, а к приезду папы ему нужно быть в форме. Он должен где-то отдыхать. Кроме того, ему нужно будет прилично выглядеть, поскольку к визиту запланировано выдворить из города все оборванцев.
– Согласен.
Моцар выдвинул ящик и достал дело Деда, предоставленное Комиссаровым. Из другого ящика появилась досье, составленное службами самого Моцара. Степан внимательно читал адреса, кивая после каждого: запомнил, запомнил.
Уже через пятнадцать минут он, сопровождаемый все теми же двумя капитанами, звонил в дверь некоего Никитина, одного из ближайших приятелей капитана Соколова.
* * *
В рюкзаке – большая канистра с водой, хлеб, сухари, сало, шоколад. Сигареты. Если много спать и мало двигаться, то запасов должно хватить и до понедельника, а если поэкономить, то и до четверга. Не сегодня завтра спецслужбы начнут прочесывать монастырь. Схемы здания у них нет, как нет и ни у кого. У этого здания не может быть схемы. Вряд ли они додумаются разгрести кучу мусора в чулане. А если даже разгребут, Дед успеет спрятаться, есть у него надежный тайничок в бойничной галерее. Папа прилетает во Львов в девятнадцать пятнадцать в понедельник. Из аэропорта его везут в нунциатуру, где он и будет обитать все время визита. Это шанс номер один. После этого будут еще многочисленные шансы, но все же главный шанс представится Николаю Ивановичу только в среду, когда папа будет служить прощальную обедню здесь, в соборе святого Юра.
График визита папы публиковался во всех львовских газетах, вряд ли он претерпит серьезные изменения. Да, это место действительно лучшее. Тем более что капитан Пастухов со своими ребятами будет прикрывать его именно здесь. Правда, непонятно, зачем вообще нужно прикрытие. Здесь и одному-то делать нечего. Выстрел будет произведен с глушителем из узкой бойницы. Вначале вообще никто не поймет, что произошло. Поднимется натурально паника. Но для того чтобы определить, откуда стреляли, придется проводить специальные следственные мероприятия. А к этому моменту Дед успеет покинуть монастырь. А если монастырь оцепят и будут прочесывать, можно отсидеться в тайнике.
И еще кое-что Деду не было понятно. Пастух не мог знать графика визита папы, он уехал в Карпаты еще до публикаций в газетах. Кроме того, ни Пастух, ни его ребята не знают города. Каким образом он так удачно определил место для покушения?
"Да нет, – думал Николай Иванович, – тут как раз волноваться нечего. Город знает Борода. А газеты ведь поступают и в глухие горские деревни. Вот ребята смогли просчитать это место. Но что тогда меня все же беспокоит? Разберемся. О месте я услышал от Ларисы. Перед этим был конкретный приказ от Боцмана, но без уточнений. Связь оборвалась, Боцман даже не успел дать более подробных инструкций. Затем позвонил Пастух. Почему, кстати, тогда, в первый раз, звонил Боцман? Почему, почему... Мало ли как там у них все вышло. Боцман звонил, Пастух контролировал ситуацию. Потом поменялись. Пастух, как передала Лариса, «будет прикрывать мероприятие во время первой службы во дворе апостольской нунциатуры». А вот это уже интересно. Почему он сказал «апостольская нунциатура»? Так патриаршие палаты называют только малотиражные униатские газеты, а уж они-то вряд ли так скоро достигают отдаленных сел... Во всех же остальных газетах как только не называют это учреждение: и митрополичьими палатами, и даже по старой памяти епархиальным управлением – именно оно было здесь при советской власти, пока православные храмы не отбили в пользу папистов, а Львовско-Волынскую епархию не выселили прямо на улицу. Лариса, когда сообщала Деду содержание приказа, явно повторяла только что вызубренное предложение. Выходит, Пастух сказал «апостольская нунциатура»? Да не может этого быть!
Рассуждая так, Дед нашел первую загвоздку. Вторая загвоздка обнаружилась быстрее. Лариска путается с местными, причем с местными фашистского толка. Приказ Пастуха, если это действительно был его приказ, может дойти и до совсем ненужных ушей. И тогда Пастух, что, вообще говоря, сомнительно, будет прикрывать Деда. Вот, между прочим, еще одна странность: Пастух, тоже не слишком доверяя Ларисе, передает такой важный приказ через нее. Все это трижды сомнительно, но даже если и сам старшой оплошал, доверяя секрет ненадежному человеку, то не таков капитан советской разведки Николай Иванович Соколов! Уж он-то не оплошает!
* * *
Вскоре отставной капитан энергичными движениями засыпал чулан мусором, приводя закоулок в то состояние, в каком он пребывал до первого прихода сюда Деда. Никем не замеченный, Николай Иванович покинул патриаршее подворье, вышел из монастыря и пошел прочь с Юрской горы. Шестой трамвай привез его в грязный рабочий квартал, где влачили жалкое существование со своей семьями рабочие закрытых не без участия таких господ, как Моцар и Рыбнюк, заводов. Смертность среди жителей этого квартала била показатели по самым отсталым африканским странам. Посреди этого квартала, на самой, наверное, грязной улице города Львова жил в тесной клетушке странный приятель капитана Соколова Иван Черепков.
* * *
Ни малейших следов старика не оказалось ни по одному известному адресу. Для их обследования потребовались сутки. Пан Степан впускал в квартиру вперед себя капитанов, которые, размахивая ксивами, сообщали жильцам, что их приход связан с профилактическими мероприятиями, проводимыми в преддверии высочайшего визита. Затем входил и пан Степан, якобы инструктор, нес какую-то пургу по поводу, как следует себя вести во время визита. При этом он расхаживал по квартире, суя нос во все комнаты. После этого он докладывался своему шефу, а за квартирой все равно устанавливалось наблюдение. Только силами Моцара, а не скомпрометировавшей себя СБУ. Но Дед словно сквозь землю провалился.
Вечером следующего дня агент Степан вошел в кабинет своего шефа без доклада – по делу покушения разрешено было входить без доклада.
– Грэг, – фамильярно обратился к шефу пан Степан – так называл он Моцара еще в школе «ди-фо», где учился тремя годами младше своего шефа, – этот Соколов еще хитрее, чем мы думали. Но не хитрее меня. Я связался с его районной поликлиникой. Мне сказали, что недавно действительно оформили путевку пенсионеру Соколову. Тогда я позвонил в санаторий. И что ты думаешь? Они говорят, что у них и правда отдыхает пенсионер Соколов. Займи чем-нибудь моих двух капитанов, в санаторий я поеду сам.
* * *
В Солутвине пан Степан с помощью, зеленых купюр, которым вот уже столько лет поклоняется все прогрессивное человечество, быстро сошелся с главврачом. Главврач не только поселил приезжего в своем заведении, но и учел пожелание клиента разделить палату только с Николаем Ивановичем Соколовым, старым знакомым пана Степана.
Николай Иванович сидел на койке, мрачно глядя в окно, и не был похож на себя. Когда медсестра, пожелав вновь поступившему приятного отдыха, закрыла за собой дверь, вновь поступивший без обиняков выставил на тумбочку одну из лучших российских водок и пакет с разнообразными приятными закусками.
– А я думал выпить с самим уважаемым Николаем Ивановичем Соколовым, – сказал он. – Но кажется, он не смог приехать сюда этим летом?
– Вы его знаете? – оживился Лжесоколов при виде водки.
Надо сказать, что русским языком пан Степан владел куда лучше, чем украинским. Пятнадцать лет назад в школе «ди-фо» и подумать не могли, что курсантам может понадобиться в будущем этот диалект.
– Еще бы! – весело отвечал пан Степан, наливая по рюмкам в ответ на согласный кивок Лжесоколова. – Он меня учил немецкому частным образом. Я еще совсем пацаном был. Можно сказать, что Николай Иванович был моим первым настоящим учителем. Такое не забывается!
К ночи и к концу второй бутылки пан Степан знал назубок биографию Ивана Черепкова, бывшего партизана, сержанта в отряде особого назначения, оставшегося инвалидом по причине контузии и основавшего после войны первую настоящую организованную банду во Львове. Трижды судимый, ни одного срока он не отбыл полностью. Первые два заключения он прервал путем дерзких и мастерских побегов. Второй, пятнадцатилетний, уже стареющий Черепков не досидел благодаря неимоверным усилиям бывшего своего сослуживца Николая Соколова. Тот поднял чуть не весь ветеранский корпус, собрал подписи в фантастическом количестве, и Черепкова выпустили на поруки совета ветеранов. С тех пор он завязал, поступил в театр Прикарпатского военного округа осветителем, где и проработал до пенсии. Николая Соколова считал своим благодетелем, боготворил, готов был за него в огонь и в воду.
Таким образом, добрались еще до одного благородного поступка старого разведчика. Пан Степан внимательно, растроганно кивая, выслушал, как друг Коля пожертвовал своей личной путевкой в пользу непутевого друга Вани. Пообещав держать услышанное в строжайшей тайне, пан Степан, уставший от возлияний, лег спать. Был он на самом деле трезв, как стеклышко, алкогольный блокатор, выпиваемый по таблетке с каждой рюмкой, избавил его от ненужных потерь времени на протрезвление. Он ждал только, пока не уснет старый уголовник. Но урке не спалось. Кряхтя, он ворочался, вставал, уходил, возвращался снова. И так чуть не до утра. Угомонился он, лишь когда рассвет заявил о себе в полную силу. Больной старик проспал до обеда. Проснувшись, он не обнаружил на соседней койке и следа своего молодого, богатого на водку и закусь соседа...
* * *
Ровно в восемь утра капитан Сосенко стучал в дверь бывшего уголовника Черепкова. Пан Моцар придумал прекрасный повод для неожиданного визита эсбэушного майора к отставному уголовнику. Генерал Комиссаров уже начал обзвон всех известных ему (все были известны) уголовников города. Высшему эшелону остатков мафии звонил сам, мелким сошкам звонили соответствующие чины. Преступному элементу вежливо предлагалось покинуть город сроком на две недели. Пока вежливо. До сих пор предложение СБУ воспринималось нормально. Бунтом не пахло.
Конечно, Черепков не был действующим вором, но багаж послевоенных лет, породивший не утихшие до сих пор в городе легенды, позволял обратиться к старику с подобным деловым предложением. «Сколько вы не досидели, пан Черепков? Целых восемь лет?! Ах, как вам повезло! Всего две недели вы проводите как можно дальше отсюда, и ваше дело снова отправляется пылиться в архив. Спрашиваете, куда вам податься на целых две недели? Трудный вопрос. Поищите ответ сами. Может быть, две недели где-нибудь в лесу все же будут для вас предпочтительнее, чем восемь лет на нарах? В вашем-то возрасте?»
Сосенко, правда, не надеялся обнаружить за дверью самого Черепкова. Он рассчитывал, что ему откроет сам «объект», Дед. Сосенко непринужденно сделает вид, что принимает Деда за старого урку. Сейчас важно было обнаружить Деда и приставить к нему надежное наблюдение, осуществленное молодыми, а потому резвыми сотрудниками областного СБУ.
За рассохшейся дверью стояла гробовая тишина. Даже часы не тикали. Сосенко постучал еще. Мертво. Он взялся за ручку и оттянул дверь от замка в сторону петель. Рассохшаяся обвязка немного, но сжалась, язычок выскользнул из паза, дверь открылась. Квартира была пуста. Было видно, что хозяин покинул ее пару дней назад. Часы отработали свой завод и встали. Там, где должна была лежать пыль, она лежала. В воздухе висел кислый запах дивана, пропитанного потом пьющего человека. Тухлым несло из невынесенного мусорного ведра. Старый разведчик снова оказался хитрее молодого контрразведчика.
* * *
Коньяк он больше нюхал, чем пил. Темная, тускло искрящаяся жидкость, как ей и положено, колыхалась на дне объемистого коньячного бокала. Терпкие пары будоражили мозг, редкие, раз в полчаса, глотки не давали мысли запутаться. Зато кофе выпивался залпом сразу после того, как свежеприготовленный напиток остывал настолько, чтоб не обжигать горло при потреблении маленькой чашечки одним злым, нервным глотком. Впрочем, на столе стояли только три чашечки, почти до половины заполненные успевшей слипнуться в вязкую массу гущей. Кофе он пил раз в час, но только наивысшей крепости. В пепельнице с неприятной живописностью скорчилась пригоршня недокуренных сигарет. Но ни одна из них не была прикончена и до половины. Первые затяжки холодного еще дыма, втянутые из свежеприкурепной сигареты, слегка оживляли ум, но как только сигарета становилась короче, а дым теплее, что-то немного мутило мысль, и он гасил окурок, немилосердно комкая его, уничтожая, делая непригодным для докуривания.
За окном светлело, кончалась и без того короткая июньская ночь. Николай Иванович впервые за сегодня докурил сигарету до конца, поболтав во рту, допил коньяк, встал с кресла, прошелся по комнате. Глаза его светились хитрецой. Он снял с кресла подушку-думочку, бросил ее на диван, поднял с пола уроненный еще в начале ночи плед, собрался прилечь. Помешал ему телефонный звонок. Дед насторожился. Кто бы это мог звонить Черепкову в такое время? Он подошел к аппарату и остановился в нерешительности. Телефон, отзвонив с минуту, затих. Николай Иванович снова поместился в старое, битое молью кресло, придвинул аппарат, вынул из пачки сигарету, но курить не стал. Просто мял ее ловкими пальцами, ждал, когда телефон зазвонит снова, и действительно, через четверть часа телефон вновь ожил. Дед выбросил из рук уже опустевшую сигаретную бумажку, смахнул с брюк высыпавшийся табак и ответил:
– Да, слушаю.
– Коля, это я, Иван.
– Да, понял. Слушаю.
– Коля, уходи срочно. Ко мне в палату подселили сегодня типа. Он все о тебе расспрашивал. Я ему все рассказал, как есть, все равно он до всего и так догадался. Так я, чтобы подозрений не навлечь, сам понимаешь... В любом случае тебя у меня искать будут. Он сейчас спит, только пьяный, трезвый – не пойму. Пили мы с ним как следует, только, кажется, не берет его. Он вроде какую-то дрянь жрал под каждую рюмку. Я вышел, как будто мне худо стало, а сам на пост и к телефону. Второй раз звоню. Ты спал?
– Нет.
– Я так и думал, что с первого раза не возьмешь. Так вот, я ему, конечно, не сказал, что ключ тебе оставил, но это, сам понимаешь, они раскусят. Так что сматывайся. Времени у тебя немного. Я сейчас в палату вернусь, лягу, мне придется притвориться, что уснул, что сморило, дескать, старика. Он, понятно, тут же вскочит и своим звонить. Если у него там толковые бойцы, то через тридцать минут жди гостей. Все понял, капитан?
– Все. Спасибо, Ваня.
– Тебе ли меня благодарить? – недовольно буркнул Черепков и, не дожидаясь ответной реплики, положил трубку.
* * *
Теперь Николай Иванович жалел, что допил коньяк и докурил сигарету. Полтора-два часа сна почти полностью восстановили бы силы его израненного тела. Но сон отменялся. Приходилось срочно бежать. Куда? Пока над этим он не задумывался. Для начала нужно было сбить противника со следа,, заморочить голову. Три минуты старик думал и тридцать работал. На исходе тридцать четвертой минуты, истекшей после сигнального звонка Черепкова, по безлюдному в этот ранний час рабочему кварталу старческой, но твердой походкой прочь от самого дряхлого дома в районе удалялся разведчик Николай Иванович Соколов, по-прежнему не считавший себя человеком в отставке.
* * *
Через два часа после Сосенко в квартире побывали еще трое. Сам пан Моцар, его друг и однокашник пан Степан и третий, кривошеий человек с взглядом мутных глаз, устремленным то ли в потолок, то ли внутрь страшных бездн своей души. Это был лучший в восточных странах эксперт-криминалист британской службы «ди-фо». В руках у страшного коротышки находился портфель с аппаратурой.
Было достоверно установлено, что объект «Дед» покинул свое убежище не более чем за час до прибытия туда капитана Сосенко. Покинул, совершенно очевидно, навсегда. Потому что он напрочь уничтожил все видимые следы своего пребывания. Даже догадался покрыть засаленной скатертью стол, с которого стер пыль. Причем стало ясно, что старик заранее был готов к отходу из этого логова. Он не заводил часов и не выносил мусора, предпочитая ночевать под вонь затухающих пищевых отходов. Выдали Деда оставленные им невидимые следы, как то: микроскопические крошки сигаретного табака, тогда как Черепков курил только папиросы; пары коньяка, тогда как Черепков пил только водку; наконец, отпечатки пальцев Деда.
Куда подался Дед на этот раз, достоверно установлено не было. Да что говорить, не было установлено вообще. Не существовало ни одной, даже самой бредовой версии. Умная голова пана Моцара отказывалась родить хоть такую.
* * *
Она полюбила его с первого взгляда. Его, красавца офицера, она, простая раздатчица в офицерской столовой. Претендовать на него Зоя не могла. Она была вся какая-то кривенькая, горбатенькая. Реденькие волосы обрамляли страшноватенькое личико с невыразительными глазами. А до войны она была прелестной девочкой. Но когда она с матерью эвакуировалась из Киева, окруженного фашистами, на их поезд налетели «мессеры». Бомба разорвалась совсем рядом с Зоей, как раз на том месте, где мгновение назад стояла ее мать, что-то крича своей дочери сквозь рев моторов и треск пулеметов. После этого Зою скрючило, волосы начали выпадать, а те, что остались, поседели. Левый глаз стал сильно косить, но не к носу, что, может быть, придало бы некоторую пикантность взгляду, а в сторону, так, чтобы любой взгляд на девочку вызывал у смотрящего отвращение...
В столовой появлялись офицеры и получше. Выше ростом, осанистей, красивей лицом, у некоторых и наград на щеголеватых френчах было побольше. Но Зоя полюбила не за красоту, награды и форс. Она полюбила его просто так. Может быть, потому, что он был единственным, кто не отворачивался от нее брезгливо, а казалось, не замечая ее убогости, охотно с ней болтал, даже шутил. Но где же ей было тягаться с роскошной полькой Региной, официанткой в той же столовой! Регина тоже была не дура, она сразу отличила относительно скромного капитана. Ее женский глаз не замылить было блеском орденов и знойными взглядами героев, так щедро ей отпускаемыми.
Зоя объяснилась с Николаем за день до его свадьбы с Региной. Она ни на что не претендовала, просто не в силах была держать свое чувство в себе.
– Эх, Зоя, Зоя, – грустно произнес Николай. – Раньше для таких, как ты, хоть монастыри были. А здесь, как ни крути, рано или поздно ты бы все равно в кого-нибудь да влюбилась бы. Забудь, девочка, обо мне, постарайся научиться быть счастливой сама по себе. А впрочем, может быть, и к тебе кто-нибудь когда-нибудь придет...
* * *
Но Зоя не забыла. Правда, она не была несчастна, но не была и одинока. На стене в ее квартире появился неизвестно как добытый большой фотопортрет Николая, который и был ее единственным другом более чем полвека. И еще Зоя знала, что к ней действительно когда-нибудь придет, но не кто-нибудь, а сам Николай. Поэтому каждый день готовился обед, на стол ставился графин самой очищенной водки, какую только производила эпоха, скатерть была бела и накрахмалена. На следующий день большая часть тщательно готовленных блюд отправлялась на помойку, а на вновь выкрахмаленную скатерть ставился свежий борщ, с пылу с жару пирожки, самая очищенная, какую только производила эпоха, водка.
И вроде бы город был небольшой, и на центральных улицах так тесно от знакомых, а Николай после свадьбы исчез, будто покинул вовсе здешние места. Но Зоя знала, что он во Львове. Над ней смеялись, когда она спрашивала, но она спрашивала и узнавала, что здесь он, рядом, и со спокойной душой шла домой готовить стол к приходу Николая.
Он не пришел к ней, даже когда умерла не успевшая состариться красавица Регина. Но и город он не покинул. Так что обеды готовились с тем же тщанием и всей возможной роскошью. И портрет одобрительно смотрел на накрытый стол и приказывал не отчаиваться. И отчаяние никогда не посещало ее.
Правда, в последнее время к приходу Николая готовились, а на следующий день отдавались соседке-нищенке блюда весьма скромные, хотя и съедающие всю без остатка пенсию Зои и ее ничтожные приработки по людям. Но скатерть была белоснежна и накрахмалена до хруста, и в графине бросала на эту белизну разбитый на спектр зайчик самая очищенная, какую только производила эпоха, водка...
Он появился утром, когда Зоя только начала свои ежедневные приготовления к его приходу.
Постарел. Господи, как же он постарел! О себе Зоя уже и не думала, себя она считала старухой с войны. Но это был он, и он был лучше, чем тогда, потому что он пришел.
– Это я, Зоя, – сказал Николай Иванович. – Здравствуй.
– Ой, Боженьки, – всплеснула руками старуха, – а у меня еще и не готово-то ничегошеньки!
Три раза в жизни на лице Николая Ивановича Соколова появлялись слезы. Впервые это было очень давно, когда его, тогда семилетнего мальчишку, пчела ужалила в висок. На всю жизнь запомнил Коля презрительный голос отца, объяснявший, что слезы – удел девок да баб, а семилетний мужчина может любое горе пережить и без них. И все же Николай плакал молча, когда хоронили Регину – любовь и жену. Выпроводил гостей, которые, поминая покойницу, нарезались, как это обычно и бывает на поминках, до неприличия, сидел один, пил, молчал, а слезы текли.
И в третий раз Николай Иванович почувствовал позорное пощипывание в носу, когда увидел свой портрет, довлеющий над комнатой горбатой старухи. Фотография не пожелтела – раз в пять лет Зоя Сергеевна носила ее к реставратору, и тот делал обновленную копию.
– Ждала?
– Ждала.
– Ну, вот я и пришел, – невесело усмехнулся капитан.
Он сидел за столом, покрытым белоснежной накрахмаленной скатертью, пил кристальную, высшей очистки водку и, поглядывая против своей воли на себя молодого форматом двадцать четыре на тридцать, боролся с пощипыванием в носу. Она хлопотала, он говорил.
– Не мог я раньше прийти к тебе, Зоя. Она понимающе кивнула.
– Я все улицы знал, по которым ты ходишь, и не ходил по ним. Нельзя нам было видеться, понимаешь?
Она понимающе кивнула.
– А теперь некуда мне стало идти, я и пришел. Надобно мне пересидеть недельку в таком месте, где никто меня и искать не станет.
Она снова кивнула. Она и не надеялась на целую неделю, она ждала его на час.
Он улыбнулся, стараясь не смотреть на предательскую стену, откуда смотрел на себя самого он сам – молодой, оправленный красивой дорогой рамкой.
– Я не уйду, Зоя, глупая ты девчонка.
* * *
Колокольню Катедрального (это правильное написание – Авт.) католического костела начали строить в Средневековье, когда в моде был стиль готический, а вот закончили только в восемнадцатом веке, когда в ходу было изысканное барокко. Так и получилось, что над готическим костелом врезается в небо витиеватый барочный шпиль. Но уж внутри храма полное ощущение глубокой европейской древности. Потускневшие от времени фрески едва различимы при тусклом, непраздничном освещении. Нет сегодня праздника и нет никого в храме. Часа через два ксендз начнет вечернюю службу, тогда и подтянутся немногочисленные львовские католики. А что здесь будет через неделю, когда вся католическая паства Украины соберется в городе для встречи понтифика! Да не только Украины. Ожидают паломников чуть не со всего мира. Шутка ли, папа впервые ступит на территорию разгромленного СССР! Ойтец Чеслав, молодой патер, с нетерпением ожидает радостного визита, а вот ойтец Тадеуш, шестидесятипятилетний ксендз, скорее нервничает: визиты начальства никогда и никому еще ничего хорошего не сулили. И не престарелый земляк по фамилии Войтыла его пугает, а, скорее, кардиналы из свиты, которых, будьте покойны, прибудет в избытке.
Между тем играет орган – кантор натаскивает молодого органиста. Посетителей всего двое, пожилая чета – женщина в черном, под вуалью, и ее муж, седой и строгий, – сосредоточенно молится на коленях у иконы Матки Боски, Божьей Матери.
Таким образом, еще одного посетителя никто не заметил, кроме ойтца Тадеуша. Это был пожилой, бедно, но аккуратно одетый мужчина. Он вошел со скромно опущенной головой, обмакнул пальцы в чашу со святой водой и перекрестился, а не стал сразу задирать голову, чтобы попытаться разглядеть древние фрески на высоких темных сводах. Сразу было видно, что это не праздный турист, а благоверный католик. Ступая бесшумно, чтоб не нарушить торжественности храмовой тишины, которую не разрывал даже орган, выводивший что-то негромко-печальное, старик направился к иконе Божьей Матери – очевидно было, что ему прекрасно известно, где в католических храмах обычно расположена такая икона. Ойтец Тадеуш, ревниво относящийся к каждому незнакомому посетителю, так как в каждом подозревал невежественного туриста, норовящего шляться по святыне в шляпе или устраивать экскурсионное мероприятие чуть не во время обедни, и нервно ожидающий наплыва кощунников, желающих поглазеть на папу, сразу расположился к незнакомцу. Он приблизился и спросил по-польски:
– Что пану угодно?
Старик сложил руки для благословения и, получив оное, ответил:
– Я зашел помолиться в главный храм всех католиков, живущих на восточных землях.
Он говорил по-польски, но с небольшим акцентом, кажется, русским. Ойтец Тадеуш было насторожился, но старик тут же рассеял его подозрения:
– Я приехал из Москвы, моя семья живет там уже больше ста лет. Редко даже удается поговорить с кем-нибудь на родном языке. Захотелось мне перед смертью все же увидеть самого папу, вот и приехал. И... вы не исповедуете меня, ойтец...
– Ойтец Тадеуш.
– Да, ойтец Тадеуш, я хоть и исповедовался перед отъездом, но боюсь, успел нагрешить в дороге...
Ойтец Тадеуш даже улыбнулся, что случалось с ним нечасто – хорошо было бы, если в все паломники были такие же скромные, интеллигентные и благочестивые, как этот старик. Тогда можно было бы не переживать, что кто-нибудь будет творить непотребное в костеле.
Они прошли в исповедальню, священник скрылся в кабинке, закрыл дверцы и привычно склонился к крупной решетке из красного дерева. Старик занял место по левую руку от ксендза, преклонил колени на специальную ступеньку, и исповедь началась.
Ну какие могут быть грехи у престарелого человека, который не утратил веру отцов! Ну, поругался в поезде с соседкой по купе, ну, начитался в дороге светских газет со скоромными текстами, такими, что плевался потом полдня, ну, неаккуратно, по его мнению, совершил в дороге утреннюю молитву. Все. Одна радость исповедовать таких старичков, не начинает болеть голова от набора страстей и пороков, присущих человеку нового поколения. Разумеется, ойтец Тадеуш тут же отпустил все грехи исповеднику и посоветовал купить недорогую индульгенцию, надо только дождаться, пока подойдет служка, торгующий в церковной лавке, тогда можно будет не исповедоваться на папской обедне, а сразу идти к причастию, а то, безусловно, в исповедальню будет страшная очередь. Старик выразил удовольствие в том, что Святая церковь возродила древний и полезный обычай: положил индульгенцию дома за образ Матки Боски и спишь спокойно – на неделю, а то на месяц вперед все грехи отпущены.