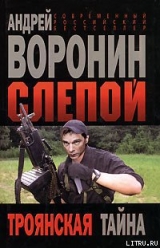
Текст книги "Троянская тайна"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Андрей Воронин
Троянская тайна
Глава 1
Профессор Андронов возбужденно прошелся из угла в угол обширного, заставленного тяжелой антикварной мебелью кабинета, стены которого наряду с массивными книжными полками украшали со вкусом подобранные живописные полотна старинных мастеров. Человек несведущий в живописи и не имеющий чести быть знакомым с профессором Андроновым легко мог принять развешанные по всей огромной профессорской квартире картины за более или менее умело сделанные копии, а то и за репродукции. Таких казусов, впрочем, история не знала по той простой причине, что в квартиру профессора Андронова случайные люди не попадали. Разумеется, здесь, как и в любой другой квартире, время от времени появлялись посторонние – водопроводчик, электрик, представители горгаза и энергонадзора, почтальон и даже участковый милиционер. Однако любой из них, приходя сюда, уже заранее знал, с кем имеет дело, – знал, в частности, что Константин Ильич Андронов является не только доктором искусствоведения и почетным членом Российской академии художеств, но и обладателем пусть не самой обширной и богатой, но зато наиболее тщательно и со вкусом подобранной коллекции живописных произведений в Петербурге, а может быть, и во всей России.
Профессор Андронов выглядел намного моложе своих восьмидесяти пяти лет – невысокий, сухопарый, энергичный, с артистической седой шевелюрой и узким лицом, резкие черты которого не могли смягчить ни возраст, ни седые, подстриженные щеточкой английские усики, топорщившиеся над верхней губой. Сейчас это одухотворенное лицо выдавало крайнюю степень возбуждения, что с учетом обстоятельств было совсем не удивительно.
Остановившись у окна спиной к посетителю, профессор нервным жестом взъерошил волосы надо лбом. Когда он это сделал, стало видно, что правая рука у него действует плохо, а ее пальцы почти не сгибаются. В самом начале сорок второго выпускник факультета станковой живописи Ленинградской художественной академии Андронов добровольцем ушел на фронт, а в декабре сорок четвертого осколок немецкой гранаты повредил ему руку, поставив на карьере подававшего большие надежды живописца жирный крест. Когда демобилизованный по состоянию здоровья Константин Ильич летом сорок пятого вернулся в Ленинград и разыскал своего чудом пережившего блокаду учителя, знаменитого профессора Бекешина, старик, увидев его руку, не удержался от слез.
Конечно, живописец – не пианист и не скрипач; Андронов разрабатывал покалеченную руку, пробовал писать левой, и не без успеха, но все это было, увы, не то. В написанных им после войны работах чего-то не хватало – может быть, легкости полета, а может, и чего-то другого, куда более важного, как будто тот зазубренный кусочек немецкого железа перебил не только мышцы и сухожилия, но и какой-то неизвестный науке нерв, отвечающий за способность творить, создавать образы.
Впрочем, потеряв в лице Константина Ильича талантливого художника, Россия приобрела блестящего искусствоведа – возможно, куда более блестящего, чем живописец, которым Андронов мог бы со временем стать.
Резко отвернувшись от окна, за которым шумел Невский, Константин Ильич вернулся к столу и снова склонился над лежавшим на темной дубовой столешнице холстом. Он схватил покалеченной рукой сильную лупу, но тут же отшвырнул ее в сторону – все было прекрасно видно и без лупы.
– Бог ты мой! – воскликнул он, разглядывая холст, и в его взгляде сверкал восторг горячего поклонника и почитателя, а вовсе не холодное внимание эксперта. – Никаких сомнений, это его рука.
– Ну, а я что говорил? – заметил посетитель с едва заметной снисходительной улыбкой.
Профессор бросил в его сторону быстрый рассеянный взгляд, снова поразившись тому, насколько дико и неуместно выглядит этот человек на фоне картин и старинной мебели. Вот он-то как раз и был здесь случайным и посторонним; строго говоря, делать ему здесь было нечего, и, если бы не рекомендация человека, которому Константин Ильич безоговорочно доверял, этому странному типу ни за что не удалось бы переступить порог профессорской квартиры.
– Я уверен, что эта вещь до сих пор нигде не выставлялась, – продолжал Андронов, отмахнувшись от неуместного замечания гостя. – Это и впрямь поразительно! Неизвестный этюд, и такое состояние...
– Состояние отличное, – хрипловато подтвердил посетитель, вертя в руках пачку дорогих сигарет. Видно было, что ему до смерти хочется закурить.
– Курите, пожалуйста, – заметив это, разрешил профессор и подвинул ближе к гостю массивную бронзовую пепельницу.
Гость встрепенулся, будто только теперь обнаружив у себя в руках посторонний предмет, и засунул пачку в карман пиджака.
– Простите, – сказал он, – это я машинально. Курить бросил, а сигареты с собой таскаю просто так – знакомых угощать, ну, и для силы воли, значит...
Константин Ильич наклонил голову и внимательно посмотрел на гостя поверх оправы очков. Сам он не курил уже добрых тридцать лет и запах табачного дыма улавливал за версту. От посетителя, помимо всего прочего, пахло именно табачным дымом, и пахло крепко – не так, как пахнет, скажем, от человека, который провел несколько минут в прокуренном помещении. Руки он теперь держал на коленях, правую поверх левой; средний и указательный пальцы были желтовато-коричневыми как раз там, где обычно помещается зажженная сигарета. Перехватив взгляд Константина Ильича, гость как бы невзначай поменял руки местами, нисколько при этом не смутившись. Он лгал, не особенно скрывая, что лжет, и это очень не понравилось профессору. Право слово, если бы не рекомендации...
Впрочем, он немедленно забыл о странном поведении гостя, вновь переключив свое внимание на холст. Этюд был подлинный, бесспорно, но вот его состояние...
– Состояние отличное, – повторил гость, скрещивая руки на груди и закидывая ногу на ногу, как будто разрешение курить означало приглашение быть как дома. – Прямо как из магазина. Будете брать?
Андронов поморщился: он не привык, чтобы о живописных полотнах говорили, как о подержанных автомобилях. Личность гостя с каждой минутой казалась ему все более странной и подозрительной. Да и состояние холста...
– Состояние, – задумчиво проговорил Андронов, по привычке ероша волосы. – Должен вам сказать, молодой человек, что состояние этюда мне, мягко говоря, не нравится.
– А в чем, собственно, дело? – слегка ощетинился посетитель. – Вы же сами говорите – подлинник, нигде не выставлялся, настоящий раритет... Что вам не нравится? Вы посмотрите, ведь ни единой трещинки!
Константин Ильич подавил вздох.
– Молодой человек, – сказал он терпеливо, – ведь вы, как я вижу, довольно далеки от живописи, не так ли?
Гость растянул бескровные губы в улыбке, не затронувшей его глаз и оттого больше напоминавшей гримасу.
– Шила в мешке не утаишь, – сказал он. – Да я ведь и не скрываю. Все равно вас на мякине не проведешь, так зачем пробовать?
Профессор не стал напоминать гостю о его неумелой лжи по поводу сигарет – лжи, которая по-прежнему беспокоила его, как беспокоит человека любое явление, не поддающееся логическому объяснению. Посетитель был не просто курящим, он относился к разряду заядлых курильщиков, и курить ему хотелось весьма и весьма. Но он почему-то предпочел воздержаться от курения, сказав первое, что пришло на ум. Почему? Боялся, что табачный дым как-то повредит картинам? По нему не скажешь... А может, боялся он чего-то другого? Например, оставить в пепельнице окурок... И руки он, между прочим, держит где угодно, но только не на дубовых подлокотниках кресла. Не хочет оставлять отпечатки пальцев?
"Паранойя – верный друг коллекционера", – будто наяву услышал он насмешливый голос дочери и снова, уже в который раз, напомнил себе, что гость пришел сюда не с улицы, а по рекомендации, заслуживающей всемерного доверия. А странности... Да не бывает никаких странностей! Бывают простые отклонения от общепринятых, усредненных норм поведения, каковые нормы суть лишенная смысла попытка причесать всех под одну гребенку и привести к общему знаменателю... Токарь-карусельщик с завода имени Кирова наверняка найдет множество странностей в поведении пожилого профессора-искусствоведа, а профессору, в свою очередь, покажется странным словарный запас слесаря-сантехника и его неумение правильно пользоваться ножом и вилкой. Так что странности в поведении – чепуха на постном масле. Но вот странное состояние этюда – дело другое, тут профессора Андронова, как верно подметил гость, на мякине не проведешь.
– Ну, так как? – спросил гость, меняя местами перекрещенные ноги. – Будете брать?
– Возможно, – рассеянно откликнулся Константин Ильич. – Но сначала скажите мне, если не секрет, откуда у вас этот этюд? Каково его происхождение?
– Нормальное происхождение, – спокойно и даже лениво, словно речь шла о мелочи, недостойной упоминания, ответил продавец. – Самое что ни на есть законное происхождение. По наследству достался. От бабушки.
– Вот это как раз и кажется мне сомнительным, – сказал профессор. – Вы уж не взыщите, но я человек прямой и привык называть вещи своими именами.
В голосе его отчетливо прозвучали металлические нотки, гладко выбритый подбородок вздернулся так, что стариковские складки на шее почти разгладились, но все это не произвело на гостя видимого впечатления.
– А что такое? – с ленцой удивился он. – Я в самом деле в этой вашей живописи ничего не смыслю, я больше по технической части – машины там и всякое такое... Вы объясните толком, что с этой картиной не так, мне ваших намеков все равно и за сто лет не понять. Нет, правда, – добавил он почти просительно после долгой паузы, в течение которой Андронов испытующе разглядывал его поверх очков, – в самом деле! Честное слово, я сейчас как та неграмотная бабка, которая раз в жизни заимела сто долларов, пошла их менять, а они липовые... Что не в порядке-то? Картина настоящая?
– Подлинная, – вздохнул Андронов и указательным пальцем подтолкнул очки кверху, водворив их на переносицу. – Но! Видите ли, друг мой, существует такой зверь, технологией живописи называется... Так вот, чтобы написать на холсте картину или, как в нашем с вами случае, этюд, требуется прежде всего натянуть этот самый холст на деревянный подрамник и закрепить его с помощью гвоздей или, скажем, кнопок... Вы улавливаете ход моей мысли?
– Секу помаленьку, – бодро ответил гость. – Бабка моя, царствие ей небесное, вышивать любила прямо-таки до смерти. Так она всегда тряпочку на пяльцы натягивала. Это ведь то же самое, верно? Только пяльцы круглые и без гвоздей...
– Совершенно верно! – обрадовался профессор, помимо собственной воли беря привычный тон преподавателя, дающего урок туповатому, но добросовестному студенту. Протянув здоровую руку, он снял со стены миниатюрный пейзажик и перевернул его, демонстрируя гостю обратную сторону. – Видите? Края холста, завернутые на подрамник, остались чистыми. Краска на них отсутствует, зато, если удалить гвозди, останутся, сами понимаете, дырочки... Так вот, теперь попытайтесь представить себе, как будет выглядеть данный пейзаж, если его аккуратно, бережно вынуть из рамы и снять с подрамника. Представили? А сейчас сравните с тем, что вы мне принесли.
Гость вытянул шею, пытаясь разглядеть лежавший на столе этюд, а потом встал из кресла и склонился над столом.
– Да, – сказал он наконец, – разница налицо. Ни чистых краев, ни дырок... Ну, и что это меняет? Погодите-ка, – добавил он с изумлением, вглядевшись в лицо профессора, – вы что же, хотите сказать...
– Вот именно, молодой человек, – сухо подтвердил Константин Ильич. – Я хочу сказать, что картины выглядят подобным образом только в одном случае, а именно когда их варварски вырезают прямо из рамы, опасаясь быть застигнутыми на месте преступления. Этюд, несомненно, похищен, а поскольку он не значится ни в одном каталоге, я могу предположить, что похищен он из неизвестной мне частной коллекции. Отсюда вопрос: как он вам достался?
– Ха! – воскликнул гость, слегка обескураженный, но, казалось, ничуть не напуганный таким неожиданным поворотом разговора. – Так вот оно что! То-то я смотрю, что вы все ходите вокруг да около... Профессор, на самом-то деле все гораздо проще!
– Вот как? – с прежней сухостью вежливо удивился профессор.
– Ну конечно! Это же я сам, своими собственными руками... Вот дурак-то! Извините, профессор, это я не вас, это я себя имею в виду... Понимаете, разбирал бабушкино наследство – помните, я вам про бабушку-покойницу говорил? – и нашел на антресолях эту самую картинку. Смотрю, лохмотья какие-то по бокам, дырки... Некрасиво, в общем. Ну, взял ножницы и подровнял...
Профессор Андронов не поверил собственным ушам. Гость молол какую-то ахинею, хотя одет был вполне прилично, даже щеголевато, и идиотом вовсе не выглядел. На какое-то мгновение Константину Ильичу даже почудилось, что над ним попросту издеваются. На каждый заданный им вопрос у гостя немедленно находился ответ, и каждый следующий ответ был глупее предыдущего, как будто странный визитер не счел нужным заранее придумать более или менее правдоподобную легенду и сейчас нес что в голову взбредет, нимало не заботясь о том, поверят ему или нет.
"Впрочем, – напомнил он себе, – одинаковых людей не бывает. Что с того, что прилично одет? В наше время прилично одеться может любой жулик, любой бандит и вообще кто угодно. Человек, может быть, за всю жизнь не осилил и пары приличных книг, ни разу не переступал порога музея или художественной галереи, так откуда ему знать, что можно делать с картинами и чего нельзя? Можно даже допустить, что он не любит смотреть телевизор и не видел всех этих глупых фильмов, где лихие похитители в два счета вырезают из рам бесценные шедевры остро отточенным складным ножом... Зато о том, что старая картина может дорого стоить, ему слышать доводилось. Вот он и нашел знающего человека, который связал его со мной... Дурацкая, однако, история!"
– Странная история, – сказал он вслух. – И, уж вы меня извините, не очень правдоподобная. Я с большим уважением отношусь к человеку, который вас рекомендовал, и только это удерживает меня от звонка в милицию. Да и то, знаете ли...
– А вы позвоните, – обиделся гость. – Позвоните-позвоните, кто вам не дает? Пусть проверят, значится такая картина в угоне... то есть, я хотел сказать, в розыске, или не значится... Короче, профессор, времени у меня в обрез. Берете или нет?
Андронов задумчиво пожевал верхнюю губу, вздохнул и покачал головой.
– У меня принцип, – сказал он, – никогда не приобретать картин с сомнительным происхождением, не говоря уж о картинах краденых. Так мне, знаете ли, спокойнее, да и совесть чиста. Никоим образом не желая вас обидеть, я вынужден тем не менее отказаться.
– Без обид, – уверил его гость. – Предложу кому-нибудь другому. В конце концов, задвину какому-нибудь фирмачу, они от русской старины просто с ума сходят, любые бабки отвалить готовы.
– Минуточку, минуточку! – забеспокоился профессор. – Что значит "фирмачу"? Вы имеете в виду иностранца?
– Ну, натурально, кого ж еще-то?
– Ну нет, этого я вам не позволю! Не надо торопиться, молодой человек. Неужели вы не понимаете, что это наше культурное наследие? Допустим, вы от этого далеки, но поверьте мне на слово, нельзя этого делать! Вам все это не нужно, но откуда вы знаете, вдруг вашим внукам понадобится?
– Внуки, Константин Ильич, это теория, – возразил гость, делая шаг к столу с явным намерением забрать холст. – А недостаток финансовых средств – практика. Суровая, так сказать, действительность. Так, говорите, картина подлинная?
– Подлинная, подлинная, – взволнованно ответил профессор, загораживая собой стол. – Да постойте же! Я ведь не предлагаю вам оставить ее себе на вечное хранение! Сейчас я свяжусь с музеями, узнаю, кто может вам больше заплатить...
– Ну откуда у музеев такие бабки? – пренебрежительно произнес гость и потянулся к столу. – Дайте-ка...
Он отодвинул профессора локтем – небрежно, как очутившийся на дороге неодушевленный предмет, и взялся за уголок холста. Доктор искусствоведения Андронов давно отвык от подобного обращения и растерялся от неожиданности. Впрочем, он быстро оправился – дал себя знать характер, когда-то погнавший подающего надежды художника в окопы.
– Да как вы смеете?! – вспылил Константин Ильич. – Что вы себе позволяете?!
– А что я себе позволяю? – ненатурально изумился гость, деловито и небрежно сворачивая бесценный холст в трубку, как какой-нибудь плакат с фотографией звезды шоу-бизнеса. – Картина моя, так? Захочу – продам, захочу – в сортире повешу, а захочу – так и вовсе с кашей съем. Личная собственность, понял? Ну и отвали, старик, припарил уже!
– Что?! – опешил Андронов.
– Достал, говорю, придурок, – с ленивой наглостью опытного гопника, обирающего в темной подворотне беззащитную жертву, ответил посетитель.
Он менялся прямо на глазах, с явным облегчением сбрасывая с себя опостылевшую маску робкой вежливости, но ослепленный внезапно вспыхнувшим гневом профессор этого не замечал.
– Ах ты мерзавец! – выкрикнул он, неожиданно сорвавшись на фальцет. – Да я тебе сейчас всю морду побью!
С ним случился один из тех редких припадков безудержного гнева, которых так боялись многочисленные поколения студентов. Многие из них стали маститыми живописцами и искусствоведами отчасти благодаря этим вспышкам, во время которых Константин Ильич превращался в громовержца. Увы, в данный момент перед профессором Андроновым стоял вовсе не студент; честно говоря, позой и в особенности выражением лица посетитель сейчас больше всего напоминал профессионального костолома, остановившегося на пороге сырого застенка и прикидывающего, с чего ему начать – с дыбы или с иголок под ногти?
По-прежнему не замечая приключившейся с посетителем жутковатой метаморфозы, Константин Ильич замахнулся левой, здоровой рукой, намереваясь отвесить зарвавшемуся юнцу пощечину. То обстоятельство, что "юнцу" было никак не меньше сорока и что он был гораздо выше, массивнее и сильнее, профессора в данный момент ничуть не беспокоило. Он и не собирался мериться с наглецом силой; пощечина, которой он хотел наградить грубияна, была актом символическим, призванным выразить крайнюю степень владевшего Константином Ильичом раздражения. Любому нормальному человеку – нормальному, разумеется, в понимании профессора Андронова – этого хватило бы вполне. Другое дело, что ни один нормальный, в понимании посетителя, человек не позволил бы дышащему на ладан старикашке, да еще и калеке, хлестать почем зря себя по физиономии.
Это прискорбное несовпадение понятий о том, "что такое хорошо, и что такое плохо", привело к еще более прискорбному, но вполне закономерному и предсказуемому итогу. Держа свернутый холст в левой руке, посетитель небрежно и вроде бы даже неторопливо выбросил перед собой правую, но не ударил, а всего лишь взял лицо Константина Ильича в горсть и отодвинул профессора от себя на расстояние вытянутой руки. Толстые, как сардельки, и крепкие, как железо, пальцы, подобно когтям хищной птицы, глубоко вонзились в дряблую старческую кожу. Очки профессора сбились на сторону, открыв округлившиеся от ужаса и недоумения глаза; Константин Ильич нечленораздельно замычал в зажимавшую ему рот ладонь, безуспешно пытаясь оторвать ее от лица.
Посетитель помедлил секунду, как игрок в регби, примеривающийся, в какую сторону послать мяч, а затем с огромной силой толкнул голову профессора Андронова от себя, совершенно так же, как спортсмен на стадионе толкает ядро.
Расчет оказался верным, и в конечной точке короткой траектории затылок профессора вошел в соприкосновение с углом мраморной каминной полки. Раздался неприятный треск, как будто кто-то уронил на пол страусиное яйцо, и тело профессора Андронова с глухим шумом упало на пол. По светлому паркету начало расплываться влажное пятно, цветом напоминавшее вишневый сироп.
Стоявшие на каминной полке антикварные безделушки даже не шелохнулись.
– Умели строить в старину, – одобрительно заметил убийца, брезгливо вытер ладонь о штанину и, перешагнув через распростертый у камина труп, неторопливо покинул квартиру, унося под мышкой бесценный этюд, ставший причиной гибели профессора Андронова.
* * *
Глеб Сиверов остановил машину в тенистом дворе старой, хрущевских времен, пятиэтажки, обреченной, если верить средствам массовой информации и правительству Москвы, на снос в течение ближайшего года. Заглушив двигатель, он повернулся к сидевшей справа от него женщине, которая бог весть почему выглядела насмерть перепуганной, как будто догадывалась, что будет дальше.
Никаких особенных, из ряда вон выходящих событий им обоим не предстояло, и бояться этой почтенной даме было ровным счетом нечего – уж ей-то, во всяком случае, ничто не грозило. Конечно, тащить ее сюда было в высшей степени непрофессионально, но, с другой стороны, обойтись без нее Сиверов не мог. Один раз уже обошелся, хватит...
Он преодолел желание поморщиться, потому что сидевшая рядом полная, некрасивая, безвкусно одетая и еще более безвкусно накрашенная провинциальная тетка могла принять его гримасу на свой счет и вконец расклеиться. "Эксперт, – с горечью подумал Слепой, разглядывая свою пассажирку сквозь темные стекла очков. – Даже два эксперта, один другого лучше... Ну, а что прикажете делать? Еще один такой фортель, и это будет уже не работа, а настоящий водевиль".
– Вот что, Вера Григорьевна, – мягко сказал он. – Вы, пожалуйста, посидите здесь минут десять-пятнадцать, хорошо? Только, я вас прошу, оставайтесь в машине. Договорились?
– Да, конечно, – поспешно согласилась тетка и немедленно встревожилась: – А...
– Все будет в полном порядке, я вам обещаю, – все так же мягко заверил ее Глеб.
– Да, конечно, – покорно повторила тетка, и в ее голосе Сиверову почудился укор.
"Да, конечно, – не без яду подумал он, перегибаясь через спинку и беря с заднего сиденья хрустящий прямоугольный пакет из переклеенной скотче м оберточной бумаги. – В прошлый раз, помнится, я тоже обещал, что все будет в полном порядке. О-хо-хо... Уж если мне помнится, то и ей, надо полагать, не забылось..."
Держась одной рукой за дверную ручку, Глеб взвесил в другой пакет. Сквозь бумагу прощупывались деревянные рейки и гипсовые завитушки.
– Вера Григорьевна, а вы уверены?.. – спросил он на всякий случай.
– О чем вы говорите! Разве можно перепутать?! В голосе пассажирки прорезались визгливые базарные нотки, и Глеб понял, что она на пределе.
По всей видимости, ей представлялось, что, следуя своему служебному долгу, она героически (и бесплатно, кстати!) участвует в опасной авантюре со стрельбой, автомобильными погонями и беготней по крышам. Сиверов представил себе Веру Григорьевну бегущей по громыхающей, скользкой жестяной крыше, и ему стало жаль обеих – и Веру Григорьевну, и крышу.
– Перепутать, как видите, несложно, – с виноватой улыбкой сказал он. – Именно поэтому вы здесь. Вы уж извините, что так вышло. Не беспокойтесь, прошу вас, все будет хорошо.
Стремясь поскорее закончить этот ненужный, тягостный разговор, он поспешно выбрался из машины и захлопнул дверцу. Мягкий щелчок замка обрубил очередной вопрос, который, похоже, намеревалась задать Вера Григорьевна. Глеб поправил на переносице темные очки и зашагал через буйно зеленеющий двор к соседнему дому. Пакет он небрежно держал в левой руке за угол, помахивая им на ходу, – невелика ценность.
Без дурацких, вызывающе ярких тряпок он чувствовал себя на удивление хорошо. Еще лучше было без идиотской "голливудской" улыбки, от которой уже через пять минут начинало сводить мускулы лица, и кретинического, с ярко выраженным американским акцентом лепета, которым во время последней встречи с Самокатом Глебу пришлось заменять нормальную человеческую речь. Словом, выйдя наконец из роли, Сиверов чувствовал себя превосходно. Если бы еще не эта новая работа... Федор Филиппович, конечно, был прав, когда говорил, что нельзя до самой старости охотиться на людей, но можно же было, черт подери, найти какую-то другую альтернативу! Нельзя же, ей-богу, так резко все менять! С таким же успехом генерал Потапчук мог посадить своего лучшего агента в бухгалтерию вылавливать ошибки и исправления в финансовой отчетности...
Остановившись в тени старых, заслонивших небо и поднявшихся до четвертого этажа лип, под прикрытием каких-то кустов – тоже старых, корявых, до неприличия разросшихся, – он внимательно осмотрел подъездную дорожку. Неприметная серая "девятка" была тут как тут. Тонированные, да вдобавок еще и густо запыленные стекла мешали рассмотреть, есть ли кто-нибудь в салоне, но стекло передней двери со стороны водителя было опущено на палец, и из темной щели время от времени вытекали, тут же растворяясь в воздухе, струйки табачного дыма. Слепой вынул мобильник, набрал номер генерала.
– Вышел на цель, – сообщил он, когда Федор Филиппович снял трубку. – Убирайте наружку, ни к чему им на меня пялиться.
– Сей момент, – ответил Потапчук, и в его голосе без труда улавливались юмористические нотки. – Ты там смотри в оба... эксперт-искусствовед. Если опять сядешь в лужу, нас с тобой обоих в участковые переведут.
Глеб проигнорировал этот ценный совет, попросту прервав соединение. Он был зол на Федора Филипповича, и это, между прочим, означало, что генерал прав: пора менять специальность, старость крадется, нервишки шалят, а вот уже и самолюбие взыграло... Тьфу!
Серая "девятка" громко, на весь двор, заквохтала стартером, прямо как железная курица, вознамерившаяся снести бронированное яйцо размером с баскетбольный мяч. Глеб из своего укрытия с интересом наблюдал за сложным процессом запуска двигателя, почти ожидая, что из выхлопной трубы вот-вот действительно что-нибудь вывалится. Впрочем, дело ограничилось всего-навсего звучным хлопком и кубометром густого сизого дыма, после чего машина дико взревела на холостом ходу и, сбросив обороты, наконец-то тронулась с места.
Убедившись, что автомобиль наружного наблюдения благополучно докатился до угла и без приключений одолел поворот, Глеб покинул свое ненадежное укрытие и спокойной деловой походкой приблизился к подъезду. Лифта здесь, естественно, не было, черного хода и подавно, так что сбежать Самокат не мог. Его нынешняя подруга, Нинка Зайцева по кличке Кролик Роджер, проживала на пятом этаже, и необходимость пешком карабкаться на самый верх с лихвой окупалась тем, что сигануть в окно Самокат не мог тоже – жидковат он был для таких трюков, да и к здоровью своему относился бережно.
Все это вселяло в Глеба бодрость духа и уверенность в себе. После того номера, что выкинул Самокат во время их предыдущей встречи, Сиверову требовалась как раз такая обстановка – уют, интим и полное отсутствие запасных выходов. Самокат, похоже, был уверен, что дело у него выгорело в наилучшем виде, и потому ограничил меры предосторожности тем, что затаился в квартире Кролика Роджера. Это была ошибка, и Глеб явился сюда как раз затем, чтобы указать на нее Самокату. Ну, и еще кое за чем, естественно...
Звонить в дверь пришлось долго: сожительница Самоката в данный момент была на работе, а сам герой дня, надо полагать, спал после вчерашнего возлияния. Глеб терпеливо стоял на вытертом коврике под дверью и давил на кнопку звонка, вслушиваясь в доносившиеся из-за двери электронные трели. Наконец в прихожей послышались неторопливые шаркающие шаги, и хриплый голос произнес с подвыванием, которое свидетельствовало о безудержной зевоте:
– Ну, хорош трезвонить, шалава... Да слышу, сказано тебе! Опять нажралась, собака...
Глеб убрал палец, электронное дзыньканье и бряканье смолкло, замок щелкнул, и дверь открылась. Сиверов шагнул через порог и для начала коротко и точно ударил стоявшего в полутемной прихожей Самоката кулаком в солнечное сплетение. Самокат охнул и сложился пополам, и тогда Сиверов, обеими руками приподняв над головой упакованную в оберточную бумагу картину (гордость провинциального краеведческого музея, одна из ранних работ самого Куинджи!), стремительно опустил ее на лысую, слегка замаскированную свалявшимися кудрями макушку Шуры Самоката.








