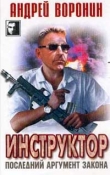Текст книги "Проводник смерти"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Глава 3
Ровно за два с половиной месяца до состоявшихся на Ваганьковском кладбище умеренно пышных похорон Антонины Андреевны Снеговой, организованных ее друзьями и поклонниками, среди которых встречались весьма высокопоставленные персоны, егерь Завидовского заповедника Федор Григорьевич Нефедов вышел из дома ни свет ни заря.
Солнце еще не взошло, но небо над верхушками леса уже посветлело, и в сереньком предутреннем свете Федор Григорьевич без труда различил надворные постройки, изгородь из ошкуренных сосновых жердей и высокую деревянную раму с развешанным для просушки сеном. Бренча карабином ошейника, к нему подбежал бестолковый и добродушный дворовый пес Бубен, которого Нефедов кормил исключительно из жалости, поскольку проку в хозяйстве от Бубна было как с козла молока. Федор Григорьевич похлопал пса по лопоухой голове и оттолкнул в сторону – он не любил телячьих нежностей. Дурак Бубен, как всегда, решил, что с ним играют, боком скакнул в сторону, замотал хвостом и радостно гавкнул.
– Тихо ты, дурак, – прикрикнул на него Нефедов. – Я те гавкну!
Стоя на крыльце, он неторопливо продул беломорину, хорошенько размял ее, еще раз продул, особым образом сплющил мундштук и, соблюдя, наконец, все тонкости ритуала, закурил.
Синеватый дымок без следа растаял в чистом, как горный хрусталь, насыщенном кислородом и запахами леса утреннем воздухе. Федор Григорьевич спустился с крыльца и напрямик пошел к сараю, оставляя в сизой от холодной августовской росы траве двойной темный след.
Лес еще молчал – роса в конце августа и вправду холодна, и птицы не торопятся покидать нагретые за ночь гнезда. Нефедов поймал себя на том, что сравнивает тишину спящего леса с тишиной пустого храма, в котором вот-вот начнется служба, и скептически усмехнулся: говоря по совести, в церкви он не был лет с десяти и никогда не отличался набожностью, так что пришедшее ему на ум сравнение было, пожалуй, довольно странным.
«А ничего странного, – подумал Федор Григорьевич, с натугой отворяя осевшие ворота сарая. – Где ж еще богу молиться, как не в лесу? Неужто в нашей церкви?
Так ведь бог, ежели он есть, в сторону нашей церкви и не смотрит. А чего смотреть? Как ни глянешь, а там отец Геннадий перед старухами распинается, рассуждает о вреде алкоголя, а сам на ногах еле стоит. Даром, что ли, у него в позапрошлом году курятник от молнии сгорел? Видно, кончилось терпение у небесного начальства, да в последний момент рука дрогнула, и вместо попа куры погорели. А лес – он чистый, и человек в нем чище становится. Правда, не всякий.»
Выводя из сарая своего мерина-трехлетку, Федор Григорьевич слегка нахмурился. В последнее время что-то очень уж много развелось людей, которым было глубоко плевать, в храме они, в лесу или у себя в нужнике.
Вот и сегодня из-за этих городских ухарей вместо рутинного обхода участка ему предстояла чуть ли не боевая операция. Разбираться с браконьерами и прочими нарушителями Федор Григорьевич не любил, и вовсе не потому, что боялся нарваться на заряд картечи. Боялся он совсем другого: не удержаться и в одночасье взять грех на душу. Встречались ему такие люди, которые словно просили, чтобы их пристрелили, не сходя с места, и сдержаться пожилому егерю стоило больших усилий.
Мерин был молодой, с норовом, и, седлая его, Федор Григорьевич изрядно намучился.
– Да стой ты, зараза лупошарая, – сердито приговаривал он, затягивая ременную подпругу. – Стой, говорю, спокойно, волчья сыть, травяной мешок.
Подобрав мокрые от росы полы линялого брезентового дождевика, он одним махом, как молодой, поднялся в седло и поправил за спиной старенькую тульскую двустволку. Вчера вечером из деревни прибегал внучонок бабки Козлихи и сказал, что в излучине Лоби, километрах в пяти от Зинцово, разбил лагерь какой-то городской на машине. Известно, зачем городские становятся лагерем на берегу лесной реки в самом, можно сказать, сердце Завидовского заповедника. Динамит – это, конечно, вряд ли, но вот сети при них есть наверняка, а то и того чище – электроудочка. Федор Григорьевич покачал головой: это ж надо было до такого додуматься!
Строго говоря, сети и электроудочки его не касались, это была вотчина рыбнадзора, но где сети, там вполне может обнаружиться и ружьецо, а рыбинспектор Злобин все равно третий день подряд мается брюхом, и на браконьеров ему сейчас нас… в самом прямом смысле слова.
Нефедов тронул коленями теплые бока мерина и покинул кордон, дымя зажатой в зубах беломориной и по-хозяйски глядя вокруг из-под треснувшего лакового козырька старенькой форменной фуражки.
Спустя час с небольшим он приблизился к месту, где, по словам козлихиного внука, расположился лагерем заезжий браконьер. Солнце уже встало, высушив росу, лес звенел от птичьих голосов, и Нефедов ухмыльнулся в усы: если залетный москвич и впрямь решил побаловаться рыбкой, то сейчас ему было самое время сортировать улов, попивая водочку и подбрасывая сушняк в костер.
Привязав мерина к березе так, чтобы он мог дотянуться до травы под ногами, Нефедов снял с плеча ружье и двинулся через лес в сторону реки, стараясь производить как можно меньше шума. Наконец лес впереди поредел, и в просветах между деревьями засветилось небо. Егерь пошел еще осторожнее меньше всего ему хотелось, чтобы браконьер, услышав шум, спрятался или, того хуже, сиганул в машину и газанул куда подальше. Гоняйся потом за иномаркой верхом на мерине!
Он уже собрался раздвинуть кусты и выйти из укрытия, когда позади раздался повелительный, с металлическими нотками окрик:
– Хальт! Хенде хох!
Федор Григорьевич не успел повоевать в регулярной армии, но оккупацию и партизанку помнил хорошо, хоть и был в ту пору пацаном. Он даже не успел удивиться тому, что браконьер обратился к нему по-немецки: тон приказа был таким недвусмысленным, что Нефедов понял бы его, даже заговори браконьер по-китайски или, к примеру, на санскрите. Егерь остановился, как вкопанный, и рефлекторно вскинул руки к небу.
– Страфстфуй, руски партизан! – с утрированным немецким акцентом произнес голос сзади. – Ти хотель мне пу-пу?
Федор Григорьевич медленно опустил руки, смачно плюнул на землю и все так же медленно обернулся, изо всех сил хмурясь, чтобы сдержать улыбку.
– Чтоб тебе пусто было! – с чувством сказал он. – Старый ты дурак! Голова седая, а ума, что у дитяти.
– Ага, – сказал голос, обладатель которого по-прежнему оставался невидимым, – наложил в штаны, следопыт? Вспомнил свое детство золотое?
– Надрать бы тебе уши, – сказал Федор Григорьевич, больше не пытаясь сдержать улыбку, – да боюсь, не получится. Ну, где ты там, вылезай!
– Насчет ушей, это ты прав – руки коротки, – сказал его старый знакомый, вставая с земли в метре от Федора Григорьевича. Нефедов с трудом сдержал желание тряхнуть головой и протереть глаза: секунду назад он готов был поклясться, что перед ним ничего нет, кроме относительно ровного участка лесной почвы, поросшего травой и густо усыпанного сосновой хвоей. Ну, здравствуй, Федор Григорьевич!
Нефедов шагнул вперед и с размаха, с треском впечатал свою твердую, как дерево, ладонь в ладонь гостя.
– Здравствуй, Илларион, – сказал он. – И что ты за нечистая сила? Год тебя не было, и вдруг – на тебе! – как снег на голову. И все со своими шуточками.
– Ну, а чего ты крадешься, как повар к курице? – стряхивая с живота и колен налипшие сосновые иголки, спросил Илларион Забродов. – Сначала прешь через лес верхом, как танк, а потом подползаешь чуть ли не на брюхе… Откуда мне было знать, что это ты? Кто это, думаю, за мной охотится? Еще шарахнут картечью из кустов, потом со штопкой замучишься. Ну, а когда разглядел… Тут уж, извини, бес попутал. Уж очень ты потешно крался, прямо как в кино.
– Кино, – проворчал егерь, забрасывая ружье за спину и возобновляя ритуал прикуривания папиросы. – Тут, брат, иногда такое кино творится, что впору у начальства пулемет выпрашивать. Так ведь все равно не дадут!
– Н-да, – сказал Илларион, трогая пальцем полу брезентового дождевика Федора Григорьевича, сомнительно украшенную созвездием мелких, тщательно заштопанных дырочек. – А кучно пошла!
Нефедов посмотрел на свой плащ, хмыкнул и пожал плечами.
– Еще бы не кучно! С пяти-то метров…
Он наконец раскурил свою беломорину, поправил на плече ремень двустволки и вместе с Забродовым вышел на пологий берег Лоби, предварительно продравшись сквозь густые заросли малинника.
Федор Григорьевич провел в лесу всю жизнь, знал здесь каждую звериную тропку, не говоря уже о тех, что были проложены людьми, а книгу следов читал так же легко, как букварь своего внука. Он умел ходить по лесу тихо, не нарушая покой своего храма. Но то, как двигался его давний знакомец и, можно сказать, приятель Илларион Забродов, всегда приводило его в состояние опасливого удивления. «Гляди ты, – думал он, краем глаза косясь на невысокую, ладно скроенную фигуру в камуфляжном костюме, легко и бесшумно скользившую рядом, – и годы его не берут. Ведь не мальчик уже, всего-то на десяток-полтора моложе меня, а идет – ветка за ним не шелохнется. И как это он меня услыхал? Специально ведь мерина взял, а не мотоцикл, чтобы шума поменьше было. А вылез как? Ей-богу, как из-под земли, прямо на ровном месте. Старею я, что ли? Хорошо, что таких, как он, мало. Не дай бог встретить такого браконьера! Его, пожалуй, не арестуешь…»
Берег открылся целиком. Лес в этом месте немного отступал от берега, оставляя небольшой травянистый лужок, полого спускавшийся к полоске белого песка, вдоль которой тихо плескалась темная вода лесной речки. По мнению Федора Григорьевича, это было одно из самых красивых мест если не во всем заповеднике, то на его участке наверняка. Он невольно поморщился, увидев тяжелый оливково-зеленый «лендровер» с укрепленной на капоте запаской, но машина была поставлена аккуратно, с краю, возле самой опушки, и никакого безобразия вокруг нее не усматривалось – никаких банок, склянок и бумажек, не говоря уже о пролитом бензине. Поодаль к небу поднимался легкий белый дымок догорающего костра, но на сей раз егерь даже не поморщился, издали разглядев, что костер разложен в специально выкопанной ямке. Снятый дерн лежал поодаль, и можно было не сомневаться, что его в ближайшее время вернут на место, предварительно засыпав кострище землей. Забродов, как всегда, не оставлял после себя никаких следов: вот он есть – а вот его нет, и ничто не напоминает о его недавнем присутствии.
– Грамотно устраиваешься, – похвалил Федор Григорьевич. – Аккуратно.
– Привычка, – рассеянно ответил Илларион, присаживаясь на корточки у кострища. Он вынул из нагрудного кармана линялой камуфляжной куртки сигареты, вставил одну в уголок своего насмешливого рта, прутиком выкатил из догорающего костра уголек, прикурил сигарету и бросил уголек обратно в костер.
– Хорошо у тебя здесь, Федор Григорьевич! – протянул он, вытирая о траву испачканные углем пальцы. – Даже уезжать жалко.
– Здрасьте-пожалуйста, – опешил егерь. – Только приехал, и уже уезжать? Что так сразу?
– Ну, почему же сразу? – Забродов пожал плечами. – Пару дней, как всегда, погощу. Но уезжать-то все равно придется. А когда помру, и вовсе сюда не попаду.
О! – вдруг оживился он. – Идея! Напишу завещание, и в нем отдельным пунктом: так, мол, и так, желаю быть похороненным на кладбище деревни Зинцово, что в Завидовском заповеднике…
– Ну, как есть дурак, – проворчал Нефедов, тоже опускаясь на корточки. – Кто же о таких вещах говорит? Да и рановато тебе о смерти думать.
– А я, Федор Григорьевич, о ней лет с двадцати думаю, – серьезно ответил Илларион. – Работа у меня такая… была. Одно время, помнится, даже и не надеялся, что в своей земле похоронят.
– Как же ты живешь-то? – глядя на переливы красного жара от пепелища, спросил егерь. – С такими мыслями?
– Хорошо живу, – спокойно ответил Илларион. – Ты пойми, Григорьевич: помнить о смерти и бояться ее – разные вещи. Когда все время помнишь, что ты не вечен, живешь как-то… полнее, что ли. Больше успеваешь, да и чувствуешь острее.
– И не боишься? – недоверчиво переспросил егерь.
Илларион пожал плечами.
– Да как тебе сказать. Не то, чтобы боюсь, а… ну, не хочу, пожалуй. Организм, он ведь дурак, ему ничего не втолкуешь. Ему, бедняге, дико: как же это – все останется, а меня не будет?
– И как же ты справляешься? – с неподдельным интересом спросил Федор Григорьевич. Ему действительно было интересно. Илларион непостижимым образом ухитрялся повернуть любой, самый мимолетный и пустой разговор так, что собеседник потом долго чесал в затылке и удивлялся: как же это ему самому не пришло в голову? Вот и сейчас Федор Григорьевич поймал себя на том, что, оказывается, прожил всю жизнь с таким чувством, словно впереди у него тысяча лет. А ведь, если задуматься, осталось-то всего ничего…
– Как справляюсь? – переспросил Илларион. – Да как все, так и я. Голова на что? Не могу же я позволить скелету собой командовать.
– Какому скелету? – удивился егерь.
– Да своему скелету, какому же еще!
– Ох, и здоров же ты языком чесать, – проворчал Нефедов, бросая окурок в горячую золу. Бумажный мундштук сразу потемнел, задымился и вдруг весело вспыхнул по всей длине, в считанные секунды сгорев дотла. – Ты мне лучше скажи, только без обид: с чего это козлихин пацан решил, что ты браконьер?
– А, – оживился Илларион, – доложили, значит!
Ну, пойдем.
Они подошли к машине, и Забродов распахнул дверцу багажника. В багажнике влажной спутанной грудой громоздилась сеть. Нефедов поднял брови: сеть как-то совершенно не вязалась с тем, что он знал об Илларионе.
– Это он, наверное, подсмотрел, как я сеть вытаскивал, – сказал Забродов. – Не хмурься, Григорьевич, рыбы в ней почти не было. Видно, недавно поставили.
Надеюсь, ты не думаешь, что это мое хозяйство?;
– Не волнуйся, – проворчал Нефедов. – Хозяйство знакомое. У нас в деревне только козлихин зять такие плетет. Что-то Колька мудрить начал. Мальчонку подослал…
– Колька – это такой здоровенный, белобрысый? – уточнил Илларион. – На глазок лет тридцать – тридцать пять, немного косолапит… Он?
– Вылитый, – сказал удивленный Нефедов.
– Ну, так он, наверное, заболел. Рука у него болит, и еще челюсть. И шея наверняка не ворочается. Можешь пойти, навестить больного. А вот это, Забродов нырнул в салон машины и вернулся с обшарпанным одноствольным дробовиком в руках, – вот это ему гостинец. Я бы его ленточкой перевязал, да взять ее негде.
– Ну, стервец, – принимая дробовик, сказал Нефедов.
– Надеюсь, не я? – испуганно спросил Илларион.
Глаза его при этом смеялись.
– Не ты, не ты… Ах, стервец! Предупреждал ведь я его… Да что тут предупреждать! Жить-то надо.
– Это точно, – сказал Забродов. – Жить надо прямо сейчас, а на то, что будет через полсотни лет, наплевать.
– Представь себе, – буркнул Нефедов, переламывая ружье и нюхая патронник.
– Патрон – вот, – сказал Илларион, вынимая из кармана ядовито-зеленый картонный цилиндрик и протягивая его егерю. – Не нюхай, не нюхай, выстрелить он не успел.
– Теперь ясно, почему ты в кустах сидел, – откликнулся Федор Григорьевич, со щелчком ставя ствол на место и пряча патрон в карман дождевика.
– Да не сидел я в кустах! Лежал себе на травке…
Ты мне, между прочим, чуть руку не оттоптал.
– Лежал он… Интересно, где тебя научили так лежать? Да ладно, ладно, это я так… Знаю, что все равно не скажешь. В разведке, что ли, служил?
– Ну, вот видишь, – сказал Илларион, – ты сам ответил на все свои вопросы.
– Неужто догадался? – обрадовался егерь.
– А вот это я не знаю, – виновато ответил Забродов.
* * *
Через три дня бывший инструктор учебного центра спецназа ГРУ Илларион Забродов вышел на крыльцо сторожки, в которой обитал егерь Нефедов, и с удовольствием потянулся, хрустнув суставами.
Было начало шестого, солнце еще не взошло, и предутренний воздух приятно холодил обнаженный торс отставного спецназовца. Илларион глубоко вдохнул и резко выдохнул, сбежал с крыльца, высоко подпрыгнул и бросился бежать по грунтовке, которая начиналась сразу за подворьем Нефедова, взяв с места убийственно быстрый темп. Откуда-то с веселым лаем вывернулся бестолковый Бубен и помчался рядом, норовя ухватить за штанину. Этот бездельник сразу сдружился с Забродовым.
«Два сапога пара», – сказал по этому поводу суровый Федор Григорьевич.
Километра через полтора пес отстал, вернувшись на кордон, и дальше Забродов побежал один. Бежать по лесу было легко – воздух здесь был гораздо чище, чем на Малой Грузинской, и вдоволь напоенные кислородом мышцы, казалось, совсем не чувствовали усталости. Добежав до деревенской околицы и всполошив собак, Илларион повернул обратно, с удовольствием ощущая, как последствия вчерашнего прощального ужина покидают организм через открытые поры.
Ему было хорошо. Сейчас он переживал один из очень редких в его жизни моментов. Его устраивало все без исключения: погода, воздух, вчерашний ужин, сегодняшняя пробежка, состояние природы и собственного организма, и даже предстоящее возвращение в Москву, по которой он успел соскучиться. Его ждали книги и неторопливые беседы за чаем со старым антикваром Пигулевским, а также язвительные споры со старинным другом и сослуживцем Андреем Мещеряковым, который все никак не мог дослужиться до генерала, и огни вечерней Москвы – все то, из-за чего он не мог покинуть город и окончательно перебраться в какую-нибудь лесную сторожку.
Даже ставшее за последние годы привычным ощущение ненужности и бесцельности собственного существования, с которым Иллариону приходилось бороться днем и ночью, отошло куда-то на задний план, уступив место простой и незатейливой радости жизни. «Все живое – трава», – вспомнилось Иллариону название прочитанного когда-то давным-давно романа. Помнится, дело было на полигоне, книга попала ему в руки совершенно случайно, и он просмотрел ее по диагонали за вечер – это была фантастика, к которой капитан Забродов относился со снисходительной скукой. Как и следовало ожидать, содержание романа в подметки не годилось названию, но само название накрепко засело в памяти – была в нем маленькая частичка какой-то последней правды.
Закончив зарядку, он умылся у колодца и вернулся в дом, где уже горел огонь в плите, посапывал, древний эмалированный чайник, и шипела посреди стола, распространяя вкусные запахи, большая закопченная сковорода. Федор Григорьевич кухарил, держа в зубах неизменную беломорину. Это получалось у него сноровисто и ловко – он был вдов уже десять лет. Замужняя дочь давным-давно перебралась в город, так что с кастрюлями и сковородками егерь Нефедов управлялся ничуть не хуже, чем с ружьем, топором или конской упряжью.
– Набегался? – бросил он на Иллариона быстрый взгляд из-под густых нависающих бровей. – Экий ты… прямо как боровик. Свежий, крепкий, так и хочется пальцем потыкать.
– Не стесняйся, – разрешил Илларион и сделал грудь колесом.
Федор Григорьевич только хмыкнул, затягиваясь папиросой и вороша дрова в плите.
– Железный ты мужик, Илларион, – сказал он. – Все тебе нипочем. Неужто голова после вчерашнего не болит?
– А чему в ней болеть? – Илларион удивленно округлил глаза. – Там же сплошная кость!
Для наглядности он постучал себя согнутым пальцем по макушке и пошел одеваться.
Они плотно, по-мужски позавтракали яичницей с салом, заедая ее толстыми ломтями ржаного хлеба с зеленым луком.
– Последний, – сказал о луке Федор Григорьевич.
Подумав, он вынул из шкафчика недопитую с вечера бутылку и сделал вопросительное движение горлышком в сторону Иллариона.
– Ни-ни, – сказал Забродов. – Я, конечно, человек русский, но за рулем, как правило, не пью.
– С каких это пор? – недоверчиво хрюкнув, поинтересовался Нефедов. Ну, хозяин – барин, неволить не буду. А мне требуется, ты уж не обессудь.
Он выпил рюмку и сразу же убрал бутылку от греха подальше.
– А то погостил бы еще, – предложил он, разливая чай. – Все веселее. Веришь, поговорить не с кем, кроме этого дурака хвостатого, – он кивнул в сторону окна, за которым катался по траве совершенно обалдевший от полноты жизни Бубен.
– А мерин? – спросил Илларион.
– А что мерин? Мерин – он мерин и есть, какой с ним может быть мужской разговор?
Илларион фыркнул – Ас Бубном ты, значит, в основном о бабах разговариваешь? – спросил он.
– А о чем с ним, дураком, еще разговаривать? Тем более, я теперь про это дело только разговаривать и могу…
– Как мерин, – вкрадчиво закончил за него Илларион.
– Как мерин, – автоматически согласился Нефедов и тут же, спохватившись, плюнул себе под ноги. – Тьфу ты, вот же язва языкатая! Это еще посмотреть надо, кто как мерин, а кто как жеребец.
– Вот это уже другой разговор, – удовлетворенно сказал Илларион. – А то заладил…
Они допили чай и встали из-за стола. Забродов прихватил свой висевший на гвозде рюкзак и первым направился к дверям.
– Не терпится тебе, – проворчал Нефедов. Ему было немного грустно расставаться с приятелем.
– Не скрипи, Григорьевич, – выходя на крыльцо, откликнулся Илларион. Свидимся еще. Мне ваши места – как астматику кислородная подушка, я без них не могу. Гляди, еще надоем.
– Надоешь – выгоню, – пообещал Нефедов.
Они обогнули дом справа и свернули за угол, куда Илларион три дня назад загнал «лендровер», чтобы тот не торчал посреди двора.
– О-па! – останавливаясь, сказал Забродов. – Вот тебе и уехал. Выздоровел, значит, наш больной.
– М-да, – неопределенно промямлил егерь, глядя на проколотые шины вездехода. – Ну, Колька! Недаром всю их семейку на деревне Козлами кличут. А я, старый дурак, не стал на него протокол составлять. Пожалел, значит.
Задумчиво насвистывая, Илларион подошел к машине и заглянул под капот. Его худшие ожидания немедленно оправдались – аккумулятора как не бывало.
– Хороший был аккумулятор, – сказал он. – Новый. Эх ты, служивый, добавил он, обращаясь к прибежавшему Бубну. – Из-за таких, как ты, Чапаев погиб. Что, стыдно?
Бубен гавкнул – стыдно ему не было.
– Это он зря, – с угрозой сказал Федор Григорьевич. – Шины шинами, а вот аккумулятор ему боком выйдет. За такие дела лет на пять загреметь можно.
– Ну, это ты загнул, – возразил Илларион. – И потом, мы теперь этот аккумулятор днем с огнем не отыщем. Я бы на месте твоего Кольки бросил бы его в речку, и все дела.
– Колька? Аккумулятор в речку? Ну-ну, – ядовито закивал головой Нефедов. – В одном ты прав – аккумулятора не видать, как своих ушей. Ежели он его уже не продал, значит, как раз сейчас продает, и не у себя в деревне, а где-нибудь подальше. Вот тебе и случай погостить. Пока новый аккумулятор достанем, пока колеса, то да се…
– Извини, Федор Григорьевич, – сказал Илларион. – Я с человеком встретиться договорился. Он старый, волноваться будет. Нехорошо. Может, ты меня подбросишь до Завидова на своем «Урале»? Туда ведь верст пятьдесят, не больше. За полдня обернешься. А я через пару-тройку дней приеду. Машину заберу, в деревню наведаюсь, то да се, как ты говоришь…
Федор Григорьевич неодобрительно хмыкнул, но спорить не стал. Вместо этого он отправился в сарай, и через минуту там с треском и грохотом завелся мотоциклетный двигатель. Из распахнутых ворот сарая поплыл слоистый синеватый дым, внутри тревожно заржал мерин, а Бубен разразился заливистым лаем, решив, как видно, что в сарае завелся какой-то страшный зверь.
Мотоцикл рыкнул и задним ходом выкатился из сарая. Это было тяжелое, густо забрызганное грязью, непроизвольно взрыкивающее и кашляющее чудовище с гнутой и ржавой номерной пластиной и коляской, выглядевшей так, словно ею неоднократно прошибали кирпичные стены. Сидевший верхом на этом дымящемся драконе Федор Григорьевич выглядел несколько испуганным, и Илларион понял, почему предложение смотаться в Завидово не вызвало у егеря особого восторга.
– Слезай, Григорьевич, – сказал он. – Дай порулить.
Нефедов с готовностью соскочил с треугольного седла и уступил Иллариону водительское место. Прежде, чем выехать, Забродов доверху долил бак мотоцикла из запасной канистры, лежавшей в багажнике «лендровера» и почему-то не замеченной предприимчивым Колькой-Козлом.
Пятьдесят с небольшим километров, отделявшие сторожку Нефедова от железнодорожной платформы в Завидово, стоили Федору Григорьевичу десяти лет жизни. Так, во всяком случае, показалось ему лично.
Мотоцикл, тарахтя, несся по ухабистым лесным дорогам, содрогаясь всем корпусом, опасно кренясь и с плеском проскакивая огромные, не просыхающие до самых морозов лужи. Порой Илларион сворачивал с дороги на какие-то тропы, о существовании которых Федор Григорьевич даже не подозревал, и тогда егерю приходилось крепко зажмуривать глаза, чтобы ненароком не закричать, наподобие нервной девицы. Нервной девицей он не был, но стиль езды Иллариона Забродова мог довести до слез кого угодно.
Наконец, эта пытка закончилась. Ощущая во всем теле непривычную легкость новорожденного, а в голове шум и кружение, егерь нетвердой поступью направился к пивному ларьку. Через несколько минут к нему присоединился Забродов, успевший приобрести билет на электричку.
В ожидании поезда они успели выпить по два бокала пива, и егерь немного отошел – как раз настолько, решил Илларион, чтобы без приключений вернуться домой. Забродов вежливо, но твердо отклонил предложение хлопнуть еще по бокальчику, пожал Нефедову руку и вскочил в подошедшую электричку из Твери.
Кое-как устроившись на жесткой и неудобной скамье, Илларион помахал рукой оставшемуся на перроне Нефедову, который очень колоритно смотрелся в толпе благодаря своему брезентовому дождевику, форменной фуражке и рыжим кирзовым сапогам. Он живо напомнил Иллариону другого егеря, но Забродов прогнал воспоминания. Сейчас у него не было настроения заниматься подсчетом потерь и расковыриванием затянувшихся ран.
Для этого еще будет время, когда ему стукнет лет семьдесят – конечно, в том случае, если он доживет до столь преклонного возраста.
Электричка, наконец, тронулась, за пыльным стеклом проплыла и внезапно оборвалась полупустая платформа, мелькнули, ускоряя бег, и остались позади дома и огороды, и Илларион отвернулся от окна. Ему предстояло провести в дороге почти два часа, и Забродов с удивлением обнаружил, что это тяготит его. Он настолько отвык пользоваться общественным транспортом, не говоря уже об электричках, что сейчас испытывал по отношению к мстительному односельчанину Нефедова гораздо большее раздражение, чем когда обнаружил, что «лендровер» выведен из строя. Ему даже пришлось напомнить себе, что он не депутат Госдумы, а бывший спецназовец и, в принципе, способен спокойно переносить куда большие неудобства, чем двухчасовая поездка в пригородной электричке.
«Надо же, – подумал он, закрывая глаза, чтобы не видеть, как трое испитых субъектов напротив трясущимися руками откупоривают бутылку бормотухи, – это же надо, до чего я докатился! Без своей машины и своей квартиры я уже не человек! Все время что-то мешает, как камешек в ботинке, раздражает, выводит из равновесия, а когда копнешь глубже, обнаруживается, что ты просто потихоньку становишься старым брюзгой, которому надо, чтобы его посадили в уютное кресло с книгой в руках и оставили в покое… не забывая, впрочем, регулярно кормить. Закисли вы, товарищ капитан, на пенсионерских хлебах, плесенью покрылись. Ай-яй-яй…»
Сразу после Клина в вагон вошли ревизоры. Илларион рассеянно предъявил свой билет и снова закрыл глаза, все еще пытаясь уснуть, чтобы скоротать время.
Из этой затеи ничего не вышло – через минуту его внимание привлек набиравший обороты где-то за его спиной инцидент, грозивший, судя по всему, перерасти в полновесный скандал.
Обернувшись на шум, Забродов обнаружил, что все четыре ревизора собрались в кучу, обступив дремавшего в уголке у окна бородатого гражданина, который, похоже, наотрез отказывался просыпаться и «предъявлять билетик». Гражданина трясли за плечо, окликали и толкали под бока, но он оставался безучастным к потугам ревизоров.
– Во дает, – сказал кто-то. – Мне бы такой сон.
– Выпей пару литров, и у тебя такой будет, – оборачиваясь на голос, проворчал один из ревизоров. – Ну, что с ним делать? – обратился он к сослуживцам.
– Милицию вызвать, – ответил один из них. – Пускай снимают его с поезда к такой-то матери.
– Ишь, какой быстрый! – вступилась за сонного пассажира сидевшая рядом с ним старушка с кошелкой. – Чуть что, сразу высадить. Смотри, как бы я тебя самого не высадила!
– Вы потише, мамаша, – примирительно сказал ревизор. – Я на работе, а он безбилетный.
– Сам ты безбилетный! – не сдавалась боевая старушка. – Я сама видела, как он в кассе билет брал.
Да вон он, билет, из нагрудного кармашка торчит! Возьми и посмотри, если тебе надо, а человек пусть спит!
Из нагрудного кармана пиджака спящего пассажира действительно торчал уголок какой-то бумажки, которая вполне могла оказаться билетом. Ревизор пожал плечами и протянул руку, чтобы взять билет. Как только его пальцы коснулись бумажного уголка, спящий, не открывая глаз, сделал быстрое движение рукой, словно отгоняя муху. Ревизор затряс ушибленной кистью. Старуха с кошелкой злорадно захихикала. Илларион улыбнулся: все-таки на свете оставались вещи, которые не менялись с течением времени, и это было чертовски приятно.
– Вот зараза, – сказал ревизор и снова потянулся к нагрудному карману бородача. – Слышишь, парень, перестань ваньку валять! Сейчас милицию вызовем!
Бородач не ответил, но новая попытка забраться к нему в карман окончилась так же, как и предыдущая. Видя, что ревизоры и в самом деле вот-вот вызовут милицию, Забродов встал и подошел к ним.
– Разрешите, ребята, – сказал он, деликатно протискиваясь между ними. – Не волнуйтесь, все в порядке. Я его знаю.
– Он что, на самом деле спит или только прикидывается? – сердито спросил ревизор, разглядывая свои ушибленные пальцы.
– Спит, спит, – уверил его Илларион.
– А чего дерется? – совсем уже по-детски обиженно спросил ревизор.
– А не любит, когда у него по карманам шарят, – ответил Илларион и, наклонившись над спящим, негромко скомандовал:
– Караул, в ружье!
Бородач в поношенном пиджаке, линялых джинсах и старых коричневых туфлях встрепенулся, широко открыл глаза с розоватыми не то с перепоя, не то от недосыпания белками и вскочил так резко, что ревизоры шарахнулись во все стороны. Он проснулся не до конца, потому что, увидев камуфляжный костюм Забродова, слепо зашарил вокруг себя, пытаясь, по всей видимости, нащупать автомат.
– Ловко! – прокомментировал мужчина в очках – тот самый, который завидовал крепкому сну бородача, а старуха с кошелкой перекрестилась, испуганно отодвинувшись подальше от своего странного соседа.