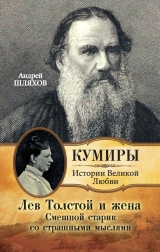
Текст книги "Лев Толстой и жена. Смешной старик со страшными мыслями"
Автор книги: Андрей Шляхов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Соня согласилась, но в итоге вышел конфуз. Увидев, как Соня садится в карету, Лев Николаевич напомнил ей, что сейчас ее очередь ехать сзади. Соня сказала, что она замерзла, и поспешила захлопнуть за собой дверцу кареты. Толстой постоял минуту, словно в раздумьях, и уселся на козлы, рядом с кучером. Лизе пришлось ехать в одиночестве. Можно представить себе, как она злилась.
В Москве Толстой поселился на съемной квартире и занялся хлопотами по поводу яснополянской школы и издания педагогически-просветительского журнала под названием «Ясная Поляна», предназначенного для народных школ. Он также подал через дежурного флигель-адъютанта письмо императору Александру II, находившемуся в Москве по случаю маневров на Хо-дынском поле. Письмо содержало жалобу по поводу оскорбления, нанесенного Толстому жандармским обыском в Ясной Поляне 23 августа 1862 года, проведенным без всяких на то оснований.
Дела не мешали Толстому часто навещать Берсов на их даче в Покровском. Лев Николаевич и Соня подолгу гуляли вдвоем, оживленно беседуя. Однажды Толстой поинтересовался, ведет ли Соня дневник. Соня ответила, что она не только ведет дневник с одиннадцатилет -него возраста, но и написала прошлым летом длинную повесть. Лев Николаевич попросил дать прочесть ему дневники, но Соня отказалась. Тогда Толстой захотел прочитать повесть и получил ее. «26 августа. Пошел к Берсам пешком, покойно, уютно. Девичий хохот. Соня нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты. Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но “необычайно непривлекательной наружности” и “переменчивость суждений” задело славно (главный герой Сониной повести, князь Дублицкий, списанный ею с Толстого, был «необычайно непривлекательной наружности» и имел «переменчивость суждений». – А.III.). Я успокоился. Все это не про меня», – записал Толстой в своем дневнике.
Повесть под названием «Наташа» Соня написала летом 1862 года – чувства юной девушки требовали выхода, пусть даже и на бумаге. Считается, что именно не дошедшая до нас «Наташа» послужила основой для создания семейства Ростовых в «Войне и мире» и существенно повлияла на образ Наташи Ростовой, любимой героини Льва Николаевича.
Рукопись повести была уничтожена Софьей Андреевной вместе со своими девичьими дневниками. Благодаря Татьяне Берс, в замужестве ставшей Кузминской, нам хотя бы известно содержание «Наташи».
В этой повести два главных героя-мужчины: Дуб-лицкий и Смирнов, и одна женщина, точнее девушка – Елена. Дублицкий некрасивый, но энергичный и умный господин средних лет, с переменчивыми взглядами на жизнь. Смирнов – прямая противоположность Дублицкого, он молод (что-то около двадцати трех лет), слегка флегматичен, доверчив. В отличие от неприкаянного Дублицкого, Смирнов целеустремленно делает карьеру, умудряясь оставаться при этом идеалистом. Елена – юная красавица, пленяющая мужчин прежде всего своими большими черными глазами. Елена – средняя из трех сестер. Старшая ее сестра Зинаида описана несимпатичной расчетливой и холодной, а младшая, пятнадцатилетняя, Наташа – резвой и милой. Повесть была не столько художественной, сколько документальной.
Смирнов влюблен в Елену, и она отвечает ему взаимностью, но не спешит принимать его предложение, так как ее родители выступают против этого брака по причине молодости и жизненной несостоятельности Смирнова. Смирнов, разумеется, страдает, мучается и уезжает куда-то по делам службы, освобождая сцену для Дублицкого, в которого тайно влюблена Зинаида. Сам же Дублицкий просто бывает с визитами в доме сестер без каких-либо мыслей о любви. Постепенно Елена влюбляется в Дублиц-кого, совершая тем самым, как ей кажется, двойное предательство – перебегая дорогу старшей сестре и изменяя Смирнову. Честная девушка борется со своим чувством, но борется безуспешно. Постепенно Дублицкий увлекается Еленой, совершенно не обращая внимание на ее старшую сестру, и оттого любовь Елены, как и следовало ожидать, разгорается еще ярче.
Пламя любви, пылающее в душе девушки, не может охладить ни переменчивость жизненных взглядов Дублицкого, ни предъявляемые им требования, ни его нерешительность, подчас граничащая с холодностью. Елена мысленно сравнивает Дублицкого со Смирновым, таким простым, таким понятным, делает выводы в пользу последнего и... продолжает любить Дублицкого.
Очень своевременно возвращается Смирнов. Будучи не в силах выносить его душевные муки и в то же время испытывая все усиливающееся влечение к Дуб-лицкому, Елена собирается уйти в монастырь.
Закрученный сюжет, достойный Стендаля, Достоевского или Льва Толстого, заканчивается банальной, пресноватой развязкой. Елена всячески пытается устроить брак Зинаиды с Дублицким, после чего сама выходит замуж за Смирнова.
Столь откровенная исповедь Сони, преподнесенная в виде повести, да еще с намеком на явно нежелательную для Толстого концовку, вне всякого сомнения, заставила его задуматься над своими чувствами к Соне, и, быть может, даже разожгла в его душе ревность, азарт охотника.
«Соня нехороша, вульгарна была, но занимает», – пишет Толстой в дневнике. Как образно – нехороша, даже вульгарна, но – занимает ведь! Лев Толстой был поистине великим писателем, способным при помощи всего нескольких слов так ярко и точно описать свои чувства.
«Какие были тогда чудесные лунные вечера и ночи, – восторгалась Софья Андреевна. – Как сейчас, вижу я ту полянку, всю освещенную луной, и отражение луны в ближайшем пруду. Были какие-то стальные, свежие, бодрящие августовские ночи... ‘‘Какие сумасшедшие ночи”, – часто говаривал Лев Николаевич, сидя с нами на балконе или гуляя с нами вокруг дачи. Не было между нами никаких романических сцен или объяснений. Мы так давно знали друг друга. Общение между нами было так легко и просто. И точно я спешила доживать какую-то чудесную, свободную жизнь, ясную, ничем не спутанную, девичью жизнь. Все было хорошо, легко, ничего не хотелось, никуда я не стремилась.
И вот опять и опять приходил к нам Лев Николаевич. Иногда, когда он поздно у нас засиживался, родители мои оставляли его ночевать. Раз мы пошли его провожать, – это было в самом начале сентября, и когда надо было уже с ним расстаться и возвращаться домой, сестра Лиза поручила мне пригласить Льва Николаевича ко дню ее именин, 5 сентября. Я как-то задорно-настойчиво стала его звать; он сначала отказывался, удивлялся и спрашивал: “Почему вы именно на пятое зовете?” Объяснять я не смела. Меня просили об именинах не упоминать.
Лев Николаевич обещал и, к общей нашей радости, пришел. С ним всегда все было интересно и весело».
С каждым днем чувство Сони к Толстому становилось все глубже и сильнее. Девушка влюбилась по-настоящему и, несомненно, с огромным удовольствием примеряла на себя роль жены гения, в гениальности Толстого у Сони не было сомнений. Осознавала ли она по молодости лет, каких жертв потребует от нее служение таланту своего избранника?
28 августа Толстой писал в дневник: «Мне 34 года. Встал с привычкой грусти... Поработал, написал Соне... Сладкая успокоительная ночь. Скверная рожа, не думай о браке, твое призванье другое, и дано зато много».
Практически ежедневные посещения Толстого продолжались и после переезда в Москву. Однажды Соня сказала матери: «Все думают, что Лев Николаевич женится не на мне, а он, кажется, меня любит». Мать рассердилась и посоветовала дочери не думать глупостей. Соня расстроилась, не ожидая подобной резкости, и после этого уже ни с кем не говорила о Льве Николаевиче.
К тому времени Андрей Евстафьевич и Любовь Алек -сандровна уже начали сердиться на Толстого за то, что он, чуть ли не ежедневно бывая с визитами, не делает, согласно обычаю, предложения старшей из дочерей. Отец семейства сделался холоден не только со Львом Николаевичем, но и с Соней, считая, что она пытается лишить счастья свою старшую сестру. Обстановка в доме Берсов потихоньку накалялась. Соня чувствовала к себе недоброжелательное отношение и молча страдала.
«Андрей Евстафьевич в своей комнате, как будто я что украл, – писал Толстой в дневнике 8 сентября. – Танечка серьезно строга. Соня отворила, как будто похудела. Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других, – условно поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет. (С Сашей зашел в деревню – девка, крестьянская кокетка, увы, заинтересовало.) Лиза как будто спокойно владеет мной. Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой».
Письмо, написанное Толстым Соне 9 сентября, попало к ней в руки уже после свадьбы. В нем Лев Николаевич снова пытался опровергнуть «ложный взгляд» семейства Берсов по отношению к нему, утверждая, что он не влюблен в Лизу и не пытается ухаживать за ней. Писал Лев Николаевич и о том, почему повесть Сони засела у него в мыслях. «В ней я узнал себя Дуб-лицким, – пишет Толстой, несмотря на то, что совсем недавно записал в дневник совершенно противоположное, – и ясно убедился в том, что я, к несчастью, забываю слишком часто, что я – дядя Лявон, старый, необычайно непривлекательный черт, который должен один упорно и серьезно работать над тем, что ему дано от Бога, а не думать о другом счастьи, кроме сознания исполненного дела... Я бываю мрачен, – пишет он, – глядя именно на вас, потому что ваша молодость напоминает мне слишком живо мою старость и невозможность счастия».
Признавшись, что прочитанная им повесть «совершенно отрезвила» его, Толстой сообщает о своем решении отказаться впредь от визитов к Берсам, пусть для него это равносильно отказу от «лучшего наслаждения». Заканчивалось письмо так: «Я Дублицкий. но только жениться на женщине так, потому что надо же жену, я не могу. Я требую ужасного, невозможного от женитьбы. Я требую, чтоб меня любили так же, как я могу любить. Но это невозможно... Я перестану ездить к вам, защитите меня вы с Танечкой».
Вряд ли дело зашло так далеко, тем более что письмо так и не было отправлено, просто Лев Николаевич, по обыкновению своему, никак не мог решиться и сделать предложение Соне. Ему хотелось жениться на ней, и в то же время он боялся, что она согласится. Жажда перемен в душе Толстого сопровождалась страхом, который эти перемены вызывали.
Что это? Нерешительность? Мнительность? Стремление сохранить свою свободу, борющееся с желанием обрести семью? Сомнения в правильности выбора? Вероятно – все вместе, всего понемногу. Не исключено, что идеальный образ женщины, созданный Толстым в своем воображении и тесно отождествлявшийся с образом матери, примерялся им к каждой из кандидаток в спутницы жизни. Разумеется, ни одна из них не могла соответствовать Идеалу, и оттого выбор был очень труден, приходилось уговаривать себя поступиться то тем, то этим, жертвы давались тяжело, часто тянуло вообще отказаться от своих намерений, он отказывался, и тут сразу же черной волной накатывало одиночество. Тоска рождала желание, нет – стремление, стремление обрести близкого человека, обрести как можно скорее... и вновь одолевали сомнения. Замкнутый круг, ловушка, в которую разум загнал себя сам и мучился в поисках выхода.
Если не понять, то хотя бы приблизиться к пониманию того, что испытывал Толстой в то время, помогает описание чувств Левина в «Анне Карениной»: «Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет, сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятиям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мыгли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее».
Творчество Льва Толстого связано с его жизнью, с его окружением, великим множеством незримых нитей. Не случайно фамилия Левина образована от имени автора, совсем не случайно.
Читаем «Анну Каренину» дальше: «Пробыв в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.
Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель – директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.
Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити – отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, – казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но чтобы быть любимым тою любовью, какою он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное – особенным человеком».
Далее следует прямо-таки сокровенный пассаж: «Слыхал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин».
Понимала ли Соня, что творится в душе Толстого?
Навряд ли, она поняла это впоследствии, много позже, когда уже ничего нельзя было изменить.
12 сентября 1862 года Дев Николаевич записал в дневнике: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить, Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий, пускай, но я прекрасен любовью. Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел, надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. Господи, помоги мне».
13 сентября: «Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь».
Такие же чувства обуревали и Левина. «...Пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или... он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут».
14 сентября: «4-й час ночи. Я написал ей письмо, отдам завтра, то есть нынче 14. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне... Спал только полтора часа, но свеж и нервозен страшно. Утром то же чувство... Положение объяснилось, кажется. Она странная... не могу писать для себя одного. Мне так кажется, я уверен, что скоро у меня уже не будет тайн для одного, а тайны для двух, она будет все читать... Что-то будет».
15 сентября: «Не сказал, но сказал, что есть, что сказать».
Он решился 16 сентября, в субботу, вечером. Чуть ли не весь день провел у Берсов, и, улучив минутку, пригласил Соню в комнату ее матери, где никого в то время не было, и отдал ей письмо, которое уже несколько дней носил в кармане. Соня схватила письмо и тут же устремилась бежать вниз, в комнату, где жила с сестрами. Там письмо было прочтено.
«Софья Андреевна, мне становится невыносимо, – писал Толстой. – Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недостанет духу сказать вам все. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове, оттого что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицко-му, не пристало мечтать о счастье, что ваши отличные поэтические требования любви... что я не завидую и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В Ивицах я писал: “Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость, и именно вы”. Но и тогда и теперь я лгал перед собой. Еще тогда я мог бы оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увле -чения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе; что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком потеряны. И я не могу уехать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради бога не торопясь, скажите, что мне делать? Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, если бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучиться, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: да, а то лучше скажите: нет, ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать: нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести.
Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно!»
Соня пробежала по письму глазами, наткнулась на фразу: «Хотите ли вы быть моей женой», и уже хотела вернуться к Толстому с утвердительным ответом, но в дверях столкнулась со старшей сестрой. По иронии судьбы Лиза оказалась первым человеком, узнавшим о том, что Лев Николаевич сделал Соне предложение. Следующей стала Любовь Александровна, а чуть позже уже весь дом узнал о случившемся и бросился поздрав -лять жениха и невесту.
Поздравления продолжались и на следующий день, 17 сентября, когда праздновались именины Сони и ее матери. Соня была на седьмом небе от счастья. Свадьбу было решено играть очень скоро – через неделю. «Жених, подарки, шампанское. Лиза жалка и тяжела, она должна бы меня ненавидеть. Целует», – вечером написал в дневнике Лев Николаевич.
Кстати говоря, первое предложение Левина было отвергнуто Кити: «Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала.
– Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал... что это от вас зависит...
Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся.
– Что это от вас зависит, – повторил он. – Я хотел сказать... я хотел сказать... Я за этим приехал... что... быть моею женой! – проговорил он, не зная сам, что говорил; по, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее.
Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила:
– Этого не может быть... простите меня...
Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему!
– Это не могло быть иначе, – сказал он, не глядя на нее».
В понедельник, 18 сентября, произошло объяснение между женихом и отцом его невесты. Оно было недолгим и по сути своей формальным. Толстой объяснил, что его намерения, которые он из скромности скрывал до поры, были изначально неверно истолкованы, и на том дело закончилось. Андрей Евстафьевич снова стал с ним приветлив и дружелюбен.
Несмотря на то, что от предложения до свадьбы было совсем мало времени, Толстой успел передумать и начал сомневаться в правильности принятого решения. «Непонятно, как прошла неделя, – можно прочесть в его дневнике. – Я ничего не помню; только поцелуй у фортепьяно и появление сатаны, потом ревность к прошедшему, сомненья в ее любви и мысль, что она себя обманывает».








