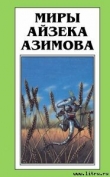Текст книги "Дело принципа"
Автор книги: Андрей Измайлов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Измайлов Андрей
Дело принципа
Андрей Нариманович ИЗМАЙЛОВ
ДЕЛО ПРИНЦИПА
Повесть
"Свиньи вилками хлебали из говядины уху!" – такая идиотская абракадабра пришпилена булавкой к стене. Завершающий штрих к общему кавардаку. Пепельница, пускающая зайчики медным нутром в потолок с батареи отопления. А окурки усеивают блюдце, а кофейная чашка существует вне блюдца, приклеившись к табурету, и еще на табурете машинка "Москва". И железки с буквами торчат – сразу много. Как лапы у богомола. Заклинились. Так всегда бывает, если одновременно нажать на несколько клавиш рукой. Только здесь не рукой, а головой. Сидит человек, уткнувшись носом в клавиатуру пишущей машинки. Уснул? Несмотря на банку кофе, которая валяется рядом. Нет, не уснул. Иначе бы не было звонка в наш райотдел, и нас бы здесь не было. И у меня внутри не было бы схватывающего чувства невесомости – потому, что это мой первый выезд "на труп". И убитый... Впрочем, почему убитый?! "Выбрось книжки из головы!" – так наставляет Куртов.
И я его понимаю, когда он переходит на отеческий тон, говоря со мной о моем же представлении милицейской специфики. Я его понимаю, когда он наставляет: контролируй себя. Контролирую: медное нутро пепельницы, лапки богомола – перебор, лирика! Убитый – тоже... скороспелый вывод. Просто умер человек в цветущем возрасте, на вид сорока нет. И сейчас не киношно-книжный детектив, а просто утро. И сдал бы спокойно дежурство Куртов уже прибыл на смену, и спать хочется...
Но соседка возвращается из ночной смены, и дверь к соседу открыта, и свет у него горит, а сам в одежде спит! Опять набрался! Она, соседка, знает – его уже однажды дружок притаскивал в жутком состоянии. Всякие фельетоны пишет, а сам-то хорош! И свет не гасит, хоть и спит. А за свет пополам платить, а у нее только лампочка одна, и она ее выключает сразу, когда не надо... Потом на кухню пошла чаю "скипятить" после смены, и там тоже свет "негашенный"! И тут решила, что надо ему все сказать!.. А он и не просыпается, белый какой-то, даже желтый. Вот...
Куртов тем временем уже осмотрел комнату, обнаружил магнитофон "Легенда" во включенном состоянии. Он, магнитофон, тихо шипел – всю ночь батарейки свои просаживал вхолостую. Потому что врач наш из бригады уже сказал – между одиннадцатью и часом ночи это произошло. Хотя точнее он скажет попозже.
Соседку успокаиваем, протокол оформляем. Смотрю на машинку – лист бумаги:
"ПЬЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА. Древние были мудры. Если они что-то изрекали, то на века. К примеру: ин вина веритас. Вероятно. Во всяком случае, допустимо. Если не забывать, что ин вина еще и спиритус..."
Вот и все, что там было. Начало очередного фельетона, наверное. А на кассете, когда я ее перевернул, была музыка. Рояль вел себя солидно и уверенно. И вот к нему почти неслышно подкрадывается скрипка. И когда они встречаются, возмущается большой барабан, привлекая внимание общественности. И та – в лице тромбонов, фанфар, кларнетов – немедленно откликается и трубит всем, что...
Но тут Куртов смотрит на меня. Он часто на меня так смотрит, с тех пор, как мы познакомились. Я его понимаю... И снова контролирую себя (какая может быть музыка сейчас?!), переворачиваю кассету еще раз. А там:
" – ...пляться, кишки на уши намотаю! Я не прошу никого! Хочешь бери, не хочешь – не бери! Иди, дорогой, не мешай! Делом займись, делом!
– Я не настаиваю. Просто интересно...
– Интересно – в кино иди! Меня не трогай только... Красавица! Стой! Стой, говорю!.. М-м-мых-х! Самый красивый выберу!"
– Спекулянт, наверное, – роняет Куртов. – Запись на улице. Возможно, очередной герой...
Куртов стоит в дверях, загораживая выход, и постукивает пальцами по косяку – дробно, сухо, часто. Старший... Как-то у него получается выглядеть старшим. Хотя мы с ним, по существу, ровесники. И по званию тоже... Опыт, наверное. Я что? Политех, распределение, чуть больше полгода на врастание в коллектив конструкторского бюро – и по комсомольскому набору в милицию. И за плечами в погонах – несколько месяцев на курсах и еще месяц уже в нашем райотделе. Плюс детективная мешанина из прочитанного: пиф-паф, иду по следу, руки вверх!.. А Куртов сразу после армии и уже много лет. Куртов умеет себя контролировать и эмоции умеет придерживать. Главное – факты.
Факт – звонок в райотдел. Факт – обнаружен труп. Факт – банальный инфаркт. По предварительному заключению... Отсутствие события преступления. Собственно, наша с ним миссия окончена. И скорее даже моя. Все потому, что на стыке дежурств. И мне бы сейчас спать и спать. Тем более ночка была! Разбирались с пьяной дракой. Машина возвращалась с маршрута: "А я не лез, я разнимал! Витек, скажи!.. Разрешите доложить! Оказал сопротивление, хватал за воротник... Слушь, лейтенант! Будь человеком! Не трогал я вашего! Держал просто одной рукой, легонько! А другой рукой бутылку заканчивал! Так вы же все равно загребете, так хоть чтоб добро не пропадало! Ну, ты человек или кто?! Еще доставили! Нарушали ночной общественный порядок путем распевания песни "Как прекрасен этот мир" в неположенном месте..."
Спать хочется... Только "Салем" и "Шипку" одновременно не курят. Или то, или другое. Или... один курит одно, другой – другое... Значит, что? Был кто-то?.. А кто? А когда?.. До? После? Во время?.. Надо бы выяснить, кто здесь вчера гостил. Для Куртова важны факты, а разные окурки – это не факт?
Инфаркт инфарктом, но у фельетониста Гатаева врагов должно быть множество. Фельетон – не юбилейная речь. А неоказание помощи – тоже преступление. То есть Гатаев курил, скажем, "Салем" (как-никак пресса, и все такое), а второй – "Шипку". Тут удар с Гатаевым, а гость уходит. Не вызвав "скорой", никого не вызвав... А? Богатое у меня воображение! Снова детективная мешанина? Потому что первый раз сталкиваюсь с покойником? И Куртов снова смотрит на меня... Я его понимаю. Но!
Но это мы еще поглядим, так ли все просто...
Рядовой случай... Может, для людей с опытом он и рядовой, но у меня и ряда еще не выстроилось. Всего месяц с небольшим при погонах – какой тут опыт?! Да еще и в отпуск сразу – догуливать за свою бытность в КБ. Отпуск – это хорошо. И последнее дежурство. И Сашка уже свою "Яву" отладил, а я свою. И уже договорено – сроки, горючее, маршрут. Средняя полоса – лучшее место для мототуризма. Только вот отосплюсь...
Тем более Куртов говорит: "Какое дело?! Какая прокуратура?! Езжай! И без тебя тут хлопот..." Тем более Сашка говорит: "Охота тебе! Ты же все сделал – выехал на место, осмотрел, доложил! И вообще уже не в твое дежурство! Поехали, а то дожди зарядят через неделю, дороги раскиснут!" И я говорю: "Нет уж!"
Странность моего поведения – не странность даже, а... В общем, оперуполномоченный Федоров Михаил Сергеевич, то есть я, не любит, когда ему говорят "и без тебя тут хлопот...". Он, наверно, действительно еще многого не освоил и не усвоил. Он действительно мыслит категориями затрепанных детективных книжек. Но тем не менее он знает, что опыт – дело наживное. И что его надо наживать. И пусть Куртов недовольно цокает языком, но я все же забираю – по протоколу – и кассету с магнитофона, и блокнот Гатаева, и еще один листик с пола.
Пока придет заключение о смерти Гатаева из области, пока Куртов получит его после вскрытия, пока будет составлен протокол об отказе в возбуждении уголовного дела: за отсутствием события преступления... До тех пор для меня событие остается событием... Смерть газетчика, фельетониста. В районном центре – это фигура. И обстоятельства странные... Куртов снова смотрит – я его понимаю. Но понимать и принимать – разные вещи...
– Сидорова! Ты мысли читать умеешь? Нет, ты мысли читать умеешь?!
Ага! Значит, эта пожилая очаровашка – Сидорова. Читал, помню, попадалась эта фамилия в нашей районной четырехполоске. Крепко, основательно. Правда, немного с придыханиями. Но интересно... Она и сейчас с придыханиями – но уже не пишет, а говорит. Человеку за столом, который сверкает ножницами.
– Ты, старик, должен понять, старик, что это интересно и нужно, старик! И читательницы ведь ждут, старик! Ведь на субботу же, старик! У меня, старик, уже грибной суп приготовлен на восемьдесят строк, старик! И зразы, старик!
– Си-до-ро-ва! – шумит "старик". – З-з-зраза! Уйди! Я сказал – у тебя хвост?! Я сказал – обрубаю?! И обрубаю! – Он продолжает сверкать ножницами, отсекать все лишнее, поливать клеем, пририсовывать кому-то зубы на фотографии. Ответственный секретарь – так на двери написано...
Но мне нужен редактор. "Старик" полководчески указывает ножницами на дверь: "Через одну комнату".
Через эту одну комнату иду под треск пишмашинок. Сидят в два ряда слева, справа. Лицом к лицу. Дистанция два шага – перестреливаются, печатают. И вот по этой нейтральной полосе дохожу до двери со свежей табличкой "Ю. А. Дробышев".
Ю. А. Дробышев сидит в пелене дыма, курит и сокрушается в телефонную трубку:
– ...А я родился-учился здесь, женился здесь, развелся здесь... Ну, да! Еще в позапрошлом году... И умру, наверно, тоже здесь! – Вытряхнул из пачки "Салема" еще одну сигарету, прикурил от предыдущей. – А у них по плану только два сборника в год... Да нет! В порядке! Какая хандра?! Просто ною... Пройдет! Что? Хорошо, передам. Счастливо!..
Положил трубку. С тоской глянул на мою папку.
– Роман? Или записки охотоведа?
Потом он извинился, когда выяснилось, что сходство с охотоведом у меня чисто внешнее и что я об этом даже не подозревал. И он сразу понял и спросил:
– По поводу Леши?
Я сообразил, что Алексей Матвеевич Гатаев был для Дробышева просто Лешей. И еще сообразил, что иначе быть не могло. Потому что и. о. редактора Дробышев на мое "говорят, вы были с ним дружны?" грустно усмехнулся:
– Семь лет за одной партой, пять в институте и здесь...
Он заметил, что дышу я весьма экономно, швырнул окурок в окно и предложил: "А то, может быть, прогуляться по свежему воздуху?" А про то, где он, кстати, умудрился "Салем" достать, между прочим сказал, что напротив в кафеюшке выбросили неделю назад, в редакции блоками брали. Дорого, правда. Но вкусно. Он, Дробышев, в командировке был, но на его долю Митя купил. Какой такой Митя? А есть у них один...
Но в эту кафеюшку напротив он отговорил. Прошлись, нашли столики прямо в сквере. В кафеюшке "курить воспрещено", а тут Дробышев уже без угрызений совести снова задымил. И стал вспоминать:
– ...В школе наши стенгазеты, простите за нескромность, вызывали фурор. Но только у одноклассников. У педсовета они вызывали другие эмоции. Мы острили, язвили. Кому это может понравиться?.. Повод – любой. Сверстникам доставалось за коллективный побег с физики, завучу – за гонения на "мини". Нам при этом тоже доставалось. Но бояться карательных мер мы еще не умели. Потом... Я как-то остыл... А Лешка... он стал писать фельетоны. Это очень хлопотный жанр. Сейчас многие пишут "по следам". Проще некуда! Порок наказан, меру вины определил суд, все зафиксировано в протоколах. Бери, литературно обрабатывай, формулируй нехитрую мораль готово! Но газетчик не рискует, понимаете! Так вот, Алексей рисковал всегда. Лез в самую кашу. Иногда сам ее заваривал. Простите за пафос, ему было присуще чувство высокой гражданственности. Для него было делом принципа схватить мразь за заднюю лапку и выволочь наружу. Мразь лягается, пытается поглубже закопаться, царапается. А он выволакивает – вот вам конкретный головотяп, самодур, хулиган! Решайте и действуйте, товарищи! И тут ему говорят – это сор, понятно? А это наша изба, понятно? А сор оттуда, понятно?.. Ему было понятно? Ему было понятно, и он тем более считал делом принципа этот сор вымести. Не обращая внимания на препоны. Вам понятно?
Мне было понятно. И его комплекс вины перед Гатаевым, столь тщательно демонстрируемый. И его желание по-мужски поплакаться – вот ведь сидит человек, внимательно слушает и протокол не ведет. А какой, к черту, протокол, если просто лишился друга, а другу еще и сорока не было, а семь лет за одной партой... Только за тот месяц с небольшим, пока я "районку" регулярно читаю, не встречались мне что-то фельетоны Гатаева... Или месяц – это не срок для фельетона? Или Ю. А. Дробышев, как он говорит, "остыл". И научился сор из избы не выносить...
Мне-то, как только я заселился, сразу вменили – подписка на местную газету. А то, что Сашке то же самое вменили у него на комбинате еще в январе – никого не касается. Ну и что, в одной квартире живете?! Ну и что – два экземпляра ежедневно?! А вдруг поссоритесь?! Тогда каждый свою газету будет читать... Логично! Но мы пока не ссоримся. И Сашка из своей комнаты шуршит газетой и выдает: "Ну, вообще!" В адрес Дробышева, кстати. Сашка орет из своей комнаты: "Что же он пишет?! Он же был у нас! Ребята ему все как есть выложили! А он: люди шли и улыбались... и хотя еще многое предстоит сделать, настроение в бригаде было отличное!.. Я бы ему показал сейчас свое настроение!"
В общем, так Ю. А. Дробышев и пишет. Не зашелохнет, не прогремит...
Тут он снова сигарету ухватил. И я ему сказал, что нельзя же так. Он снова усмехнулся:
– Ерунда это все! Ученые утверждают – если курить с шестнадцати лет, то к восьмидесяти годам непременно разовьется рак легких. Нам бы до такого срока дожить, а там пускай!.. Вон Лешка, ни разу сигареты в рот не взял, а в сорок лет...
– Как?!
– Что – как?
– Гатаев был... некурящим?
– Что вас так удивило? О, а как он с куряками воевал! Бурилов однажды принес в редакцию пачку "Данхилла" и на летучке царским жестом предложил. Все взяли. И Лешка тоже. Я сначала не поверил глазам!.. А он смял сигарету в кулаке и экспромтом: "Сигарета ядовита для коней и для пиита..." Мы так Бурилова зовем. Пиит. Стишками балуется. У него гора писем не разобрана, а он глаза в потолок – рифму потерял. И вообще, если честно, нам от него придется избавляться. Слабенький журналист. Но цепкий. В смысле стула. Не оторвать... Редактор наш еще до пенсии сколько раз с ним беседовал – не хотели бы вы, Дмитрий Викторович, переменить место?.. Нет, действительно! У нас коллектив подобрался хороший, профессиональный. И работы – не продохнуть. Все-таки пять раз в неделю выходим, хоть и "районка". А Бурилов откровенно не тянет. Зато отзывчивы-ый!.. Вот и "Салем" – я ведь его не просил... Вообще в командировке был – а он для меня купил. Ну как такого... Да вы меня не слушаете!
– Да-да! – говорю. – Непременно. А как же иначе. Само собой...
И думаю: выходит, Гатаев никогда не курил... А пепельница на батарее отопления? А тарелка с окурками? А "Салем" с "Шипкой"?.. Вот тебе и факты...
Так и не выспался. И Сашке спать не дал. Он стал было меня поедом есть, но я ему:
– Понимаешь, сначала я решил, что "Салем" курил Гатаев...
И он мне: что да, резонно, что я же сам говорю про данные экспертизы – в чашке никаких ядов, про отпечатки пальцев – зачем их снимать, если криминала не было, тем более отпечатков должна быть тьма, друзей у Гатаева много было.
– И врагов, – добавляю.
– И врагов. Ну и что? Вот грянут дожди – плакали наши "Явы". Понял?! У меня, между прочим, тоже отпуск. А ты знаешь, сколько я нашего профсоюзного деятеля уламывал, чтобы в августе отпуск?! А ты – гость, гость!.. Ну пришел гость в гости. Погостил и ушел. Ну?!
– Гости, Саша. Гости, а не гость! – говорю я ему. И еще говорю, что Гатаев никогда не курил.
А Сашка не понимает, и я ему объясняю.
Тогда он садится верхом на стул и вертит пальцами, сосредоточенно бормоча: "Так! А это, значит, так. Тогда вот так..."
– Что ты мне голову морочишь?! – наконец приходит он к выводу. Ладно! Пусть гости. Приходят они к Гатаеву, мирно беседуют...
– И один из них – сотрудник редакции. "Салем" завезли в кафе напротив редакции в один день. И в один день расхватали... Хотя про гостя-коллегу пока просто предположение. Мало ли кто еще мог соблазниться пачкой. Забежал в кафе случайно и купил. Но допустим...
Нет, не просто допустим – у меня в запасе есть любопытный листик бумаги.
– Ну-ну, – говорит Сашка. – Пьют, значит, кофе...
– Трое из одной чашки, – педалирую я. – Видишь! И "Шипки" выкурено две к девяти "Салемам".
– А если один из них не курил, а баловался?
– Балуются как раз "Салемом". Значит, так. Пришел гость – Гатаев варит ему кофе. Себе – нет. Бережется – сердце. Сидят долго – девять сигарет по десять минут. Гатаев разносит в пух и прах стишки гостя. И тот уходит. Позже появляется второй. С "Шипкой". Явно не достоин чашки кофе. Пока не знаю, что там происходит, но Гатаев хватается за сердце, а гость... уходит. В панике. Или без паники... А?
– М-м-м... Ничего! Убедительно. Но! Ладно, пусть гости. И пусть один после другого. Что из того? Хозяин мог схватиться за сердце, уже проводив обоих и сев за машинку. Вот, кстати! Сидеть за машинкой при гостях не очень-то вежливо.
– Саша! Гатаев не мог работать после. Ночью стук машинки – как молотком по голове. Я бы на месте Гатаева сначала закрыл дверь в свою комнату. Квартира же с подселением.
– Ты же сам говорил... Что соседка в ночную смену работала.
– Тем не менее. И потом, не думаю, что Гатаев высчитывал, как его соседка работает. В любом случае при закрытых дверях ему спокойней. Вот мы с тобой вдвоем. Ты дверь закрываешь?..
– Да-а-а... Логично. А откуда ты взял, что Гатаев долбал какие-то стишки?
– На! – и я даю Сашке листик, который подобрал в комнате у Гатаева. И на листике напечатано:
Опять тепло подземных переходов,
И белыми полотнами дома.
С какого-то неведомого хода
Прокралась в осень хмурая зима.
Опять затянут город пеленою,
Опять несвоевременный налет.
Белеют облака над головою,
Как на веревках белое белье.
Автобусы – подстреленные птицы.
Не различить асфальтов и дорог,
А снег идет размашисто на принцип
И все меняет с головы до ног.
– Белиберда! – говорит Сашка. – Тем более откуда сентябрь, если сейчас август?.. Или он прошлый год имел в виду? Было такое... Какая-то у автора замедленная реакция... Ну ладно! Дальше-то что?
– Дальше переверни листик. Молодец! Читай. Можешь вслух.
И Сашка читает. На обороте написано карандашом:
Летят в корзину белые страницы,
Как на веревки белое белье
Пиит идет размашисто на принцип
И снова в руки карандаш берет.
Опять поэту нашему не спится
К друзьям несвоевременный налет.
Они сидят – подстреленные птицы,
Слова и мысли зная наперед.
– На-а-армально... – реагирует Сашка.
– Так вот. Видишь дату? Тот самый день. Соображаешь? "К друзьям несвоевременный налет" – соображаешь? Карандашом – это Гатаев. А сами стихи – на машинке, но не гатаевской. Шрифт другой.
– У нас в цехе есть поэт. Серега. В стенгазету пишет. "Мы чиним насосы. В маслах, в купоросах. Такие вопросы. Решать нам непросто". И в газету тоже посылал. Ему обратно все время приходит. Но – "с уважением". Там так и написано всякий раз... И в каждом цехе – по стенгазетному поэту. Представляешь, сколько их по всему городу?!
– Представляю, – говорю я. И представляю. А сам себе думаю...
И опять мы с Ю. А. Дробышевым сидим у него в кабинете. И я ему явно мешаю, ему явно надо работать. И я понимаю, в общем-то, что у него номер горит. Все-таки "районка" пять раз в неделю выходит. А сотрудников в газете не так уж много. Впрочем, теперь еще меньше. Гатаев...
Поэтому Ю. А. Дробышев сначала выдерживает меня с часик перед кабинетом. Но нет худа без добра, и я листаю подшивку, ищу фельетоны Гатаева, нахожу их только через газетных полгода – где вместо "и. о." стоит другая, незнакомая мне фамилия: редактора, ушедшего на пенсию. Читаю. Нравится...
Наконец Ю. А. Дробышев впускает меня. Сидим.
– А кто-нибудь знал о его больном сердце? – спрашиваю.
Ю. А. Дробышев оживает. Ему хочется помусолить эту тему. Снова суровый, удрученный мужчина отыскал жилетку. И он говорит, что никто и никогда, что у Лешки было больное самолюбие, что вот как раз редактора на пенсию провожали, что много съели-выпили, что духота... И Лешка там сломался. Только не там, а когда уже все разошлись, и они вдвоем до дому добирались. И Лешка зубы сцепил и повалился. Потом сам по стенке поднялся. Это когда друг Дробышев раскис и... заплакал. Потому что ни одного такси, и телефона рядом нет, и вообще на улице никого нет. И кому быть в два часа ночи? И вот Лешка сам поднялся по стенке. "Не пугай, – говорит, – сам себя!" Еще говорит: "Ну, перепил! Бывает со мной!" И они потихоньку добрели до его дома. Соседка не спала, вязала что-то на кухне. Лешка ее успокоил, называется! "Это, – говорит, – мы с проводов редактора! Вы же понимаете!.." А он и выпил-то всего две рюмки. Так вот...
Ю. А. Дробышев вздыхает, отгоняет воспоминания и облако дыма:
– Вы знаете, что журналист использует в фельетоне десятую часть собранного материала?
– А остальное?
– Хранится в папке до суда. До возможного суда. У Лешки как раз за три года до редакторских проводов суд был. Выиграл. Был такой "Терем-теремок" у него. Вот так-то... Вы давно у нас в городе?.. А, ну тогда не помните – до вас еще... Выиграть-то выиграл, но нервы... Вот и сломался... А "Будет музыка, будет вечная музыка" читали? А, вот сейчас, да?.. Это его последний опубликованный... Ну, вот. Лешку тогда избили. Он прямо к ним сунулся, к фарцовщикам. А они его избили. Утром приходит, говорит: "Это у меня лицо в клеточку – всю ночь на авоське спал..." А вы вот, милиция, кстати!.. А меры не принимаете! А хулиганья расплодилось!
Тут я разозлился. Потому что хорошо ему плакаться! И, как сам же Ю. А. Дробышев пишет, "многое еще предстоит сделать". Но, во-первых, меня тогда и в городе еще не было. А во-вторых, листал я сводки, знакомился, в бумагах копался – ни от какого Гатаева заявления в райотдел не поступало. А фарцовщики – народ тертый. Им реклама ни к чему. Это не алкаши на лужайке. Дела свои они делают тихо, даже если бьют. И еще! У Гатаева больное самолюбие. У Дробышева – тоже. Правда, своеобразное какое-то, самобичующее. А я что?!
– А мы вот, милиция, кстати, – говорю, – хотели бы выяснить, не знаком ли вам автор этих стихов.
– Знаком, – говорит Ю. А. Дробышев. – Это наш пиит. Ну, Бурилов Дима. Помните, я рассказывал? Конечно! Это его "Эрика". Видите – "д" западает. На ней еще только Селихов печатает, но он, слава богу, стихов не пишет. Зато какие у него экономические обзоры! И ведь фактура – цифры одни! А он так умеет читателя затянуть, заинтриговать! Вы читали?..
Я читал. На самом деле умеет. "Осень. Унылая пора, очей очарованье... Поэту вольно было совмещать два взаимоисключающих понятия. Но цифры однозначны, они не допускают двоякого толкования. Проанализируем, попробуем определить, что же получается на пороге осени у работников комбината. Унылая пора? Или очей очарованье?.." Да, умеет Селихов. Но раз уж он в материале поэта упоминает, то и сам, может быть, грешен? И стишки про снег в сентябре – его?
– Да что я, в конце концов! Своих сотрудников не знаю?! – это Ю. А. Дробышев поглаживает себя, пусть неосознанно, по своему своеобразному самолюбию. Все-таки на данном этапе он – и. о. редактора. И пусть этап этот продолжается пока недолго, но все же... Чувствует он себя неплохо. А чтобы и впредь так же себя чувствовать, рубрику "Фельетон" пока из газеты исключил – как подшивка показала. А с Гатаевым, наверно, дружески беседовал не раз, объяснял специфику момента, увещевал не торопиться, семь раз проверить... Дружески так... Все же как-никак семь лет за одной партой и так далее... Ну что же! Спокойно жить не запретишь. И либо мне кажется, либо я догадываюсь, почему Ю. А. Дробышев столь охотно пускается в воспоминания. "Поезд ушел", Гатаев со своими делами принципа уже не будоражит. Никаких хлопот... Впрочем, это снова мои домыслы. Это не факт, как говорит Куртов, который намылил бы мне шею за "мешанину"...
А Бурилов показался очень забавным. Все разошлись, а он за своей "Эрикой" стучит. Стихи? Точно!.. Ему очень хотелось выглядеть респектабельно. И, как всегда в таких случаях, получалось наоборот. Пиджак и цветастая рубашка велики – шея торчит из ворота чайной ложкой в стакане. ("Лирика!" – суровый Куртов!) Зато это были настоящие блайзер и батник. Манжеты батника прятались в рукавах блайзера, но поминутно вытягивались владельцем наружу (не пропадать же таким запонкам!). На подбородке росла колючая проволока, грозящая перерасти в жидкую бородку. А волосы старательно зачесаны с затылка на лоб, "Внутренний заем" – так это называется. Лысеет уже поэт Бурилов. Тяжек путь творческой личности. Где-то мне попадалось: "Поэт не должен быть ни толстым и ни лысым. Красавцем должен быть! И в этом главный смысл!"
Я кладу перед красавцем листик и спрашиваю, не он ли это потерял. Он говорит:
– Опять тепло подземных... Ага! Мои! – И вопрошает взглядом.
– Есть что-то общее с Рождественским, – говорю я, нагло льстя.
– Это что! – воссиял Бурилов. – Это еще не доведено до кондиции! Вот "Волосы" – на самом деле. Читали? – Он вытягивает из стола стопку вырезок и тщательно-небрежно пододвигает "Волосы".
Не надо беспокоить волосы!
Не надо прятать их назад!
Они, как дождевые полосы,
Исполосовывают взгляд...
Дальше я уже не читаю. Потому что раньше читал. Еще не в вырезках, а в литературной странице "районки" две недели назад. Откуда и вырезано. Только фамилия не Бурилов, а Крепкий. Ну, конечно! Псевдоним. То-то я Бурилова на страницах газеты не помню...
Но я все равно глазею в эти строчки, чтобы дать пииту время сообразить. И боковым зрением вижу, что он глазеет на листик, который я ему принес. И он сглатывает, а я отрываюсь наконец от "Волос". И Бурилов-Крепкий понимает, что с раздачей автографов надо будет подождать. И спрашивает:
– Вы-ы-ы... из милиции?
– Продолжайте, продолжайте! – подбадриваю.
– Я не виноват! – вдруг выпаливает он.
– В чем?
– Ни в чем!
– Правильно!
Вот наказание-то! Мама небось в детстве пугала: придет милиционер и посадит в мешок.
– А теперь, – говорю, – Дмитрий, расскажите подробно, как вы провели вечер у Гатаева.
И когда Ю. А. Дробышев выходит с деловитым видом, парой бумажек и фразой "Дима, тебе тут надо...", я говорю:
– Извините, нам тут надо...
– Извините, – говорит Ю. А. Дробышев.
– Это вы извините, – говорю Ю. А. Дробышеву.
– Пожалуйста, – говорит он. – Не буду мешать. Извините.
Так мы содержательно поговорили.
И пиит Крепкий, корреспондент отдела писем Бурилов, рассказал. Что пришел он к Гатаеву в десятом часу. Дверь у него еще там скрипит. Вот. Но это, наверно, не нужно. Что дал он, Бурилов, ему, Гатаеву, свои стихи. И тот их прочел и молчит. И он, Бурилов, спрашивает: ну, как? А Гатаев говорит: "Как сказал бы наш "старик", ты мысли читать умеешь?.. Ну, мое счастье!" И пошел кофе варить. Он всегда всех кофе угощает, а сам не пьет. Говорит... говорил: аллергия. Но это, наверно, не нужно. И он, Бурилов, ему, Гатаеву, рассказывал, что стихов уже набралось на сборник целый, и ему обещали... Но это, наверно, не нужно... И он, Бурилов, еще посидел... "Салем"? Ага! Это он, Бурилов, курил. Ой, угощайтесь... И правильно! В общем-то, он, Бурилов, тоже собирается бросать. А то накладно... А окурки, да, в тарелке гасил. Пепельницу не нашли... На батарее была?.. Н-н-ну, вот... и-и-и, и он, Бурилов, ушел... Да! Еще пока сидели, телефон раза три звонил. Алексей Матвеевич брал трубку и только "нукал". Потом потянулся и говорит: "Очень много разных мерзавцев ходит по нашей земле и вокруг". Ну, Маяковский... Но это, наверно, не нужно... Когда? А как раз полдвенадцатого пикало... И он, Бурилов, ушел...
Сашка слесарил в ночную смену. Выдернули – производственная необходимость, конец месяца и квартала. Оставил записку:
"Ты где-то ходишь, а за тобой уже приезжали. Из милиции!!! Мужик. Особые приметы: брюнет и злой. Расхлебывай. Расхлебаешь – прочисти свечи на колясках. Завтра – в седло. Понял?!"
Значит, брюнет Куртов уже приходил делать внушение. А что я сделал?! Просто сижу вот теперь у себя дома после общения с интересными людьми. Хочу – общаюсь!.. А пока жду, когда закипит чайник, разлепляю листы гатаевской записной книжки, склеенные пролитым кофе. И еще верчу "Спутник" соседа Сашки, который называет его усовершенствованным, а я называю изуродованным. И пытаюсь понять, что и где у этого магнитофона подключается и нажимается. Чтобы просто прослушать кассету, которую я уже слышал. В комнате Гатаева.
Записная книжка...
"Цветы и стихи – это свято. В больших городах, а наш город, безусловно, большой, нет горных массивов с порослями и зарослями эдельвейсов, но есть Садиевы с букетами. Отдать последние рубли за несколько гвоздик для дамы сердца, когда до получки еще неделя – тоже своеобразный подвиг. Почти то же, что влезть на что-нибудь неприступное и найти эдельвейс. И покупатель понимает это. Во всяком случае, чувствует голодным животом и... с гордостью-радостью отдает последнюю трешку-пятерку-десятку. Садиевы тоже понимают это и взвинчивают цены. Все равно купят... Проконсультироваться у "тепличников": почему это у них ничего не растет, а у спекулянта растет все... Садиев – повод. Проблема городская.
ЭТО ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ, ЯГОДКИ ВПЕРЕДИ... Проще. ЭТО ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ. Теперь ягодки... То есть фрукты. Они же в изобилии у Садиева и ему подобных, а в ОРСе... Снова выводить на ОРС, потребкооп и пр. Лето, почти осень, но весенние ассоциации: набухают карманы спекулянтов, зеленеют лица покупателей...
Блицинтервью с Садиевым...
Не уступил бы место женщине, даже сидя на электрическом стуле... Нет, не для Садиева. Это – Пожар. Жаль – проехали.
Пьянки – рискнуть на месте. Ив. – 26.08..."
Такая книжечка мне на сегодняшний вечер досталась. Вот тебе и "иду по следу". Следов наслежено... Тут выбирать надо... Садиев – спекулянт. Так я понимаю, что Гатаев от него хотел оттолкнуться и предъявить счет определенным хозяйственникам в городе. Которые считают, что на демонстрацию, к примеру, можно и с бумажным тюльпаном пойти, а свежие огурцы, шампиньоны, помидоры – да, товарищи, здесь у нас еще встречаются на отдельных участках отдельные недостатки, которые мы обязательно ликвидируем, как только решим более главные, определяющие задачи...
Судя по специфическому выговору на пленке, блицинтервью состоялось. Только где и когда? Недавно. А где? Хорошо, если на рынке. А если в дикорастущем "очаге", которых с десяток будет?.. Так. А зачем мне этот Садиев нужен?.. Очень просто! Фельетон еще не написан, только готовится. Врагов у фельетониста много. Делятся (грубо) на две категории: первая "опубликованные", горящие жаждой мести; вторые – "еще не опубликованные", горящие желанием не попасть на страницы. Садиев – вторая категория. М-мда?.. А не все ли ему равно, что о нем пишет местная пресса, если он скинет цветочки-ягодки и с чемоданом денег вернется домой жить-поживать, добра наживать на следующий сезон? Нет, не все равно, если говорит "под землей найду, на кусок резать буду, нож сюда войдет – отсюда выйдет". Интересно!..