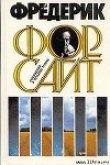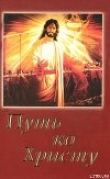Текст книги "Возвращение в Панджруд"
Автор книги: Андрей Волос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Как же вы учиться будете, хозяин?
– За барана с морковью, – хмыкнул Джафар, заворачивая лошадь в широко распахнутые ворота караван-сарая. – За индийскую пшеницу. Что непонятного?
Приглянувшаяся Джафару половина дома имела отдельный вход, состояла из двух комнат, а до медресе было минут пятнадцать неспешного ходу.
Хозяин оказался истый самаркандец – умильноприветливый, радушный, готовый на любую услугу. Однако помещение сдавал как есть – с голыми глиняными полами и стенами, что вынуждало постояльцев самим обзаводиться всем необходимым – подстилками, одеялами, какой-никакой посудишкой, казаном... Должно быть, знал, скопидом, что люди делятся на улиток и тараканов: первые весь свой скарб упрямо таскают с собой, вторые, как приходит время, несутся куда-то, побросав все лишнее. На том, что после очередных жильцов можно будет чем-нибудь добавочно поживиться, и строился расчет, так и выпиравший из бугристого лба умильного арендодателя.
Муслим отчаянно торговался, хватал лошадь под уздцы, намереваясь увести со двора, приводил в свидетели небо, своего хозяина и святого Хызра, воздевал руки и тряс ими, крича: “Да где ж такое видано, Господи!..” – короче говоря, в конце концов столковались.
Джафар не вмешивался, но когда ударили по рукам, заметил недобрую усмешку, на мгновение разрезавшую честный рот его слуги, – и подумал, что когда-нибудь Муслим найдет способ отыграться...
Утром следующего дня он, надев новехонький зеленый чапан и голубую чалму, ушел в медресе. Когда к вечеру вернулся, Муслим готовил ужин – жарил мясо в казане. Казан был отличный – большой медный казан, каким не каждый бай может похвалится: ну просто замечательный казан. В таком и на двоих приготовить не грех, а если нагрянут десятеро, то и тогда каждому достанется от пуза.
– Купил? – между делом поинтересовался Джафар.
– Купил! – фыркнул Муслим. – Вы, хозяин, как маленький, честное слово. Если нам такие казаны покупать!.. – он безнадежно махнул рукой: дескать, по миру пойдем с этакими-то покупками. – У этого взял, – он мотнул головой в сторону второй половины дома. – Завтра обещал отдать. Вы кушайте, хозяин, кушайте...
Дело повторялось: Муслим раз за разом обращался к хозяину дома с просьбой о казане. Морщась и вздыхая, тот отвечал обычно, что вот какая незадача: сам хотел кой-чего приготовить. Но раз уж дело такое, то деваться некуда, гость в доме – как птица в небе, без гостя нет жизни, ради гостя он собой поступится, – и давал, всякий раз получая фельс в качестве арендной платы.
Настал день, когда Джафар обнаружил в углу комнаты совсем маленький казанчик – ну просто игрушечный.
– Муслим, а мне варить яйцо ты не собираешься? – устало пошутил он.
– Почему?
– Потому что одно в этот наперсток кое-как поместится, – пояснил Джафар. – Но уж два – ни в коем разе.
– При чем тут яйца? – не принял шутки слуга. – Это для другого дела.
– Тоже в долг взял?
– Нет, – сухо отвечал Муслим. – Не в долг. Этот казан я купил.
– Зачем? – удивился Джафар.
Муслим вздохнул.
– Хозяин, подождите пару дней, скоро все узнаете. Одно могу сказать: вам от этого – одна выгода.
Уже следующим утром, возвращая, как обычно, домовладельцу большой казан, Муслим присовокупил к нему маленький.
– Это что? – подозрительно спросил домовладелец.
– А это, видите ли, казанчик, – с готовностью объяснил Муслим. – Похоже, от вашего родился. Вечером я один оставлял... даже остатков масла не слил... утром смотрю – два! И в маленьком – тоже масло!
– Масло?
– В том-то и дело! – тарахтел Муслим. – Просто чудеса какие-то. Я ни сном ни духом!..
– От моего? – хозяин крякнул, переводя одурелый взгляд с одного казана на другой.
– Ну да. По закону он тоже ваш.
– Мой? По какому закону?
– Ну, вы же понимаете: если я, к примеру, нанял у человека кобылу, привел к себе во двор, а она у меня возьми да как на грех ожеребись, то ведь я не только лошадь, но и жеребенка хозяину вернуть должен? Верно?
Самые нелепые утверждения находят отклик в человеческом сердце, если за ними брезжит хоть небольшая выгода.
– Верно, но...
– Ведь приплод? – добивал его Муслим. – Ведь так? То есть, я хочу сказать, если по закону.
– Приплод? – тупо повторил хозяин. – Нет, ну кобыла-то... она того... а казан?
Муслим развел руками: дескать, он лишь немой свидетель случившегося.
– Никогда я о таком не слыхивал, вот чтоб меня шайтан съел, – пробормотал домовладелец. – Но если ты говоришь: по закону...
– А как же! – с готовностью подхватил Муслим проклюнувшийся росток мысли, позволяющий выстроить разумные основания случившегося.
– Вы же сами про кобылу...
Хозяин помотал замороченной головой и сказал:
– Ну ладно, поставь там.
Как известно, хозяйство – вещь хлопотная: то шурпы надо сварить, то голубцов запарить. Поэтому Муслим (всякий раз исправно платя свои фельсы) брал большой казан еще два или три раза – до тех пор, пока однажды Джафар, вернувшись из медресе, не увидел в комнате другой казан
– такой же большой и гладкий как хозяйский, с крышкой и приданным ему капкиром, но все же другой: с клеймом иного мастера.
– Это еще что? – удивился Джафар.
– Это казан! – с гордостью объявил Муслим.
– Ты меня уже заморочил своими казанами. Вижу, что не корова. Чей?
– Наш.
– Наш?! Откуда?
– Откуда! Вы, хозяин, как маленький, честное слово. Будто не знаете, что все в мире, кроме людей, берется с базара.
– Ты что ж его – купил?
– Опять “купил”! Я ведь не сумасшедший, чтобы такие казаны покупать. Не купил, а поменял.
– На что поменял?
– На тот.
– Какой“тот”?
– Хозяйский.
– Как это? Чужой казан поменял?!
– А что такого? – Муслим беззаботно пожал плечами. – Я ж ему не говорил, что я его казан поменял на этот. Ему я сказал, что его казан умер. А если про этот спросит, скажу – купил.
Джафар расхохотался.
– Не смейтесь, хозяин. Все по закону. Если казан может дать приплод, то ведь он и умереть может? Вот, к примеру, взять кобылу...
– Ну бестия ты, Муслим! – смеялся Джафар. – Жалко, Хаким не знает о твоих проделках. Он бы тебе показал, чем кобыла от казана отличается.
– Старый господин меня бы похвалил, – возразил Муслим. – Правда, этот скупердяй грозит пойти к судье, да я намекнул, чтоб и думал забыл: соседи-то все слышали, сам хвастал, придурок, что у его казана малыш родился.
– Смотри, гореть тебе в адском пламени...
– Я перед тем воды побольше выпью, – хихикнул Муслим. – Потом сделаю так: пфу-у-у! – и все погаснет!
Стена поэтов. Юсуф. Мулла Бахани. Успех
Тот мальчишка, что при первой встрече насмешливо интересовался насчет баранов, оказался вовсе не мальчишкой. Юсуф был младше всего на два месяца. Просто тонкая кость, малорослость и какая-то детская просветленность, то и дело сквозившая в живом, искрящемся взгляде, и впрямь могли ввести в заблуждение насчет его возраста.
Джафар поздоровался.
– О! – обрадованно сказал тот, узнав его. – Что, взяли?
– Взяли. Вчера с мутаввали разговаривал...
– Сколько манов [37]37
Ман – мера веса, около 800 граммов. Как правило, студенты медресе получали стипендию трех разрядов – 35, 40, 50 манов пшеницы в год.
[Закрыть]?
– Пятьдесят, – с достоинством, как само собой разумеющееся, сообщил Джафар – но не удержался, расплылся в ликующей улыбке.
– Ничего себе! Поздравляю. Заплатил ему?
– Кому?
– Мутаввали.
– Мутаввали?
– Ну что ты как ребенок! – рассмеялся Юсуф. – Взятку давал? Или ты арабский так хорошо знаешь?
– Не давал я никаких взяток, – обиделся Джафар. – Арабский я знаю. Он меня по всему проверил!..
– Да ладно тебе. Если так, скоро сам мутаввали будешь, – Юсуф весело хлопнул его по плечу и неожиданно переменил тему: – А стихи пишешь?
Джафар замялся.
– Я-то? Да как сказать...
Ему не хотелось с первых слов выдавать всю подноготную. Да и потом – что он там в самом деле пишет? В Панджруде кое-кому нравились его незамысловатые песенки, это правда. Но здесь, в Самарканде, где люди на поэзии собаку съели!.. Поднимут на смех, вот и вся радость. Ишь, скажут, деревенщина. Посмотрите на него. Приехал, рифмоплет, Самарканд самодельными стишками завоевывать...
– А я пишу, – сообщил Юсуф. – Даже лакаб [38]38
Лакаб – поэтическая кличка, псевдоним поэта, обычно озвучивавшийся в последнем бейте стихотворения. Муради́ – посвященный одной цели, охваченный одной мыслью.
[Закрыть]себе выбрал! Муради!
– Муради? Хороший лакаб, – одобрил Джафар. – Нет, я как-то... занятий много... и вообще....
– Жалко, жалко...
Он почувствовал, что новый товарищ теряет к нему интерес.
– У нас тут многие пишут. Такие есть мастера! – Юсуф покачал головой. – Ну ладно, мне пора. Увидимся.
* * *
С возвышения, где громоздились строения Регистана, в центре которых возвышалась пустующая ныне цитадель (эмир Исмаил Самани давно перенес столицу в Бухару), был виден весь город: стены его, будто туго затянутый ремень (а башни как великанские кулаки), сжимали глиняную лепнину строений, тут и там выпиравшую буграми и неровностями, а в целом более всего похожую на сбитое на землю ласточкино гнездо; во множестве тачали минареты – почти все со сломленными в результате недавнего землетрясения верхушками.
За восточной окраиной лежал Афрасиаб – древний город великого царя и мага, история которого терялась во тьме тысячелетий. Говорили, маг построил много дворцов и городов, но этот – Самарканд – оставался лучшим и любимым. Он сделал его столицей мира, и все цари пришли поклониться ему и подтвердить покорность. Да, наверное... почему бы и нет? – в древности случилось много чудес, тайны древних героев никогда не будут разгаданы людьми...
Впрочем, ныне Афрасиаб представлял собой волнистую местность, заросшую солончаковой полынью, редкими кустами саксаула, покрытую тысячами намогильных насыпей и небольших курганов, какими гляделись оплывшие останки крепостных сооружений. Люди на Афрасиабе не селились, да и случайно оказаться тут после наступления темноты было опасно. По ночам над этими землями, будто огромные нетопыри, носились духи прошлого: молили мертвых встать из сухой земли, тщетно взывали и, злясь на их глухое молчание, с досады нападали на сбившихся с пути путников, безжалостно рвали смертоносными когтями забредших по неведению...
У Стены поэтов Джафар побывал еще в самый день приезда – не терпелось удостовериться, что и впрямь на земле есть место, где всяк может вывесить лоскут бумаги или пергамента со своими виршами.
Оказалось, Стена поэтов существует на самом деле, однако пергамента на ней нет и в помине, да и бумагу нескоро обнаружишь – но, может, в конце концов и попадется лоскут-другой.
Длинная восточная стена Регистана была сплошь завешена сухими капустными листьями. В сущности, бумаге они уступали лишь тем, что лохматились по краям, но если не обращать внимания, что калам – тростниковое перо – то и дело спотыкается на жилках, на каждом из них вполне удавалось навалять пару-другую бейтов. Что, собственно говоря, уже и сделали неведомые стихотворцы.
Если налетал ветер, новая стайка страниц этой странной книги слетала и, печально шурша, уносила свои слова вниз по склону, где они застревали в щетинистой траве.
На убыль никто не обращал внимания – должно быть, оставшихся хватало с избытком.
Когда Джафар остановился поодаль, чтобы приглядеться, у Стены прохаживался десяток-другой молодых людей. Похоже, все они хорошо знали друг друга: весело переговаривались, смеялись. То и дело кто-нибудь выкрикивал стихотворные строки (Джафару не всегда удавалось расслышать, какие именно), и, как правило, все снова покатывались со смеху. Иные переходили от одной группы к другой, разнося, должно быть, удачные шутки, а то еще показывали пальцами на те или иные испещренные вязью капустные листы и снова хохотали, хлопая себя по коленкам, – то есть, судя по всему, эта публика имела достаточно досуга, чтобы в довольно ранний утренний час обсуждать новинки поэзии, появившиеся за ночь.
Через пару минут со стороны мечети Шахп-Зинда показался торопливо шагавший. У него было не так много времени, как у прочих, – мельком кивнув кому-то из знакомых, он без долгих слов приколол свой лист, отступил на шаг, пристально в него вглядываясь (должно быть, перечитывал напоследок), обреченно махнул рукой и пошагал обратно.
Как только он удалился на приличествующее расстояние, поэты слетелись к новому стихотворению, будто стая ворон на свежую падаль. Один громко и с выражением прочел новоиспеченные вирши. Присутствующие раскололись на две примерно равные по численности партии. Представители одной еще во время чтения выкрикивали одобрительные возгласы, сторонники другой взрывались издевательским смехом. Одни кричали, что новое творение Салама Шахиди чудо как хорошо, сам он – баловень судьбы и гений; другие – что стихотворение никуда не годится, а Шахиди – всем известный бездарь, да и на руку нечист: месяца не прошло, как его уличили в плагиате: украл у одного одаренного парня из Балха – Шахида Балхи – его лучшие строки и вывесил тут, пытаясь выдать за свои. Да кто ж поверит, что он сам сумел по-человечески связать пару слов?
Завязалась перепалка, но до потасовки дело не дошло.
Скоро все успокоилось, и снова праздные стихоплеты прохаживались у Стены, неспешно беседуя друг с другом или жарко, с сердцем, убеждая в чем-то оппонента.
Джафар робко приблизился и стал рассматривать вывешенное. Стихи были преимущественно на родном языке, но попадались и на арабском, и даже на пехлеви.
Много встречалось четверостиший – рубай. Большая часть озвучивала давно известные образы, отличаясь друг от друга почти исключительно степенью корявости, с какой слагались в них неструганые слова. Зато одно оказалось просто блестящим. Правда, с первого прочтения оно показалось Джафару обидным, даже оскорбительным. Ведь он сам собирался стать муллой, а речь в рубаи шла именно о муллах, да с такой насмешкой, что невольно охватывала злость: дескать, великое счастье, что глупости мулл соответствует их толщина, а не высота, – потому что в противном случае солнце, до которого им было бы рукой подать, испепелило бы их пустые тыковки.
Однако все четыре строки и каждый слог так ладно прилегали друг к другу, так перекликались и аукали, что рубаи звенело, будто выкованное из серебра. А виртуозная составная рифма, занимавшая половину каждой строки и все три раза удивлявшая новым изяществом и точностью, скрепляла его намертво. Третья строка, не имевшая рифмы, тоже была не проста – вся она крепко и звонко держалась на повторении одного и того же ударного звука: – Э! – э – э! – э – э! – э! – и при желании ее можно было расписать в три одинаково рифмующихся бейта.
Джафар перечел еще раз – уже на память – и хмыкнул, понимая, что теперь никогда этой жемчужинки не забудет, как бы при этом он сам ни относился к муллам.
Встречались и большие тексты – касыды. Одна из них, например, на бесчисленных листах, повешенных друг за другом сверху вниз (следовало полагать, автору сего пришлось сгрызть немало кочерыжек), рассказывала о деяниях Сияуша.
Автор этой многолистной поэмы мог оказаться сейчас в числе тех, кто прохаживается у Стены, поэтому Джафар старался проглядывать написанное совершенно невозмутимо, ничем не показывал, нравится ему прочитанное или нет, и лишь легким притопыванием обутой стопы о землю обивал ритм произведения.
Надо сказать, это было не так просто – ритм гулял как хотел, то и дело съезжая с аруза на хазадж и обратно.
При этом автор понимал, что тщится поведать людям о событиях грандиозных, великих, и, в соответствии с описываемыми предметами, стремился и свой текст сделать как можно более внушительным и монументальным.
Поэтому конь Сияуша, называемый “животным о четырех копытах с длинными ногами, мощными как у слона”, был величиной “с половину подлунного мира” (“не покрытого водой” – зачем-то уточнял автор). О жестокости битвы говорило, в частности, то, что “от дрожи земли под копытами все враги умерли от страха” – и с кем тогда, спрашивается, оставалось воевать Сияушу? А меч героя “захлебываясь, пил кровь врага”, и если бы этот образ не был таким затасканным, а далее не оказывалось, что вдобавок он “жадно ел точильный камень”, то эта строка могла бы показаться совершенно удачной.
Некоторые пассажи были настолько нелепы, что Джафар, силясь сдержать смех, сначала покраснел от натуги, а потом все-таки прыснул, испуганно при этом оглянувшись: не видел ли кто?
Сравнения выглядели явно натянутыми.
Однако – что такое сравнения? В конце концов, одному они кажутся смехотворными (ему, например, казались), а другого необъяснимым образом приводят в восхищение. Они со стариком муллой Абусадыком часто толковали об удивительной разности человеческих вкусов, одинаково признавая их необъяснимость: что одному маслом по сердцу, другому просто вилы в бок. Абусадык тоже изредка пописывал, но главное – в прежние годы прочел деваны [39]39
Деван (девон, диван) – собрание стихотворений, стихотворная книга какого-нибудь одного поэта, но не в современном значении этого слова, поскольку обычно девон складывался не самим поэтом, а его почитателями.
[Закрыть]самых знаменитых тогда арабских и аджамских поэтов и многое, самое яркое, помнил наизусть.
Нет, дело было не в сравнениях, а в звуках. Даже тот, кому понравились сравнения, должен был бы признать, что звукам здесь живется довольно горестно – как пленникам в цепях и путах.
Каждый из них был сунут в строку насильно, с надсадой, а потому дыбился и выпирал. Вбитые, как гнущиеся медные гвозди в арчовую доску, и чередуясь самым причудливым и дурацким образом, они заставляли чтеца то каркать, то икать: он то заикался, озвучивая столкнувшиеся в одной строке три долгие гласные, то пырхал на четырех сомкнувшихся согласных и в целом ворочал языком с такой натугой, будто дожевывал вязкий плод зеленой айвы.
Стихи крякали, пыхтели, страдали одышкой, хромотой и еще невесть какими недугами. В конце концов они заставляли сердце читателя биться – но не от высокого поэтического волнения, а от болезненной жалости к судьбе этих несчастных.
– Что, парень, местечко ищешь?
Джафар обернулся.
Молодой человек лет двадцати был одет в цветастый чапан, а лисий верх шапки намекал на его более или менее знатное происхождение.
– Я? – переспросил Джафар.
– Ну не я же! – хмыкнул юноша. – Я свое уже повесил. Ты пишешь?
Джафар вспыхнул от смущения и едва удержался, чтобы не кивнуть.
Пишет ли он? Да, он пишет. Но признаться в этом здесь, у знаменитой на весь Аджам самаркандской Стены поэтов, с которой каждый лист кричал о том, как много в мире людей, сочиняющих стихи, с какой жадностью ждут они одобрения и похвалы, как мечтают стать знаменитыми...
Признаться в том же и встать с ними в один ряд? – нет, это было совершенно невозможно.
– Я? – снова переспросил Джафар, залившись краской от нелепости собственного поведения.
– Вот баран! – с досадой сказал человек в лисьей шапке и, покачав головой, пошел к своим.
Джафар побродил еще некоторое время, проглядывая вирши и прислушиваясь к болтовне завсегдатаев, а вернувшись домой, наказал Муслиму купить четыре больших кочана капусты.
* * *
Прошло дней пять.
– Муслим! – шипел Джафар (всегда робеешь говорить в такой час полным голосом). – Вставай, говорю!
Ночь еще покрывала город глухим черным платком.
–А? Что?
Муслим заворочался, сел, уставился на трепещущий фитилек масляного каганца, безуспешно пытаясь осознать, что, собственно говоря, происходит.
– Давай! – торопил его Джафар. – Иди!
Муслим потряс головой.
– Да-да, – пробормотал он. – Иду, да... куда идти?
Но, видимо, уже отчасти проснулся, поскольку жалобно заныл:
– Да вы чего, хозяин?! Ночь на дворе! Мы же договаривались: под утро!
– Сейчас и есть под утро! – шипел Джафар. – Именно что под утро! Через час уже светло будет!
– Вот заберет меня стража, – ворчал Муслим, шаря вокруг себя в поисках сапог. – Вот тогда посмотрите... будете из ямы вытаскивать... денег одних сколько...
– Давай скорей, болван!
– Ну конечно, болван. Муслим – болван, что тут спорить. Если б не был болван, вернулся бы в Панджруд... к старому Хакиму... да где же они?
Джафар яростно пнул стоявшие в углу муслимовы сапоги, и один из них чуть не угодил тому в физиономию.
– Спасибо, хозяин, – чинно поблагодарил Муслим. – Так и так, сказал бы, внучок ваш совсем сбрендил... вместо того чтобы учиться, все стишки какие-то.
– На! – сурово сказал Джафар, протягивая ему густо исписанный капустный лист. – Да смотри у меня! На видное место вешай! И крепко! Чтоб ветер не сорвал!
– Это мы можем понимать, – бухтел Муслим, нахлобучив кулях и путаясь теперь в рукавах чапана. – Ветер, конечно... как дунет – все труды насмарку. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!.. Что ж за мука-то такая, господи. Ни свет ни заря.
Джафар запер за ним калитку и вернулся в дом.
Стихотворение он написал нынче вечером. Раньше не мог, потому что капустные листы не просохли. А как просохли – так и написал. Быстро написал, солнце не успело переползти с верхушки растущей во дворе молодой сливы к краю крыши, а уже все было готово. Потом, правда, раз шесть перебеливал, но как такового перебеливания не получалось, потому что каждый бейт всякий раз облекался неожиданно по-новому.
Вообще, все это, как всегда, случилось как-то само собой, как будто вовсе без его участия: кто-то пришел и все сделал, а он потом только прочел и удивился, как складно все вышло. Или, скажем, задремал, увидел приятный сон, а когда вздрогнул и раскрыл глаза, исчерканные капустные листы валялись по всей комнате, а последний, с окончательным вариантом, лежал перед ним, и даже чернила еще не высохли на его желто-зеленой поверхности.
Темнота в слюдяном, размером в кулак, оконце сделалась белесой.
Джафар представлял, как Муслим бредет по темным улочкам... вот наконец выходит к Регистану... шагает к Стене... Вот нашел подходящее место, пришпилил... побрел назад...
Наверное, Муслим был самым первым, и его никто не видел. Уже через час туда поспешат все, кому не терпится похвастаться плодами ночных бдений. А когда солнце залезет на верхушку минарета Шахи-Зинда, к Стене поэтов сойдутся праздношатающиеся любители стихотворчества – и те, кто уже был здесь рано утром, а теперь хочет услышать, что толкуют о его виршах, как оценивают, хвалят или ругают; и те, кто сам сегодня ничего не пытался обнародовать, но желает почитать, оценить, обсудить, хихикнуть, побрюзжать насчет неточности рифм, натужности образов или просто ошибок языка, выдающих в авторе человека не то малообразованного, не то просто глухого к говору соплеменников...
Он содрогнулся, осознав, что и его творение тоже окажется под взорами чужих глаз!.. Зачем он это сделал?! Может быть, еще не поздно кинуться следом, догнать, вырвать, порвать в клочки? Ужасно! Ведь это – как будто самому раздеться и встать посреди площади, чтобы все на него показывали и хохотали!..
Он метался по комнатенке, не замечая, что дышит так, будто взобрался на гору.
Нет, поздно... еще увидит кто-нибудь.
Ах, ладно, пускай!..
А вдруг... а вдруг кто-нибудь заметит?.. обратит внимание?
Не нужно, не нужно об этом мечтать! Забыть! Ничего не было! Он не писал! Муслим не ходил! Капуста не сохла! Ничего, ничего, ничего!..
А если... если, наоборот, никто даже и не увидит? Повисит день, другой... а потом ветер сорвет, чтобы унести по склону. И все, что он так старательно выискивал – все созвучия, все переклички смыслов, – все это истлеет и будет размыто дождем. Никому не нужно, никому!..
Встал на колени, принялся было молиться, но тут послышался стук в калитку, – вскочил, выбежал, отпер.
– Повесил?
– А что не повесить? – буркнул Муслим. – Это же не жернов... как сказали, так и повесил.
– Крепко? Не сдует?
– Да не сдует, не сдует. Что вы, хозяин, как маленький, честное слово, – завел было он свою обычную песню, но Джафар так дернулся и так глянул, что Муслим замолк и пошел от греха подальше в другой конец двора – разводить огонь под кумганом.
Джафар сел на колоду, сжав голову ладонями. В висках что-то резко постукивало, казалось, два птенца с двух сторон головы собрались пробить скорлупу и выбраться на волю.
– Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Вся хвала надлежит Тебе, Владыке Миров, – шептал он, крепче и крепче сжимая виски. – Дай мне сил и терпения!..
– Что с вами, хозяин? – испуганно спросил Муслим, садясь около него на корточки и по-собачьи заглядывая в глаза.
– Ничего, ничего... хорошо все. Давай чаю, да мне идти пора.
Он решил – сегодня стерпит, не пойдет к Стене.
Завтра. Завтра пойдет.
Если к тому времени его стихи сдует ветер – это судьба.
Если их никто не заметит – тоже судьба.
Но он узнает об этом не сегодня.
Нет, он выдержит.
Завтра.
* * *
Занятия начинались общей молитвой. Потом чтение Корана. Мулла Бахани сам выбирал суру. “Корова!” – с одышкой говорил он и показывал толстым пальцем на какого-нибудь из учеников. Или “Вырывающие”. Мулла Бахани мог произнести название любой из всех ста четырнадцати сур. Сам он знал их на память – каждую, от первого до последнего слова. “Смоковница!” – говорил он и указывал на одного из них.
Если это был хороший ученик, он тоже шпарил наизусть. Если хуже, подползал на коленях к Книге, лежавшей около муллы, осторожно перелистывая, находил нужное и бойко тарабанил. Если оказывался совсем плохой, читал с запинками, а то и вовсе не мог понять или произнести какого-нибудь слова.
Мулле Бахани было все равно – он подремывал, тяжелым мешком сала развалившись в подушках, изредка приподнимая отяжелевшие веки и кивая чему-то. Чему именно – Джафар никак не мог уловить: мулла кивал и плохим, и хорошим.
Часа через полтора или два чтение заканчивалось. Начинался тафсир – толкование прочитанного.
Для толкования мулла Бахани выбирал самых резвых. Тупицы должны были молча слушать и запоминать, потому что если позволить говорить, тут же сойдешь с ума от их блеяния.
На общий намаз шли в мечеть. Подчас заглядывал и мутаввали, и тогда сначала все муллы, а затем и ученики, низко сгибаясь, подходили к нему, чтобы приложиться к руке.
После намаза возвращались в класс.
Мулла Бахани, щурясь, выглядывал кого-нибудь из учеников (старался справедливо чередовать) и поручал принести ему с базара большую касу шурпы или плова – каши из индийской пшеницы с мясом, морковью и пряностями.
Юсуф возмущался такой постановкой дела.
– Почему я должен покупать шурпу этому жирному?! Разве это справедливо?! – горячился он, когда несколько дней назад они с Джафаром на пару вышли со двора училища. – Что за издевательство? Откуда у меня деньги? Я ему осенью полбарана купил, полмешка зерна, моркови. Весной то же самое. Так еще и шурпу эту, будь она неладна, чуть ли не каждую неделю таскай. Вот не понесу в следующий раз, как Бог свят, не понесу!
И точно, не понес. Мулла указал на него пальцем, Юсуф покорно ушел, а вернулся часа через два, когда голодный мулла Бахани уже пребывал в состоянии совершенного изнеможения.
Вернулся, но – без шурпы.
Он стоял в дверях, безвольно опустив руки и покорно склонив голову, а мулла Бахани смотрел на него тяжелым взглядом, в котором, как ни странно, все же поблескивала искорка любопытства.
– Ты не принес шурпы? – спросил он таким тоном, будто до конца не верил в случившееся. Так спрашивают: ты не веришь в Бога? Или: ты убил отца?!
Юсуф развел руками – мол, сами видите.
– Почему?
– У меня есть на это девятнадцать причин! – смело ответил нарушитель порядка.
Мулла помолчал.
– Назови первую.
– Во-первых, у меня не было денег, – сообщил Юсуф.
– Хватит, – сказал мулла Бахани, сопя. – Остальные восемнадцать оставь при себе. Расходитесь, занятия окончены. Я не собираюсь умирать тут с голоду. Завтра проверка по арабскому. Кто не сдаст, будет лишен пособия.
Выйдя во двор, парни дружно накинулись на Юсуфа: если мулла захочет, он из-за проделок одного всем устроит такую веселую жизнь, что небо с овчинку покажется. Ты слышал?! – проверка! Может, это ты богач, а для многих тут каждый ман хлеба на счету. Как тебе не стыдно? Он же всех сгноит. Десять лет будешь сидеть, чтобы ярлык получить! Что за глупость?! Надо, надо покупать ему шурпу!
– У тебя пяти фельсов нет на эту поганую шурпу?! – кричал Рушан, сын карминейского судьи. – Я буду давать тебе деньги, только веди себя прилично.
– Не надо мне твоих денег! У меня свои есть. Но это несправедливо. Почему мы должны кормить его?! Он в сто раз богаче всех нас вместе взятых!..
Юсуф, несомненно, был прав, Джафар и сам так думал. Что касается Рушана, сына судьи, то с ним однажды Юсуф поспорил всерьез, дело едва не кончилось дракой, Джафару пришлось заступаться. Началось с пустяка, но вдруг перешло на вещи серьезные.
– Справедливость – это закон и порядок, – самодовольно посмеиваясь, говорил Рушан. – Только глупец этого не понимает.
– Всякий закон? – вкрадчиво любопытствовал Юсуф.
– Всякий. Как бы плох ни был закон, но если он есть, то все идет своим порядком. А если идет своим порядком – это и значит, что порядок есть. А если есть порядок, если он не нарушается – есть и справедливость. Вот когда рушится закон – от справедливости не остается и следа.
– И что же, – спрашивал Юсуф, щурясь. – Если раб трудится на поле, а хозяин его за это исправно кормит, предоставляет клочок крыши над головой и не надевает колодки – это справедливость?
– Ну да, – кивал Рушан. – Конечно, так и есть.
– А если хозяин не обеспечивает его всем необходимым для поддержания жизни или, например, раб ворует хозяйское зерно или просто бежит – это несправедливость?
– Несомненно, – подтверждал Рушан, покровительственно улыбаясь: как можно не понимать таких простых вещей. – Разве справедливо, когда хозяин не кормит раба?
– А разве справедливо, что он раб? – взвился Юсуф. – Почему он должен быть рабом? Чем он отличается от хозяина?
– Ты хочешь сказать, что... – Рушан был явно озадачен таким поворотом.
– Я хочу сказать, что он такой же человек, и несправедливо, что его сделали рабом.
– Ну да, такой же – две ноги, две руки... Но ведь он попал в плен? И его продали на невольничьем рынке... а хозяин купил. Верно?
– И что?
– Как что? Он заплатил деньги за этого раба... поэтому теперь раб должен работать. А хозяин – кормить.
Юсуф возмущенно фыркнул.
– С чего ты взял, что это справедливо?!
– Все это знают. А ты наслушался этого своего христианина, вот и думаешь, что все должно быть по его словам. И правильно, что твой отец его продал. Иначе он бы совсем твои мозги свернул!
Отец Юсуфа действительно владел когда-то рабом-христпанином. По словам Юсуфа, этот раб был добрым человеком. Он мастерил свистульки, строил запруды на ручье, чтобы заставить крутиться водяные колеса... ну и рассказывал иногда, как жил прежде.
Его все любили. И отец любил. Но потом отец продал румийца.
Григорий знал румскую грамоту, а кому-то из купцов понадобился переводчик. Предложили хорошие деньги, а отец обеднел к тому времени – и продал.
Юсуф побледнел, напрягаясь.
– Разве справедливо, что с ним обошлись как с вещью?
– Если что-то продается и покупается, значит, это и есть вещь.
– Ах вот как!.. А разве справедливо, что один владеет многим, а многие ничем? Да вот хотя бы и на тебя посмотреть. Твой отец – главный судья Кермине, казикалон. Я сам из Кермине, я знаю. Ваши поля тянутся на десяток фарсахов. Твой отец владеет сотнями крестьян, которые возделывают землю. Он купается в роскоши, хотя не шевелит и пальцем, а те, кто солят его землю своим потом, рады, если на вечер у них есть одна лепешка... Разве это справедливо?!