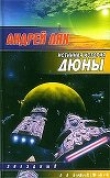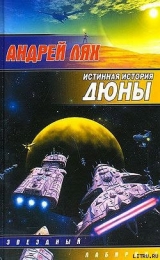
Текст книги "Истинная история Дюны"
Автор книги: Андрей Лях
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
В результате итоги джихада иначе как катастрофическими назвать нельзя. Реальные данные здесь искажены и фальсифицированы еще более, нежели везде, но уровень потерь в семьдесят-восемьдесят процентов просчитывается несомненно. На Арракисе любая статистика очень и очень приблизительна, но данные на двести тринадцатый год позволяют говорить о том, что мужское население Дюны было выбито по крайней мере на треть. Арракин превратился в город инвалидов – нигде и никогда не видели столько калек и увечных. Таким образом – к слову о сорока тысячах миров, – единственной планетой, в полной мере испытавшей на себе ужасы джихада, оказалась сама Дюна.
Но джихад имел еще одно, очень далеко идущее последствие, о котором даже вскользь упоминается в соответствующей беллетристике. Девять десятых уцелевших и вышедших в отставку ветеранов возвращались обратно на Дюну, и подавляющее большинство из них Муад’Диб брал на собственную военную службу, куда они, не имея ни профессии, ни работы, шли весьма охотно. Наученный опытом общения с ландсраатом, император не жалел денег на вооруженные силы, и к началу десятых годов сложилась парадоксальная ситуация: на все более пустеющих просторах севера обеих песочниц располагалась и год от года увеличивала мощь оснащенная новейшим вооружением восьмисоттысячная армия. Составляли ее не только магрибские фримены, но и немалая часть других северо-западных кланов, там можно было встретить уроженцев Хорремшаха, Хаммады и даже выходцев из такого дальнего предела, как Бааль-Дахар, так что зона императорского влияния на Арракисе серьезно расширилась и Пол Атридес куда более уверенным взглядом мог смотреть на непокорный юг.
Чем же еще занят император в эти смутные годы? Во-первых и в главных, он строит в Арракине императорский дворец. Муад’Диб будет строить его всю жизнь, и все-таки этот архитектурный кошмар невозможного смешения всех существующих стилей так и остался незаконченным. Мне он больше всего напоминает иофановский Дворец Советов, разве что без циклопического идола на макушке, и еще с той разницей, что дюнский монстр был еще странным образом вытянут в длину, отчего – особенно при взгляде с воздуха – приобрел сходство не то с железнодорожным вагоном, не то с лагерным бараком. Можно лишь пожалеть о чудовищных количествах великолепного местного и привозного камня, затраченного на отделку.
Во-вторых, большую часть свободного от строительного надзора времени Муад’Диб тратил на плач и жалобы, которые имперские средства массовой информации, а также дипломатические службы немедленно разносили по всему свету. В основном император страдал из-за того, что никак не может остановить ту самую священную войну, на которую почти еженедельно отправлял все новые партии своих подданных. Звучало это обычно так: после длинного нравоучительного вступления он произносил несвязный ворох неудобопонятных фраз мистического содержания, а затем, с неизменным рыданием в голосе, заключал: «…и тогда я остановлю джихад». Так бедняга переживал все одиннадцать лет избиения собственного народа, ни разу пальцем не шевельнув, дабы что-то предпринять на самом деле.
Своим излияниям император предавался во многих местах, но особое предпочтение отдавал могиле отца, несколько неожиданно появившейся в Арракине полтора года спустя после воцарения Муад’Диба. На нее взгромоздили обломок скалы, напоминающей петербургский Гром-камень, но вместо великого самодержца с лошадью и змеей на него регулярно забирался сам Муад’Диб, и перед специально собранной публикой, на три четверти состоящей из невольников своей доли – дипломатов и журналистов, – произносил мрачные речи, год от года все длиннее и зануднее.
Еще время от времени император заседал в своем карманном парламенте, среди верных наибов, глав фрименских родов, давно переведенных на роли фольклорных статистов – это были те самые, описанные Толстым, тесемки внутри кареты, держась за которые, ребенок думает, что правит. Бог знает, что за решения они там принимали – никаких протоколов не велось, и по значению эти уютные домашние спектакли вряд ли выходили за пределы дворца.
Исходя из всего этого, весьма закономерным кажется тот факт, что с годами Муад’Диб все больше и больше начинал копировать манеры и привычки императора Шаддама. Был воспроизведен весь этикет предыдущего двора, тщательно восстановлена атрибутика и, вслед за Шаддамом, Атридес с увлечением занялся игрой в политику с побитым молью орденом Бене Гессерит, вожди которого быстро превращались в незатейливых дворцовых прихлебателей. Император, однако, относился к этим развлечениям вполне серьезно и даже выписал для них из ссылки превратившуюся в ветхую старушку Хелен Моахим!
* * *
Но Арракин – это еще далеко не вся Дюна, и за горами Защитной Стены закипали страсти самые неподдельные. Восточным оплотом Империи стал Хайдарабад, вотчина Абу Резуни Стилгара, второй по величине город Большого Рифта. Расположенный в седловине основного хребта, который, происходи дело на Земле, непременно назвали бы Водораздельным, Хайдарабад господствовал над севером обеих пустынь, над торговым трактом между ними и над значительной частью уходящих на юг ущелий Центрального Рифта. Первый вельможа государства, министр обороны и внутренних дел, Стилгар получил власть, о которой прежде мог только мечтать, но все же происходящие перемены озадачивали его и сбивали с толку до такой степени, что временами он чувствовал себя не в своей тарелке и о многих вещах старался просто не думать.
Абу Резуни оказался слугой того самого ненавистного режима, с которым неустанно боролся все свои пятьдесят пять лет, а его воины стали костяком императорской гвардии. От новой власти фримены не получили по спайсу никакого контракта – ни лицензий, ни отчислений, – как и в харконненскую эпоху, меланж полностью вывозился федеральными подрядчиками, и на Дюне по-прежнему пышным цветом цвела контрабанда, и совершенно так же, как и Харконнены, Муад’Диб начал беспощадно с ней бороться, но теперь уже руками Стилгара и его соплеменников.
Для Абу Резуни война с соседями и подчинение себе других родовых группировок было обычным делом, ни малейших иллюзий насчет цены власти и богатства он не питал, и стоять на пути у сходящей лавины отнюдь не собирался, однако прекрасно понимал, что в глазах всей пустыни становится отступником и предателем, причем традиционным отступником и предателем – он был далеко не первым лидером Сопротивления, перешедшим на сторону оккупационных властей. Даже часть родни отшатнулась от новоявленного блюстителя имперских интересов. Ко всему прочему, компенсацию за потерю доходов от контрабанды Муад’Диб предлагал более чем скромную, свято полагая, что любой житель Дюны должен быть счастлив уже тем, что выполняет волю императора – а Стилгар знал, что политика одного кнута в отсутствие пряника, как правило, приводит к результатам противоположным задуманному. Юго-Восточный Рифт, владения Конфедерации Южных Эмиратов, где ныне сосредоточились основные запасы меланжа, постепенно сплачивал вокруг себя всех недовольных, в пустыне все четче проступала невидимая граница, и Стилгар все чаще хмурил брови – опыт подсказывал ему, что границы имеют дурное свойство превращаться в линии фронта.
Хайдарабад – это не только военная база императора, это еще и один из красивейших городов Дюны, звезда Северного Рифта и, ко всему прочему, резиденция могущественной сестры Муад’Диба – Алии. Хайдарабад – дитя высокогорья, он стоит на стыке трех ущелий, трех горных долин. В какие-то давние времена река, бежавшая с севера, натолкнулась на неподатливый гранитный клин и разделилась на два потока, правый и левый, проложившие себе путь сквозь кручи и оставившие между собой гигантский, похожий на корабль, выступ. На самом его обрыве, над местом слияния горных проходов, воздвигнут многобашенный храм аль-Макаха, более известный как храм Алии, с которого в широкой горловине разошедшихся каменных стен открывается изумительный вид на далекие заснеженные хребты.
Если Арракин – это бесформенное пятно произвольно рассыпанных зданий на ровном плоскогорье, которое подземные силы подняли над пустыней, то Хайдарабад буквально врос в окружающие скалы. Здесь, как в знаменитой Петре, много домов просто вырезано в камне, а те, что сложены человеческими руками, кажутся их естественным продолжением, – но однообразия, подобного пчелиным сотам, тут нет, каждый дом несет на себе печать фантазии своего создателя. Все вместе, в ансамбле, они напоминают творения Гауди – прихотливость, схожесть с природными формами, и ни одной прямой линии. В архитектуре Хайдарабада, опять-таки в отличие от арракинского официоза, ясно читаются этапы развития пустынного зодчества, отражающие вехи в противостоянии жестокому, беспощадному климату: сооружения более ранних эпох – дома с непомерно толстыми стенами и большими, неразделенными внутренними объемами – аналоги пещер, не поддающиеся прогреву самого безжалостного солнца; далее, с приходом новых материалов, появляются дома-матрешки, словно вставленные один в другой, со сложными навесными фасадами, двойными и тройными крышами, усиливающими тень и создающими многочисленные воздушные прослойки. Ниже по склону встречаются жилища, построенные уже в более мягкие времена – с верандами, колоннадами и небольшими садами во внутренних двориках, куда подводятся трубы водосборных устройств.
Такой многоуровневый дом, состоящий из нескольких, заключенных друг в друге изолированных зон, защищал не только от жары, но и от вездесущего песка, хотя обычно для этой цели применяли куда более простое решение – фильтры типа «циклон». Это бесхитростное изобретение прекрасно работало даже во время песчаных бурь: вентиляция осуществлялась не при помощи окон и дверей, как правило герметично закрытых, а за счет коленчатых ходов в стенах, проходивших через воронкообразную камеру с пескосборником. При входе в камеру воздушное давление неизбежно падало, песчинки теряли «убойную силу» и осыпались вниз. Практически любой фримен мог позволить себе установить электронную систему искусственного климата с многоступенчатой фильтрацией и кондиционером-увлажнителем, но Свободные не спешили отказываться от дедовских методов.
Алия вернулась в Хайдарабад по просьбе Пола – в начале двухсотых годов он еще безоглядно доверял сестре и хотел иметь в восточной столице верные глаза и уши. Ничего удивительного в таком выборе не было – дочь Джессики и Лето Атридеса родилась и выросла в Хайдарабаде, дом Стилгара считала своим, а двух его жен, сыновей и дочерей – своей семьей. Фарух, старший сын Стилгара (будущий король Объединенных Эмиратов Фарух I), был влюблен в свою светловолосую названную сестру до конца своих дней.
Революция двести первого года тоже застала Алию в Хайдарабаде, и лишь годы спустя она с изумлением узнала, что, оказывается, в двухлетнем возрасте была захвачена сардукарами, доставлена к императорскому двору, где разговаривала с самим Шаддамом IV, после чего собственноручно убила родного дедушку – барона Владимира.
В то время Алия была в полном восторге от своего брата. Он герой, он красавец, его все слушаются, и он поселил ее во дворце! Сколь бы ни было велико влияние таинственной генетической памяти, но какая же девочка в девять лет не мечтает стать принцессой! А там, глядишь, недалеко и до прекрасного принца на белом коне… Алия стала фанатичной поклонницей Муад’Диба-Махди, со всей фрименской наивностью она слушала его мистические речи и с чистым сердцем верила, что он могуч, мудр, непобедим, и что его пришествие – счастье и великое благо для Свободных. Нечего и говорить, что в конфликте Пола с матерью она полностью держала сторону брата, искренне недоумевая: как же умная и добрая Джессика может не понимать таких простых вещей?
На Дюне взрослеют быстро. В шестнадцать лет Алия уже сложившаяся девушка – высокий рост, спортивная фигура, громадные серые глаза, по-харконненски прямая, тупо срезанная линия носа, переходящая в лоб без всякой впадины переносицы, светлорусые, коротко остриженные волосы. В Хайдарабаде для нее восстанавливают храм аль-Макаха, она лично, со всей строгостью, отбирает для него жриц, организует и проводит службы, тренирует своих подопечных и самозабвенно тренируется сама – ей во всем хочется походить на Пола, мастера боевых искусств, и она достигает виртуозности во владении ножом. Того же Алия требует и от ее жриц-амазонок, так что спустя некоторое время в этом новом женском Шаолине ее окружает целая личная гвардия. Вместе с внешностью Алия унаследовала и горячий харконненский нрав. Всю свою энергию шестнадцатилетняя принцесса вкладывает в свои духовно-спортивные начинания и живет в абсолютной гармонии с миром и с собой. Император доволен и даже тронут тем рвением, с каким сестра выполняет его волю.
* * *
Но Муад’Диб рано сбросил со счетов леди Джессику. В отличие от брата, Алия не порвала отношений с матерью, их общение продолжалось в старинной традиционной форме – в виде переписки, составившей, в итоге, пять томов. Содержание сей эпистолярной эпопеи, на первый взгляд, достаточно невинно – издалека, с Каладана, Джессика продолжала руководить образованием дочери. Она пишет для нее программы, присылает книги и записи с собственными обширными комментариями, похожими на лекции, рекомендует или не рекомендует тех или иных авторов и преподавателей. Суть, однако, залегает гораздо глубже. Через обширную сеть друзей и приверженцев Джессика отлично осведомлена обо всем, происходящем на Дюне, и постепенно, исподволь, с величайшим терпением она разъясняет юной максималистке истинную подоплеку арракинских политических коллизий. «Я боюсь за тебя,– писала Джессика зимой двести восьмого года. – Иллюзии опасны, как гранаты. Разлетаясь на осколки, они способны убивать».
Алия оказалась умной девушкой – не сразу, но у нее начинают открываться глаза. Хайдарабадский базар кипит разговорами и рассказами о незатихающей войне, о контрабанде и императорских расправах с неугодными. Дюну высасывает джихад, а в пустыне льется все больше крови; люди бегут на юг. Алия понемногу понимает, что в арракинском дворце никаких эпохальных решений не принимают, что император все больше превращается в нахлебника Гильдии, и все его выходы к народу – не более чем показ мод, по-настоящему он только и умеет, что убивать тех, кто ему противоречит. Но что самое кошмарное в этом кошмаре, так это то, что ее, Алии, увлеченное, ревностное религиозное служение – тоже очередная бутафория в императорском спектакле!
Джессика была права, подобные открытия не проходят даром – на рубеже восемнадцатилетия у Алии упоение жизнью сменилось глубочайшей депрессией. Она замыкается в себе, почти перестает разговаривать, оставляет службу в храме и нигде не показывается, лишь с неистовой яростью продолжает тренировки. Стилгар с тревогой доносит в Арракин, что сестра императора, видимо, заболела.
Но у Муад’Диба тонкий нюх на крамолу. Образовательная переписка с Джессикой для него не секрет, и ему не надо объяснять, откуда задул ветер. Полу известен бешеный, неукротимый характер Алии, он знает о ее фантастической популярности у фрименов, и дальше уже нетрудно понять, какая бомба задымила у самого основания трона. С приходом лидера даже самый вялый ропот может запросто обернуться смутой. Выждав время и видя, что ситуация не улучшается, Муад’Диб делает привычные для себя выводы и вызывает Алию во дворец для разговора.
Алия прибыла, но разговор, по выражению прославленного классика, вышел какой-то странный, а вернее сказать, совсем не вышел. Стенограмма цела, но приводить ее нет смысла – в течение примерно сорока минут Алия задает, по сути дела, один и тот же вопрос, а Пол всеми способами пытается уклониться от ответа. Звучит это так: зачем Пол приказал расстрелять их давнего знакомого, главу соседнего с Табром клана Карнак, Назима Айги?
Вся натура Пола противится ответу на столь категорично, в лоб поставленный вопрос; император жмется, отнекивается, пытается сменить тему и перевести беседу в другое русло, но Алия неумолима – зачем было убивать не раз в прошлом их выручавшего давнего союзника? Муад’Диб плетет что-то с пятого на десятое, ссылается на мучающие его пророческие видения, на тяжкую долю властителя, но Алия твердит свое: зачем? Не правду ли говорят, что император уже боится собственной тени, и из одной подозрительности готов убивать направо и налево? А правда ли, что императорская казна задолжала Айги полтора миллиона фунтов и не собиралась отдавать?
Пол начинает было запутанную фразу о специфике государственного правления, но, чувствуя бессмысленность дальнейших уверток, обрывает сам себя на полуслове и выходит из зала, куда сейчас же входят два десятка особо доверенных императорских федаинов. У них приказ немедленно доставить Алию в некий отдаленный съетч «на лечение».
Муад’Диб не учел того, что во фрименской натуре Алии и религиозность, и в чем-то детская наивность превосходно уживаются с чисто житейским прагматизмом, и прагматизм этот весьма конкретного свойства. Официальная версия упрямо отказывает Свободным в любом другом оружии, кроме ножа из зуба Шай Хулуда. Такие ножи действительно существовали, но это были ритуальные предметы для соответствующих ритуалов, и практического боевого значения они не имели, для схватки с настоящим врагом у фрименов хватало приспособлений и без него. Не знаю, какая другая нация была так изобретательна по части оружия. Обычно каждый фримен носил на себе целый набор ножей, метательных звездочек, взрывных таблеток и еще невесть чего, но основным был длинный, чуть выгнутый кинжал наподобие японского вакидзаси, выкованный из местного булата – крученой многожильной стали, дававшей дивный рисунок на лезвии. После закалки по секретному рецепту, ведомому лишь избранным мастерам, такой клинок приобретал качества, о которых впору рассказывать сказки.
Алия заранее провела во дворец своих храмовых стражниц-амазонок, обученных всем хитростям рукопашного боя, и когда опечаленный Пол вышел, в зале открылись не только те двери, в которые вошли его федаины. Можно спорить, кто был техничнее, кто оказался лучше подготовлен и вооружен, но главное то, что девушек было вчетверо больше – император, опасаясь скандала, призвал лишь наиболее надежных, Алия же привела всех. Ее тигрицы, искрошив доверенных лиц императора, без всяких иносказаний, в куски, вывели свою предводительницу из дворца живую и невредимую. Подоспела охрана, но обнаружила лишь трупы, пол, залитый кровью, с россыпями отсеченных пальцев, отрубленными руками, ногами и выпущенными кишками, после чего была вынуждена сообщить императору, что Алия и сопровождающие ее лица на одиннадцати орнитоптерах только что отбыли в неизвестном направлении. Муад’Диб в еженедельном теле– и радиообращении с грустью посетовал на излишнюю неуступчивость своей почтенной сестры.
Глава шестая
Бегство Алии как бы открывает следующий акт в арракинской драме, события переходят в иную фазу, действие обостряется, и в начале этого акта на сцене появляется новый персонаж. Я, правда, уже упоминал о нем – это Владимир Синельников, он же Уолтер Брэдли, крэймондский культурный атташе, тот самый, что столь красочно описал свою встречу с покойным Фейдом Харконненом, но в этот раз нам придется чуть дольше задержать внимание на его личности.
Судьба его сложна, в чем-то драматична, и многие ее повороты трудно объяснить. Медик по образованию и авантюрист по складу характера, Синельников перепробовал несметное число специальностей, старательно обходя лишь ту, для которой его предназначил Господь Бог – мало кто зарывал свой талант в землю с такой настойчивостью. Владимир был гением зоопсихологии, причем гением, по масштабу несопоставимым ни с чем дотоле известным. Природа его дара так и осталась неисследованной: был ли он экстрасенсом неслыханной мощи, магом или посланцем иных миров – неведомо, но если человек вялым движением руки останавливает яростно несущееся слоновье стадо или за ухо оттаскивает от водопоя полуторатонного махайрода, очевидно, что перед нами феномен, достойный изучения. К величайшему сожалению, как раз этого и не произошло. Синельников относился к собственным способностям откровенно наплевательски, и в результате оказался потерян для науки.
Поговорка утверждает, что слава – крылья таланта, вот только слушаются эти крылья очень плохо и могут занести совсем не туда – именно так и вышло в случае с Синельниковым. Известность сшутила с ним скверную шутку: нельзя сказать, чтобы он так уж любил приключения, но, похоже, приключения любили его – он побывал в десятках миров и переделок, и в конце концов, пригретый влиятельной Крэймондской корпорацией, стал международным переговорщиком-миротворцем в «горячих точках». Владимир прошел специальную подготовку во всех известных рейнджерских, спецназовских и диверсионных школах, дело знал и превратился в очень недурного дипломата и разведчика, но все же, надо признать, с людьми у него получалось хуже, чем с животными.
Далее, как это бывает, очередная перестановка в руководстве стоила ему карьеры, примерно в это же время он разошелся с женой, безнадежно поссорился с повзрослевшей дочерью, и на почве всех этих коллизий Синельников впал в меланхолию и решил переломить судьбу еще раз – удалиться в пустыню и стать отшельником. Может быть, даже святым отшельником. А где искать пустыню, ему известно очень хорошо.
Бог знает почему, но Брэдли-Синельников любил Дюну. Чем-то были ему интересны эти неприветливые, враждебные всему человеческому края. Я уже говорил, что его наследие – свыше сотни объемистых записных книжек – бесценный этнографический материал, целая энциклопедия жизни пустынных племен того времени. Правда, свои наблюдения Синельников вел без всякой системы и порядка, следуя завету Боконона: «Записывай все подряд» – заинтересовавшие его выражения разных диалектов перемежаются с кулинарными рецептами и зарисовками узоров на кувшинах, затем вдруг появляется чья-то родословная и набросок карты какой-то местности с названиями, стрелками и крестиками, далее следует свадебный панегирик и обрывок базарной истории в вольном пересказе…
Сейчас, однако, для нас важно то, что, вернувшись на Дюну зимой двести десятого года и угодив прямо с небес в самую гущу антиимператорской смуты, Синельников оказался, по воле случая, единственным, кто зафиксировал несколько ключевых эпизодов начального, самого туманного периода военного противостояния на Дюне. Не расставаясь с диктофоном, он впоследствии распечатывал эти записи и снабжал их различными саркастическими ремарками и комментариями, сохранив для нас, таким образом, очень любопытные разговоры и подробности, обреченные, казалось бы, кануть в безвестность.
К сожалению, просто, напрямую передать слово этому оригинальному автору нет никакой возможности – не рассчитывая стяжать какие-либо литературные лавры, Владимир вел свою хронику исключительно для самого себя, нимало не заботясь о будущих читателях, оставляя значительные пробелы и понятные ему одному пометки, перескакивая с одного на другое, не страшась сиюминутных и мало идущих к делу отступлений, а кроме того, пренебрегая необходимыми порой объяснениями, – невольно вспоминаются легендарные приключения Бена Ганна. Поэтому, призывая в свидетели Уолтера Брэдли-Синельникова и безусловно доверяя его правдивости и точности изображений, я все же вынужден прибегнуть к пересказу и лишь постараться с максимальной полнотой передать смысл подлинника.
Судя по схематично перерисованному аэрофотоснимку, Синельников высадился где-то в районе Карамага, то есть в центре Восточного Рифта, в самом сердце пустыни, в стороне от любых троп и поселений. Высадка прошла неудачно и мало чем отличалась от аварии – у древнего и до предела разболтанного шаттла какого-то торговца оружием, который Синельников арендовал вместе с хозяином, при посадке отказали чуть ли не все системы одновременно, и эта летающая кофемолка грохнулась оземь без всякой нежности и совсем не там, где надо. Пилот погиб, а Синельникова зажало в проходе так, что он в течение двух часов с муками выбирался наружу через переклиненный шлюз. Но вот выбрался и даже сумел вытащить рюкзак с вещами и продуктами.
Стояла черная звездная ночь, пустыню сковал мороз, изо рта валил пар, на схваченном инеем песке лежали густые синие тени. Большая полная луна с дымчатым профилем мыши-муад’диба уже поднялась в зенит, малая едва показалась над темным зубчатым горизонтом. Синельников осмотрелся и глубоко вздохнул, потом принялся распаковывать мешок и, ежась от холода, долго забирался в приготовленный стилсьют. Застегнувшись и зашнуровавшись, он затолкал в прихваченную ремешком кобуру на бедре свой любимый «вальтер-99», забросил рюкзак на спину и зашагал на запад, к далеким горам.
В скалах, тонкую колючую полоску которых он сейчас видел перед собой, еще в бытность дипломатом у него была база, где оставалось немало снаряжения и разных вещей, полезных для жизни в пустыне. Если бы не эта глупая авария, он мог бы быть там уже к полудню и всерьез задуматься над выбором места для задуманного отшельничества. Теперь же планы менялись. Впрочем, рассуждал Синельников, времени впереди сколько угодно.
Он даже не подозревал, какие большие перемены планов его ждут. Двое моджахедов, дозорные маленького походного двора Алии, пробиравшейся на юг, грелись у инфракрасного уловителя, малозаметного с воздуха, в часе ходьбы от точки, а вернее сказать, кляксы синельниковского приземления, и так уж было угодно судьбе, чтобы Владимир вышел прямо на них. Завидев направленные на него пламегасители тупорылых «акаэсов», он обрадовался, сочтя этот привет с родины добрым предзнаменованием; произнеся непонятное приветствие «Бон суар, граждане духи», он без сопротивления дал себя обыскать и тоже присел у комелька погреть руки. Фрименские рейнджеры, посмеиваясь над налитым водой пришельцем из другого мира, неспешно беседовали на варварском арабском, решая, как поступить с пленником: забрать только вещи и прикончить на месте или все же доставить к Алие – вдруг что-то знает. Звали их Азиз и Аристарх. Они очень удивились, когда незнакомец неожиданно обратился к ним на их родном языке без малейшего акцента:
– Спасибо, ребята, за гостеприимство, но мне пора, – сказал отогревшийся Синельников, и дальше начались чудеса, потому что Азиз вдруг оказался лежащим на песке лицом вниз с довольно болезненно заломленной рукой и чужой ногой на спине, а ствол его автомата уперся прямо в физиономию Аристарха.
– Ты, дядя, ножичек-то брось, – дружелюбно предложил Синельников. – И жив останешься. А то не скоро племя получит твою воду… И ты, земляк, полежи спокойно, а то я огорчусь и тебя огорчу… невыносимо.
Синельников отложил «акаэс» и вновь занялся укладкой своих вещей. Фримены не шевелились – они были настоящими детьми пустыни, и в четверть секунды осознали ту истину, что вооруженный или безоружный, стоя к ним спиной или как угодно, этот человек в любом случае держит в руках их жизни. Закончив собираться, Синельников заглянул в походный скарб хозяев и тут же присвистнул:
– Ничего себе, «ройалы»! Господи, прелесть какая… Эй, борода, к ним патроны продаются?
– Продаются, – едва заметно кивнул Азиз и растопырил пальцы в знак того, что не замышляет ничего худого.
– Здорово… Не могу удержаться, вот уже и седой стал, а все ума не прибавилось… Не обижайтесь, ребята, винтовки вам, конечно, оставлю, а эти штуки заберу. Считайте, что купил, вот двести солариев, должно хватить…
Здесь, однако, плавное течение беседы прервалось. Раздался звук, который невозможно спутать ни с чем другим – гул дрожащей земли и нарастающий шорох осыпающегося песка. В серебряном лунном свете на людей надвигался холм, катился четырехметровый песчаный вал, словно одна из дюн, обезумев, вдруг понеслась по пустыне со скоростью девяносто миль в час. Это приближался Шай-Хулуд, владыка Арракиса; страшной концентрации дух спайса в смеси с кислородным выхлопом ударил в ноздри. Фримены прянули в сторону и, не решаясь подняться, поползли прочь на четвереньках, волоча за собой ездовые крюки и предпочитая смерть от пули кошмарной гибели в пасти червя. Синельников обернулся.
– Боже, да что же за вонища… Спокойно, парни, это за мной… моя лягушонка в коробчонке едет… Пушки ваши я тут положу, а печурку свою приберите, неровен час, запорошу…
Роковая гора была уже рядом, почва тряслась под ногами, фримены, повернувшись, ждали неминуемого финала, но тут произошло чудо, какого никто не видывал с сотворения мира. Чужеземец небрежно поднял руку – гул стих, вал остановился и осел. Открылась чешуйчатая, страшная и громадная, как землепроходческий щит, морда червя – и червь этот стоял и ждал. У Азиза и Аристарха отвисли челюсти; бедуины, вцепившись пальцами в заледенелый песок, смотрели, дико выпучив глаза.
Синельников бросил автоматы, совладал с непослушной лямкой рюкзака и подошел вплотную к червю. Азиз тихо захрипел. Без крюков, неловко хватаясь за щербатые бугры чешуй, неизвестный влез на почти пятиметровую высоту и принялся выискивать место поудобнее.
– Не продыхнуть, – пожаловался он сверху окостеневшим фрименам. – Ну, ребята, бывайте. Как будущий святой отшельник, заранее отпускаю вам грехи.
Тут к Аристарху вернулся дар речи. С невиданной быстротой побежав на карачках, он кинулся вперед, по дороге на мгновение запутался в автоматных ремнях, остервенело дрыгнул ногой и полузакричал-полузашипел не своим сиплым голосом:
– О Великий! Что мы должны знать? Открой, скажи твоим рабам, чему ты учишь, что… что проповедуешь?
Синельников пришел в некоторое замешательство. С одной стороны, ему было приятно, что его отшельничество с первых же шагов имеет такой успех, с другой стороны, он был совершенно не готов к тому, что нужно будет что-то проповедовать. Но назвался груздем – не говори, что не дюж. Владимир крепко поскреб щетину на подбородке.
– Я не проповедую, я исповедую, – ответил он. – Исповедую пустыню. Вот так.
– А когда, – не унимался Аристарх, – когда ты явишь нам свет твоего учения?
Синельников окончательно смутился.
– Ммм… Там видно будет, – промычал кандидат в отшельники и пнул ближайший гребень. – Давай, камазер…
Пустыня дрогнула, и червь, вздымая песчаную волну, унес новообретенного святого прочь, а двое фрименов остались стоять на коленях с разинутыми ртами.
Через три часа в одной из карамагских пещер они точно так же стояли перед Алией, и Аристарх рассказывал с горящими глазами: