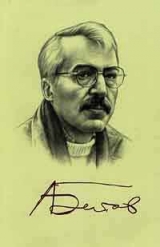
Текст книги "Фотография Пушкина (1799–2099). Повесть"
Автор книги: Андрей Битов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Фотография Пушкина (1799–2099)
Вот сегодня, наконец, оказалось, что войны еще никакой нет.
А позавчера она разразилась, и еще вчера она, возможно, была.
А сегодня опять "еще не вечер".
А позавчера, "между собакой и волком" (надо же! одним присваивают героя, а другим – "часть речи"…), позавчера, в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается внизу), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось. Но так смазав белый лист дня, что-то, от спешки, пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки… Так я буду сидеть, предаваясь, ленясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнется, обозначив свое отсутствие скрипом, и ввалится вполне видимый мужик, клонясь, как забор, на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. "Что-то я тебя раньше не видел", скажет, усаживаясь рядом, попросит стакан.
Вообще в нашей развалившейся деревеньке (три жилых двора из двух десятков, пребывающих, как в ускоренной киносъемке, в разных стадиях разрушения и разорения) у нас так не принято, чтобы заявляться запросто друг к другу даже днем. Я ему попробую стакан-то не дать, ссылаясь, что все спят, что сам я не пью, опасаясь разрушения своего маленького времени, как раз будто очень захотев подняться и продолжить работу… я ему попытаюсь стакан не дать. Тут-то он мне и вывалит, преисполненный скорби, поигрывая то желваками, то быстроватыми взглядами, то роняя голову, как бы слезу не то смахивая, не то скрывая… Тут-то он: "Это что же, выходит? опять война?.."
А я только третьего дня отмахал по нашим дорогам за пятьсот километров, за Ярославль, за Кострому, за Судиславль и Галич – наконец вырвался из столицы, к сыну, к чердаку… Быстро домчал, без поломок и аварий, часов за двенадцать. Какая война? что плетешь?
А он мне, без обиды, а с огорчением, как недоумку – все в подробностях. Как ехал из райцентра последним автобусом, как у одного парня транзисторный приемник был, как все в автобусе мужики слышали… как все это случилось, что война… Не хочу даже сейчас, когда миновало, подробности эти воспроизводить. "Это что же, – мотает он головой, как лошадь, – только внуков народили и поднять не сможем?"
И впустил, и чашку дал. Оказалось, что всего лишь воды и просил. Лишь она и требовалась… Только уселся он прочно, как навсегда. "Что, – думаю, – сейчас их всех поднимать и ехать или пусть уж поспят до утра?.. А может, и вообще уже ЗРЯ ехать – ничего-то там и нет, и такая судьба мне выпала: к сыну поспеть и выжить… А как же?.." Вот в эту сторону невозможно и подумать, про тех, кто ТАМ. Это как-то отрезвляет. Да полно, да не наплел ли ты все? Э, нет, говорит, кабы наплел… И опять вворачивает подробность. Мне ли не знать, какова она, подробность? Гипноз один… однако опять верю. Потому что страшно.
"Что это я тебя не знаю?" – опять говорит он, это у меня-то в доме мною впущенный, сидючи!.. "А я тебя", – говорю. "Меня не знаешь?! Да нет такого, кто меня здесь не знает! Я – Чистяков! У меня брат на железной дороге…" И так далее.
Понял я про него: такой мужик – то он сидел, то воевал, то у него ордена, то внуки, то я ему сынок, то он меня младше – пьянь, поэтическая натура, я таких много не в деревне видел, а – ИЗ. Понял я про него, да не все: "Ты меня не знаешь, а знаешь ли ты, что ты в МОЕМ доме сидишь?" Историю покупки избы моим тестем я знал смутно – может, и правда. Нетрудно было в таком случае, с авторской сентиментальностью, вообразить, каково это: узнать про войну, быть не вполне, сами ноги привели… и вот на пороге, где родился и вырос, неизвестно какой, но инородец сидит, в усах и в очках ("Почему у тебя усы, а у меня нет?" – в частности, спросил он меня с наигранной социальной злобой, а про очки – нет, ничего не сказал…), сидит на родимом пороге, и в дом не пускает, и даже воды не подаст… И вот я и впустил, и подал (за войну-то!), а он сидит, скорбит и воды той отпить не может: сидит в вечной наклонке, мастерски ни на что не опираясь, но и с табурета не падая, а чашка в его руке, в другую наклонку, но тоже не вываливается, и вода в ней, под острым углом, подчиняясь физике, обозначает горизонт и неправдоподобный угол, и Чистякова, и чашки. Оставим его до утра в этой позе.
А наутро та же трава и погода – ни Чистякова, ни войны; однако в трех дворах наших с удивительным спокойствием подтверждают: да, было дело– теперь война; подождем, сообщат… Да кто сказал-то?! А Чистяков и сказал.
Подождали еще денек – и ничего нам не сообщили, не подтвердилось, а нам и не до того было: погодка наконец выдалась – сено ворошить.
А мне – сено не ворошить. Я – на свой чердачок-с. У меня творческий процесс-с. А только чего – не знаю. Разве вид из окошка, в который раз, не суметь описать. Там-то как раз сено и ворошат. Баба и мужик. Костерочек в стороне развели. Отсюда не видно – кто. Наверно, Молчановы – их угол…
По стеклу на самом переднем плане муха ползет, и так же мысль моя уползает за мухой… Вот ведь, думаю, ни живопись и ни фото – никак этого не отобразить, что в эту рамку для меня вставлено кем-то, задолго до меня эту избу ставившим, никак планировку к виду из моего окошка, естественно, не учитывавшим, но меня, однако, к этому пейзажу приговорившим. Не сфотографируешь так, чтобы и рама окошка, как рама картины, и муха ползает по картине, а на переднем плане столб, проводами, как нотными линейками, пейзаж для начала разлиновавший так, что на нижней линейке еще забор, на средней как раз сено ворошат, а на верхних двух – уже дальний лес и само небо…
Стоило отвернуться это записать, как ушла баба, улетела муха, мужик на глазах скрылся за стог, осталась одна собачка, которой до того, надо сказать, не было. А мужик-то, было пропавший, затоптал костерок, да в ту же сторону, что баба исчезла, и направляется.
А теперь оглянусь и – ничего: ни дымка, ни собачки. И свет переменился. Мирный пейзаж, столь утешающий своей вечностью! Где ты? Какое бешеное время свистит в нем! Тахикардия какая-то. Мчание. Не говоря уж о ветерке и облаках… а там, под спудом, тихой сапой, там гриб растет, да вошь ползет, да мышь шуршит. Дымок оторвался от земли, как душа, уже сам, без мужика – от порыва, от ветра – и нет его. Пейзаж закрыт на обед. Кошка Наташка по опустевшему пейзажу к дому идет, тоже обедать, тоже кормить… сейчас и меня позовут снизу суп есть и – пропал пейзаж!
Так и было. Война не война, а шевелиться надо. Пора. Живой человек всегда только начал жить. Вот и я сейчас начну, но с чего? С этого или с того? Ужасна эта папка заброшенных начал и набросков – загибаются углы, желтеет бумага, выцветает текст, а ни с места. Не это, и не это, и этого неохота… Пейзаж не пейзаж… а какой-то свист времени: две бабочки об него теперь бьются, стукаются через стекло о пририсованных наспех овечек… Может, это? Ну уж нет! Сколько же это прошло? Семнадцать с половиной. Не минут (вот за минуту сколько в пейзаже случилось!), не часов (вон сколько за утро наворошили!..), не дней (вот уже неделя, как я здесь…), а– лет!! Лет, минут – какая разница! Мне было тридцать… Разница – НАЛИЦО. Не тот был чердак. И вид не тот. Продолжение не следует. Продолж…
– …для нас нет сейчас более благородной задачи, чем на страницах наших изданий достойно отметить трехсотлетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся жизнь Пушкина, его деятельность, его титанический труд являются близкими, дорогими для сотен миллионов жителей нашей планеты. Всюду звучит имя Пушкина…
Имя Пушкина звучало на этот раз под сводами (естественная оговорка, учитывая торжественность обстановки, потому что сводов, собственно, не было), вернее, в стенах, где оно (имя) вполне могло бы прозвучать еще при жизни виновника… Даже, быть может, голос его… Но нет, представить головокружительно – охватывает трепет… Нельзя не отметить заслуженной удачи организаторов этого, не будет преувеличением назвать, форума председателя хурала друга Албуу Сержбудээ и его бессменных заместителей друга Ивана Аронова и Джона Иванова (бурные аплодисменты и просто аплодисменты). Сама их идея перенести заседание юбилейного совета со Спутника Объединенных Наций (СОН) на старую нашу Землю, на которой жил Пушкин, не могла не сказаться благотворно на самой атмосфере, товарищи, собрания. Здесь, под серебряным небом Петрограда, под хрустальным облаком Петербурга…
Доведя свой голос до звона, докладчик сам вздрагивал, как от неожиданного окрика, терял нить и немножко озирался. И мы оглядимся сейчас, как бы вместе с ним, но не в такой уж растерянности, кое-что подметим и поясним. Серебряное небо Петрограда, по образному выражению докладчиков, означает гигантский, отражающий некие жесткие и острые излучения колпак, действительно снаружи очень серебряный цветом, но, конечно, не из серебра, а из специального античегота (чтобы нам было понятно: род пластика, хотя, конечно, уже и не пластика); "хрустальное облако Петербурга" – не менее образно выражает тоже колпак, но меньшего размера, концентрически помещающийся в петроградском, только абсолютно прозрачный, стеклянный, хрустальный, плексигласовый, хотя, конечно же, и эти вещества давно устарели, и имена их звучат для далеких современников так же волшебно, как для нас эфир, зефир, веницейская амальгама. Этот петербургский колпак был род того колпака, какие ставили в наши далекие времена над синезолотыми часами, чтобы в тщательные складочки бронзы не забивалась пыль и зелень; эти часы до сих пор позванивают в прошлом времени, звуковой паст-перфектум, и как-то напоминают мне – и я уже запутался, в какую сторону смотрю из своей посредственно-времен-ной точки модели "Адлер" (то есть стуча сейчас на машинке)– "напоминают мне оне"… что на "хрустальном облаке Петербурга", с внутренней стороны колпака были тоже пятна голубой эмали, прикрашенные (притороченные, приуроченные) к золоту шпилей Адмиралтейского, Петропавловского, Исаакиевского, наподобие живых штилевых облачек…
И вот, пока тикают эти каминные часики, показывая время внутри колпака, отмеряя четверть часа, проведенных моей прелестницей прабабушкой за кружевами и поглядыванием в окно, пока не присоединится к тиканью цоканье по торцу, а мелодичный бой не сольется с ее восклицанием в передней…Господи! это представляет мне сейчас странную возможность рассказывать о небывшем… итак, пока не кончится завод, мы продолжим пояснения, ибо чувствую (будто слышу), что докладчик сейчас снова доведет свой период до звона и заозирается по сторонам, как бы ища нас в аудитории.
– …Наконец наступила эпоха торжества охраны природы и памятников! (Я был прав: докладчик смолк и растерянно посмотрел на меня, вернее, сквозь…) И тут мы поясним, что она действительно наступила. Аналогичные колпаки были возведены над Парижем и Римом, Пекином и Лхассой. В гамбургском зоопарке дал потомство кролик, а под колпаком Тауэра был восстановлен исторический газон. Очень красиво смотрелась Земля с кооперативных спутников: глубокого черного цвета, с серебряными пузырьками музейных центров, она выглядела теперь как ночное звездное небо – да и была ночным небом, – так смотрели на нее люди, снизу вверх. Они смотрели на Землю как на небо…
А на трибуне новые ораторы…
– …но у нас, господа-товарищи, досадный пробел, – это, без излишней эмоциональности и метафоричности, как и подобает ученому (факты и только факты!), говорил русского происхождения академик Прынцев. – Первая фотография, как известно, появилась в России в сороковых годах девятнадцатого века. Большой удачей нашей науки являются фотографии Гоголя, Чаадаева и других немногих современников Пушкина. Но сам Пушкин, к нашему глубокому сожалению, не успел сфотографироваться. По сути, что мы знаем объективно о внешнем облике великого поэта? Иконография необычайно скудна и, пожалуй, более говорит нам об индивидуальности портретистов, нежели модели… Мы должны исправить эту ошибку времени! И назовет меня всяк сущий в нем язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык, – запел академик.
Ах, Александр Сергеевич! Зачем же так?..
Всяк сущий в ней язык наполняли зал. И мы пройдемся сейчас по рядам, затесавшись между фотокорреспондентами и кинооператорами, если их только можно так назвать, потому что в предметах, которыми они орудуют, едва ли можно узнать то, что мы считали фототехникой в наше время… Во всяком случае, эти люди не обязаны изображать внимание на лице или аплодировать в нужных местах – они заняты. То ракурс, то необходимый делегат – и вот новая голубая вспышка озаряет прежде всего их самих, а отпечаток этого мгновения навсегда обозначит, что мгновение это прошло, но утешит попавших в кадр тем, что оно будто бы было… И мы, как киноглаз, пошарим сейчас по рядам, выберем крупным планом того, другого – совершенно произвольно (вдруг понадобятся нам в дальнейшем повествовании в качестве героев – такое пошлое лукавство!).
Мы находим, однако, так много общего в разноцветных лицах, что никак не можем пока ни на одном остановиться. И правда, далеко не каждый мог бы удостоиться чести сидеть здесь, лишь избранные. Тем более такой экстренный случай – сессия на Земле, на которую вообще нужен пропуск, виза (а Петербург, как в наше далекое время, зал Публичной библиотеки со спецдопуском): чтобы пройти все это, нужно, скорее, совпасть, чем выделиться. Это понятно: земное тяготение теперь небезопасно в идеологическом отношении. И вот нам трудно задержаться на чьем-либо лице… Задержаться, конечно, и можно бы, но тогда на любом, без выбора: предпочтение неясно, первое попавшееся пропущено… Но – вдруг! – некая тонкость в чертах, потупленность взора. Так ковыряют вилкой скатерть, как он потуплен, хотя нет, руки ведут себя выдержанно, то есть никак не ведут себя. Это-то, что невдомек соседям нашего нервного молодого человека (и невдомек-то потому, что самого подозрения в отличии уже быть не может, оно атрофировалось давно за ненадобностью, что и спасает, к счастью, нашего избранника, чем, мы подозреваем, он по-своему даже пользуется), это-то, что им невдомек, и заставляет нас остановить свой выбор именно на нем… и тут нам приятно отметить, что юноша этот не кто иной, как отдаленный потомок Льва Одоевцева и Фаины – незаконная ветвь, Игорь.
У Игоря першит в горле от сухости петербургского воздуха, и потомок невских наводнений– жаждет. Да, да, так все переменилось: именно – сухость. Когда, в день открытия сессии, Игорь посетил музей-квартиру и увидел гам письменный стол, накрытый колпаком, а чернильный прибор внутри прикрыт еще одним, значительно поменьше, то он тут же (и как он прошел все проверки?!) представил себе колпак над Петербургом, а над ним верхний, ленинградский, – у него голова закружилась от телескопичности, и зачем-то, нелепо, он ее ощупал, свою голову…
Вовремя. Так ему казалось, что он легко, как некую насадку, снял свою голову с плеч и теперь (она сразу уменьшилась до размера яблочка, очень опрятная) повертывал в руках, с удивлением, но и как-то равнодушно разглядывая, как не свою… Это-то, пожалуй, и будет наиболее близким описанием того, как у него потупляется взор и что он там разглядывал перед собой на пустом пюпитре, привязанный к нему белым проводком (минирепродуктор) за ухо, иногда переключая каналы с фламандского на японский или славное потрескивание готтентотов, но другому уху все равно было очень хорошо слышно…
– …всего сто и три дня отделяют нас от великого события – трехсотлетия со дня Александра СерГ (г – фрикативное) еевича Пушкина. Мы встречаем это событие в обстановке оГромноГо политическоГо и трудовоГо подъема, – говорило фрикативное Г. – Всенародное соревнование вызвало новый прилив творческоГо энтузиазма наших людей…
Игорь катал свою головенку по ладони, как шарик из подшипника моего детства. Подшипник, вращаясь, тоже издавал когда-то фрикативный звук, может быть, Г.
– …вся Вселенная восхищена нашими достижениями в области покорения времени. Мы можем с полным правом утверждать, что первая машина времени была задумана в России уже почти два века назад. (Бурные аплодисменты.) Эта машина унесла нас в далекое будущее, сразу же оставив в далеком прошлом остальную историю Земли. И совершенно естественно, что вскоре, каких-нибудь полтора века назад, был сделан и первый шаг к покорению пространства – первый шаг в космос. Теперь пространство покорено, и так же естественно, что мы сделали первый шаг в покорении времени. На рубеже третьего тысячелетия нашей эры нами произведен первый в истории человечества запуск времелета с человеком на борту! (Б-урные аплодисменты.) Времелет "Аутлей-1", пилотируемый первым в мире времепроходцем генералом Флажко, благополучно пройдя расстояние почти в два века, при… при… временно остановился в намеченной точке с поразительной точностью в плюс-минус два года! (А-плодисменты.) Восполнен досадный пробел в исторической науке: нами получена пропущенная фотография – величайший триумф…
Игорь судорожно сглотнул; казалось, проглотил маленькую щеточку и вынул из уха белый сухарик. Он теперь слушал в оба уха: на трибуне был его шеф, научный консультант и руководитель, заслуженный пушкиновед галактики Джон Иванов:
– …дух, друзья, захватывает от перспектив, открывающихся ныне перед мировым литературоведением! – Учитель Игоря представлял собою фигуру, несколько отличную от остального собрания: его амплуа было – старый чудак профессор, – такая милая и наивная, вечно юная восторженность энтузиаста науки, который варит часы, держа в руках яйцо; говорит "батенька"; охотно докладывает, обнаруживая отличную конкретность мышления и отчетливость наблюдений; недослышивает, приставляя очень мытую руку, и тогда особенно отдельно смотрятся на нем клееная бородка, очки в золотой пустой оправе и острый румянец, – тип, не изменившийся за два века, потому что иного отсчета так и не возникло, а потому вполне нам знакомый. Сейчас он грассировал:
…мы сможем в будущем, и не таком, господа-товарищи, далеком, заснять всю жизнь Пушкина скрытой камерой, записать его голос… представляете, какое это будет счастье, когда каждый школьник сможет услышать, как Пушкин читает собственные стихи! Этого мало, товарищи! Наше воображение еще слишком бедно, еще не в силах привыкнуть к новому чуду и вполне представить себе отверзающиеся возможности! Мы восстановим всю прежнюю культуру до мельчайших подробностей… Гомер нам споет "Илиаду"… Шекспир расскажет наконец автобиографию…
Головенка Игоря соскользнула с ладони – этот блестящий подшипниковый шарик покатился по проходу и остановился у пятки друга степей. Игорь вздрогнул и мысленно пополз по проходу, стараясь незаметно. Но незаметно было невозможно: он страшно рос в собственных глазах, и ему трудно уже было бы быть незаметным и уже, быть может, даже трудно помещаться в проходе… Поэтому он все так же сидел и печально смотрел на милый блестящий шарик из своего прапрадедушкиного детства и совершенно успокаивался насчет того, что кто-нибудь что-нибудь за ним заметил.
…Единодушным вставанием было поддержано предложение президиума форума сессии о направлении резолюции данного собрания в Президиум Академии наук с просьбой ходатайствовать перед Генеральным Советом Концерна "Березка" (ГКБ), а также перед Верховным Председателем Общества охраны природы и памятников (ООПП), о распоряжении Институту истории (НИИИ) и Совету Министров – послать следующий времелет "Расход-3" в пушкинскую эпоху с тем, чтобы иметь к юбилею подлинный увеличенный фотопортрет Александра Сергеевича, а также его голос…
Заседали. Узко.
– Тише, тише, товарищи! – стучал по графину Председатель (графин не изменился). – Пора наконец четко определить границы обсуждения и четко же поставить вопрос: КОГО мы посылаем во время – ФОТОГРАФА или ФИЛОЛОГА?
Голоса (недружно, лениво и вразнобой):
– Филолога!
– Фотографа!!
Обе профессии внушали одинаковые опасения.
– Кадрового работника!
Но кадры решали на этот раз не всё.
Нужен был ОДИН человек, но делать он должен был уметь даже не одно, а ТРИ как минимум дела: снимать, записывать и ПОНИМАТЬ.
Чем надежнее были кандидатуры, тем меньше они умели из этого.
Так и вышло более фантастическое, чем сам времелет, предположение, что лететь Игорю Одоевцеву, из тех самых Одоевцевых, молодому и подающему, хотя и ничем себя не зарекомендовавшему, но и ни в чем пока не замеченному. Зато он умел записывать (опыт фольклорных экспедиций: легенды о мясе и рыбе), фотографировать (не вполне профессионально, но современная техника…) и был потомственный пушкинист, причем почти без сомнения русский. Это-то и внушало. Потомственный, мало ли что… А его пра-пра-Фаина, кажется, была на четверть… как раз седьмое колено. Раз на четверть, значит, прошло седьмое колено, резонно отметил кто-то. Но тут и еще всплыло… Сначала как плюс: у него же даже есть предки в пушкинской эпохе и уж точно русские… и тут же:
– Так у него же прямые родственники в том времени!!!
Молчали долго. Опыта полета в столь славную эпоху еще не было.
Поручился все тот же, кто сообразил про седьмое колено… Это был такой глубокий старик, что помнил в раннем детстве похороны его пра-пра-Левы, дожившего до 200-летия восстания декабристов. Старик уже ничем не рисковал, ручаясь, и им – рискнули.
Молодость не подвела, и медики не возразили.
Как билось его сердце! Игорь летел, и под ним шуршали времена, уходили, как в воронку, грибовидные облака, и вылетали обратно бомбы, зарубцовывалась Земля, покрывалась мегаполисами и населялась человеком, рассыпалась на города, городишки и деревеньки, зарастала травой и лесом, оживала птицей и зверем… Заходы солнца сменялись восходами, и солнце с частотой велосипедных спиц мелькало с запада на восток. Нам не понять, что с ним творилось, когда, косо чирикнув (звук был «кирич-кирич»…), испуганно влетела в ЕГО, Игорево, сознание первая птица!., и уже под ее крылом – распалась дамба, заболотившая отчий город, опустели водохранилища и всплыли утопшие деревни и колокольни, зазвонили с дон… днов… дней… («Донь-динь» – слышал он обратный звон…) – стали землей.
Не следует преувеличивать: не так трудно вообразить нам в реальности, как он летел, чем представить себе, кто летел. Что это была за бедная голова! Какие мысли занимали ее… какие там мысли! Более века прошло после нас, не то что после Пушкина (тут нам самим легче подсчитать…). Подсчитать-то нам легче, но понять еще труднее. Ему нас понять еще труднее, чем нам Пушкина. Тут только мы и равны. Но мы ни его, ни Пушкина не поймем, а ему нас хоть понимать не надо. Великое благо, когда он пролетает в этот миг как раз над головою своего автора и что-то крякает в этой авторской голове, одаряя вывернутой наизнанку, вспятной мыслью о том, что такое "и не мертв, и не чет, и не в лоб".
"Подлинное течение времени", – наконец догадался перевести я, а Игорь уже так давно пролетел! Пролетает над Аптекарским островом, отвоевав обратно две войны, летит где-то меж двух революций: там закладывают дом, где когда-нибудь родюсь!.. рождусь… родится автор. Но голова у автора трещит сейчас, путает шестидесятые с восьмидесятыми (да! да! двадцатого…) – а Одоевцев уже в том веке (нет, нет, не в двадцать первом, а – девятнадцатом!) путает восьмидесятые с шестидесятыми, проскочил над деревней Голузино, не послал мне свой временавтский привет. Что ж ты так быстро пролетел, голубчик, не отметив под собою… Вот он я… вот он ты сидишь, автор мой, голубчик, где же ты застрял в густой паутине СЕГОДНЯ?
Но зато я сейчас вам точно скажу, на чем не успел задержаться обалдевший взор героя, но что он точно уж видел: НАС С ВАМИ. И тут вы мне не сможете не поверить. Это есть доказательство того, что все, что я вам говорил и говорю, ПРАВДА. Вот что я вижу перед собой: трехнедельный котенок в коробке дергается во сне, будто бежит, а он еще ходить не может: снится ему бег, он ловчее перебирает лапами, чем наяву. Снится ему погоня или охота, он убегает или преследует? – этого я не знаю, но знаю теперь, что видит он перед собой вовсе не опыт, которого у него нет, а будущее свое в виде самого древнего, до него существовавшего прошлого… Котенок бежит во сне… сам-то я, находясь в своей точке времени и пространства, неспособный ускорить или вернуть, что вижу перед собой более, чем котенка? в какой невнимательности упрекаю я собственного героя, пересекающего по веку за страницу?.. Ну, отведу я от котенка взор, пролечу взглядом над строкой справа налево, ничего не захочу понять, что в эту секунду пишу, посмотрю налево, в оконце мое чердачное, в которое минуту назад уже смотрел, пытаясь уловить тот миг, когда надо мною промелькнет герой: там стояла корова, жевала под дождем, плоско двигая челюстью, у нее с рогов стекали капли и падали в траву, как драгоценности… – так теперь ее нет, коровы, и дождь перестал. Вот что я вижу. Остальное я знаю: что подо мною родился мой сын, восемь лет спустя, как я задумал и было начал именно этот рассказ, а теперь и сыну восемь… и стоит мне эту диффамацию про него изложить, как он тут же взберется ко мне по приставной лестнице, и вот он уже тут. "Кто пришел?" – говорю. "Мешатель", – говорит он и смеется. Какое счастье! Вот и сижу в своем времени и пространстве и вряд ли САМ передвинусь. Боже упаси…
"У тебя есть цветная копировка?" – спрашивает он именно в ту секунду, как я это печатаю. "Нету", – говорю я и более синхронизировать события уже не могу.
У Игоря еще нет детей, вот он и летит. Вернется героем, получит, быть может, разрешение на право продолжения рода. Совет, может, пойдет навстречу, и будет там еще один Одоевцев или нет, уже не от меня зависит.
Игорь отвлекся, думая о невесте, пропустил, не заметив, Крымскую кампанию, а хотел ведь увидеть в дыму сражения смелого молодого Льва (Толстого…). Не заметил в дыму мечты о своей Наташе… "И щей горшок, и сам большой", – бормотал он, глупо ухмыляясь, пропустив под собой очередную эпоху, вошел в николаевскую, в плотные слои пушкинской. Сейчас ему особенно внимательным следует быть, не проскочить бы… Он жмет со всей силы на кнопку (очень напоминает она мне мамин дверной звонок, я даже дверь перед собой вижу вместо его хитроумной панели) – стукается от перегрузки торможения затылком о предыдущее десятилетие (сороковые девятнадцатого…) и Гоголя тоже не отметил (как он сидит, застыв и не мигая перед фотоаппаратом в Риме), и пока он медлит…
За окошком моим совсем темно, да еще и лента, не только не цветная, но и бледная, не вижу, и в настоящем, не только в прошлом из будущего (время, до которого и английский недодумался), надо идти не в зримое, а в знаемое – вниз, где сын: там у меня свет включается на чердаке. Пошел вниз. Пусть герой без меня повременит, да и привременится…
Итак, если он замедлился до сходного с нашим течением времени, если минута стала минутой, а час – часом и солнце снова взошло с востока, то, значит, он уже живет в том времени, уже параллельно мне, отделенный теми же полутора веками, но с другой стороны: у меня завтра и у него завтра, у меня сегодня и у него сегодня… но это значит, что он уже второй день, как овременился в желанной эпохе, потому что я как спустился, так и не поднимался, а проспал.
Не следует, однако, думать, что остановка его произошла столь благополучно и без осложнений, на уровне легкости авторского приема. Автор не собирается спрятаться за вензелем прозаической фигуры и тем скрыть действие.
Сложности были. Но мне их столь же трудно объяснить читателю, как и себе. Мы так же наивны в представлении технического будущего в наше время, как и князь Одоевский в пушкинское время, рисовавший себе далекое будущее, сплошь увешанное воздушными шарами. Да и путешествия по времени во времена нашего героя делали лишь первые шаги, и они сами еще не знали, с чем встретятся. Короче, нашему герою довелось впервые столкнуться с неким эффектом, который он в силу своей гуманитарное™ никак истолковать не мог, и мы тем более не можем изъяснить физического смысла этого явления – можем лишь сравнить его с нашим опытом, скажем, с помехами в приемнике или телевизоре. Историческое время при такой скорости пересечения располагалось как бы полосами, иногда останавливаясь в устойчивую и отчетливую картинку, иногда начиная рваться и мелькать и плыть, вспыхивать и гаснуть. Закономерность у этой чересполосицы была крайне субъективна: помехи возникали как раз в наиболее интересных для наблюдателя местах. Учитывая склад мышления и восприятия нашего Игоря, не только гуманитарный, но отчасти как бы и, даже неосознанно, поэтический, следует отметить, что интересовали его не столько грандиозные или значительные с общепринятой точки зрения события, сколько то, что он про себя называл "живым". Так вот, грандиозное стояло в изображении неподвижно и мертво, как разрисованный слайд, а живое-то как раз и начинало рваться и мелькать, не даваясь глазу. Будто из оркестра слышны были одни медные или одни ударные, но никак не скрипка, не соло – аккомпанемент подавлял мелодию. Впрочем, музыкальные сравнения некстати, ибо вся пластинка крутилась в обратную сторону, для уха неприятную, для глаза пародийную.
Видел он флаги и толпы, выстрелы и сражения, лидеров и тиранов, время разбивалось об эти утесы, и щепки летели в стороны, как океанские брызги, но разглядеть в этой мощи то, что, единственное, от него впоследствии осталось, то, что интересовало Игоря не только по профессии, но и в живом секрете его души, разглядеть хоть мельком эпоху "модерн", рисующего Врубеля или пишущего Блока – это ни за что. То, что осталось от всей этой грандиозной истории, то, что так потом лелеялось и сберегалось его коллегами во времени, в том числе и им самим, то, что составляло сокровища мировой и национальной культуры, совершенно не было видимо в этом бурлящем под Игорем котле, в этом историческом вареве. А ведь он, Игорь Одоевцев, по сравнению с теми, кто варился под ним в этом котле, то всплывая на поверхность, то окончательно погружаясь, он по сравнению с ними УЖЕ ЗНАЛ, что НА САМОМ ДЕЛЕ с ними происходит, они – нет, но именно им, незнающим, дано было видеть (хоть бы и не узнавать) то ЖИВОЕ, что так хотелось повидать ему на правах очевидца: им было дано, ему нет. Им было дано жить, ему знать. Барьер был непреодолим: он видел только то, что знало ЕГО время. Он хотел поглядеть, чего оно не знало, – тут-то и возникали рябь, помеха, не знаем, как это назвать, "эффектом Одоевцева", что ли.








