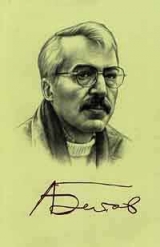
Текст книги "Сад.Повесть"
Автор книги: Андрей Битов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Сад
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ
Это было неизвестно, когда она позвонит. Но позвонить она собиралась. Обещала. Она должна была позвонить, и Алексей все шатался по квартире: словно бы листал газеты в прихожей и словно бы шел за ножом в кухню по коридору. Когда звонил телефон, Алексей подскакивал и снимал трубку, но звонила не она, не Ася. Дядьку, тетку, бабку– кого только не зовут к телефону! – но все не его. Мама тоже ходит по коридору и не разговаривает: что-то затаила. Хуже нет, когда у нее вот такое собранное лицо. Когда смотрит мимо, словно его, сына ее Алексея, и нет вовсе. Алексей устал гадать и обращать на это внимание: в последнее время всегда именно такое обращается к нему мамино лицо. И конечно же, подозрительно ей, что толчется он тут у телефона. Тогда, если мама появляется в коридоре, Алексей подходит, снимает трубку – узнает время. В следующий раз набирает неопределенный номер, причем одну цифру недобирает. «Витю можно?» – говорит. Витя Кошеницын – хороший, маме нравилась бы такая дружба: сын сослуживицы – все на виду – и учится хорошо. Алексей выжидает некоторое время, какое нужно, чтобы позвать человека к телефону, а потом начинает говорить о каком-то соленоиде, для смеха путая его с синусоидой, и городит такое, что ему даже легче становится. Иногда замолчит, словно слушая того, на другом конце, или так себе, хмыкнет неопределенно между молчаниями, или междометие вставит. А сам за это время нечто придумает да и скажет: «Конечно, потенциальная сила константы блока при пересечении магнитоидных искривлений системы равна гидравлической энергии питания электрода, альфа-омега-пси. Именно этого я не понимал», – повесит трубку. Маме нравились бы такие разговоры. Но вовсе этого на самом деле не было. Одно лишь представление, мечта…
И тут, конечно же, судьба: вдруг он забыл обо всем – о чем же таком он думал глупом-глупом! – и когда, обмирая, бросился на звонок, – мама уже держала трубку: «Алексей, это тебя», – и по поджатым губам, по особенно бесстрастному ее голосу и взгляду совершенно любому ясно, что на этот раз звонит Ася: мама узнала ее голос. Тут уж ничего не остается – лишь бы не покраснеть, подойти как можно спокойней, безразличней. Впрочем, не к чему и делать хорошую мину: ведь ясно же, недаром он толокся у телефона, все всё знают и принимают– плохая игра, хорошая мина… Алексей берет трубку. «Да. Здравствуй…» Тут можно было бы и сказать: «Ася». Раз уж проворонил и тебя рассекретили. Если бы подошел сам или хотя бы кто другой, кроме мамы, можно было бы говорить во втором лице настоящего времени, что и не поймешь, с кем ты говоришь. Но ведь и это спасет мало: слишком много получается мычания, чтобы мама не догадалась. Мама очень в этих вещах понимает. Непонятно даже как.
Это мама подходила! – До чего же прекрасный голос!
– Да-
– А как ты понял, что это я?
По… лицу.
– Маминому?
– Да.
Смеется, подумать только!
– Так ведь говорила с ней не я!
Что-то сразу сжимается в Алексее.
Кто же? – говорит он и сам удивляется, как падает у него голос.
– Муж.
– А этому типу чего от тебя надо… – слова трепещут, тянутся и рвутся: словно одно – как камень, а другое – жидкое.
– Да ну что ты, Алеша, что ты! – ласково говорит она. – Ну ты же знаешь…
– Случайно встретила?.. – говорит Алексей ядовито и уже не помнит, что нельзя говорить в прошедшем времени: выдает с головой – ла, ала, яла, ила. Не понимает, что тем более выдавать себя не к чему, что вызывал его мужской голос, а, выходит, разговаривает он с женским, слишком явная ложь. Такого в доме не любят.
– Ну, Алеша, к чему такой тон! – говорит Ася, и голос у нее такой, что еще не рассердилась, но может рассердиться, и какой он еще мальчик, Алеша. – Ты же знаешь, я тебе говорила, что должна была с ним встретиться…
Ну, положим, она этого ему никогда не говорила, но Алексей вдруг успокаивается. И тогда становится очевидно, что какая же тут ревность, раз он ЕЕ слышит, что и сказал он эти две фразы: «А этому типу чего от тебя надо…»– «Случайно встретила?..»– может, только потому, что разволновался от ее голоса, и ни по чему другому. Но этого по телефону не объяснишь. Да и объяснять не надо. Да и не совсем так это. Да и не так осознает все сам Алексей. И выходит, мамино лицо было вытянутым не потому, что она узнала Асю, – так просто, как всегда…
И тут уже ясно, о чем дальше разговор – о встрече. Вот если он еще немного потопчется в разговоре и не спросит– спросит она. А если не выдержит и спросит он – она, пожалуй, скажет, что сегодня не может, занята. И кто ее знает, как она там занята. И он говорит:
– Ну так я приду.
– Нет, Алеша, я сегодня занята. – Так он и знал!
Чем же это? – опять слова то жидкие, то твердые.
– Господи, Алеша… Ну, стиркой. Новый год же…
– Так я тебе не буду мешать– просто посижу.
Не надо, Алеша. И дома сегодня все будут.
– Я все-таки приду.
– И твоя мама…
И теперь уже все было ясно. Он, конечно, придет. Хотя у него дел по горло. Сессия. И мама будет коситься, что он опять уходит.
Но чем больше упирается Ася, тем вернее, что он придет.
Ася живет у Нины, своей подруги, – снимает угол за пятнадцать рублей. Нина – красивая девушка, но никто ее не любит. Нина живет у отца, Сергея Владимировича, необыкновенного старика, из «бывших». И все они, втроем, живут в одной большой комнате, чрезвычайно пустой и словно бы необжитой. Чтобы попасть к ним, надо подняться на четвертый этаж, верхний в старинном доме. Подниматься надо по широкой лестнице со ступенями, удобными, как в старинных домах. На каждом марше, у высокого окна, вделана капитальная скамейка для отдыха. И вот на четвертом, направо – дверь…
И всегда, когда Алексей нажимал звонок, все напрягалось в нем. Потому что тут– пауза, шорох, шаги за дверью– все могло произойти. Могло не оказаться Аси… потом гадай, куда она делась. Сиди на удобной для того скамейке. Если откроет Ася, все хорошо. Но может открыть Нина, или Сергей Владимирович, или, если их нет, а ты все-таки позвонил еще раз, – соседи, самое худшее. У них такие лица, если они ему открывают, он чувствует себя виноватым, неведомо, правда, в чем, тем более, впрочем, виноватым и зависимым. И если откроет не Ася, то опять же: либо она дома, либо ее нет. И тоже могут открыть по-разному. Особенно Сергей Владимирович. Не просто открыть, тут множество оттенков: какое будет при этом лицо, промолчат или что скажут, и что скажут, пригласят или оставят на лестнице…
Дверь открыл Сергей Владимирович. Он стоял в дверях, словно не узнавая, длинный, величественный до жал-кости, деревянный, стоял, ничего не менялось в его неподвижности, и молчал. Словно выжидал. Поэтому Алексей не мог сказать: «Здравствуйте, Сергей Владимирович», – а сказал, причем слишком отрывисто:
– Ася дома?
Старик еще словно бы долго неподвижно смотрел на Алексея, а потом, резко повернувшись, прикрыл дверь, удалился так же молча.
Алексей глупо стоял перед дверью.
И в это самое время, как назло, сзади подошла соседка– 2 звонка. Она встала за спиной, подышала. Алексей, вздрогнув, обернулся, и тогда она, ласково улыбнувшись, сказала:
– Вы уже звонили?
– Да, – твердо ответил Алексей и отошел от двери.
– Ах, она даже открыта!.. – распухшая сумка в одной руке, газета и кошелек в другой, она растворяла дверь, проходила вперед сумкой, боком, и смотрела с ласковым любопытством. Совсем уж пройдя и прикрывая за собою дверь– на свету остался лишь один ее толстый глаз, – сказала:
– Не закрывать?..
– Нет, – сказал Алексей срывающимся от злости голосом.
И надо же было ей подняться именно в эту минуту!
И не успели еще оттоптаться в прихожей ее шаги, дверь отворилась – Ася, ситцевый халатик. Руки у нее были мокрые, лицо злое. Видно, кроме старика, сказавшего ей что-то, кроме стирки, вот еще и столкнулась с соседкой – 2 звонка.
– Я же говорила, не приходи!
Больше ничего Алексею не надо – стоит в дверях живая Ася, ситцевый халатик, плечи остро под халатиком, руки мокрые, шлепанцы огромные, ее голос, ее глаза и волосы. И это ему не кажется – на самом деле…
Ася смотрит на него, теплеет.
– Там война, понимаешь? Пропали у Сергея Владимировича штаны… – Она уже смеется. – Полчаса подождешь?
Господи, полчаса… Час! Два!
Сад. Уголок его. Скамейка между сараем и садом.
Она. Но так больше нельзя. Зима, понимаешь?.. А я хочу, чтобы было тепло. Чтобы я могла куда-то прийти. Это обязательно. И не все же обедать на деньги, что выдает тебе мама на завтрак? И ждать тебя по утрам, когда наконец я одна: придешь ты или не придешь? Ты-то, конечно, придешь… И целоваться вот здесь. И на лестнице тоже целоваться… Холодно ведь. Это тебе тепло. А мне холодно…
Он. Не надо так… И ты не права. Это так, конечно… Но ведь я тебя люблю. И ты… меня любишь. И мы бываем часто одни, совсем одни. Нам еще повезло. Я иногда удивляюсь, как нам везет. И ты знаешь ведь, я… все, что могу. Но я не все могу. Но я знаю, не думай… Это-то я уже знаю: счастье в каждом из нас, не в обстоятельствах. Ведь мы…
Она. Милый, ну… Ты любишь. Я забыла. Дай я на тебя посмотрю. Ну как же не любить такого! Я злая. Ты еще ребенок. Почему так? Может, я плохая, верно, испорченная… Хотя кто это знает? Все осколки, сумятица… Но мне нужно все то, без чего ты готов прожить… Ведь ты живешь дома? А? Ты ведь живешь дома? Что, молчишь?..
Мама тебе готовит? Да? Спать ты ложишься в постельку? Вот пальто на тебе? Молчишь?..
Он.Я тебе говорил. Я уйду, если ты настаиваешь…
Она. Не криви. Ты ведь умненький, не идет тебе. Не уйдешь, голубчик. Ты привык. Ты, милый, гораздо больше без этого не можешь, чем я. Тебе не уйти…
Он. Уйду.
Она. Ну что ты!.. Ну вот и обиделся. Какой ты еще ребенок! Ну не ребенок… Это ведь я необидное тебе говорю. А зачем ты внимание обращаешь? Ты не обращай. Ну дай я тебя поцелую… Вот и вот. И сюда…
Он. Завтра же уйду… Уйду не потому, что ты… Уйду…
Она. Милый, ну куда же ты уйдешь? Зачем, главное? Для меня? А зачем это мне? И почему ты, собственно, уйдешь? (Смеется.)Ты же… Ты же можешь привести меня?.. ( Смеется все звонче и тоньше.)Ну да, к себе. У тебя же отдельная комната! Маленькая, правда… (Резко хохотнув.)Ты приведешь меня и скажешь: вот мы решили… (Хохочет, раскачиваясь.)Воображаю, какое будет у нее лицо! (Хохочет, как всхлипывает, стихает.)Ты молчишь? Что же ты молчишь? Что, не приведешь? Слабо ведь? А то приведи, а? Заживем. Отдельно, законно…
Он. Не надо. Не надо так, прошу тебя. Ты ведь знаешь…
Она. Что знаешь? Что я такого знаю! Что я не могу прийти к тебе? А если я хочу! А почему же это я не могу прийти? П-почему?
Он. Не надо так… Ты же знаешь сама. Это будет не жизнь…
– Почему же – не жизнь? Онаведь у тебя умная, сдержанная, слова лишнего не скажет. Благородная… Почему же не жизнь?.. ( Пауза.)А я вот иногда мечтаю, чтобы она была стерва. Чтобы была толстая, неряшливая, несдержанная. Чтобы считала, к примеру, сахар… Насколько было бы проще! Да я бы счастлива была… (Пауза.)Хорошая? Чем же это она хорошая? Знаю, знаю! Но это ведь нехорошо быть такой вот хорошей! Выгодно! Она ведь… Почему бы я такой не была? Ты же ее боишься! Нет, а? Не любишь– боишься. (Пауза.)Будто я тебя отнимаю! Тут ведь не больше этого, если разобраться. Тебя-то тут и нет. Что молчишь? Молчишь что? Я знаю, ты сейчас думаешь так же, как она. Вы похожи. Ты не знаешь, что вы похожи. А я знаю.
– Я не похож.
– А ты не прячься. Я ведь не про лицо говорила. И ты прекрасно понял.
– Да.
– Нет, ты удивительный человек! Это только ты можешь так сказать «да»… (Смеется, словно жмурится.)«Д-да…» Ведь никто, никто не знает, какой ты на самом деле. Ты еще маленький – не обижайся, – ты еще маленький. А какой же ты будешь?! Господи! Все будут с ума сходить. Я одна сейчас знаю, какой ты будешь. Мне Нинка говорит: что тебе в нем? А я знаю… Только меня вот не будет с тобой.
– Конечно, буду.
Только ты уж тогда не забывай. Покажись иногда. Чтобы я посмотрела. Покажешься, а? Я буду уже старуха.
– Не надо. Ну что ты говоришь!
– Вообще-то не такая уж и старая я буду. Маленькая собачка до старости щенок… (Неживо смеется.)Так что тебе и не слишком стыдно будет меня увидеть, ты не бойся. Такое не проходит…
– Ну зачем ты!.. Ведь это не прошло. И не пройдет…
– Не люблю, когда так говорят. И голос деревянный. И не веришь ты, что сам говоришь. Вот сейчас головой замотаешь, а не веришь. Не люблю. Я ведь почему говорю? Я у мужа сегодня была… Я знаю, ты от самого дома хотел об этом спросить, только разговор не о том был, тебе неловко было. А ты ведь не забыл. Где-то у тебя остался вопросик-то? На веревочке… Все время висел. И это тоже – она! Я ведь «такая»… Ты мне веришь, а там, где вопросик, и не веришь. Ты не думай, что вот у тебя «благородное чувство», гак и изменюсь. А я и останусь такая. Хотя бы потому, что вопросик… И не потому. Так что же ты не спросишь, зачем я к мужу ходила?
– Мне не это важно. Я не потому…
– Важно, очень важно! Всем это важно… Я к нему пришла, и мы с ним уснули… Да, вместе. Ну что, милый? Глупенький… Да ведь я же ему жена… И мы не разведены еще. Ну что надулся? Поцеловать?
– Не надо.
– Ну что ты… Глупый… Ты не гнись. Все равно поцелую. Ну, сильный, сильный… вижу. А мы ведь просто так уснули. Ничего между нами не было. Уснули – и все. А ты мне поверь, поверь… Вот я тебя и поцеловала! Ну что ты такой? Ой, какой же ты смешной бываешь!.. Все не веришь?
– Верю.
– Не веришь… Господи, ну что же это я за дура! Ты ведь все думаешь, почему я к нему пошла? А я так все рассказываю, словно ты знаешь. А ты не знаешь… А ведь к нему пошла потому, что он у меня швейную машинку украл.
– (Уже смеется.)Машинку?
– Конечно. Я, ты знаешь, я думала, убью его. Для меня машинка – все, последнее. Это еще мамина машинка. Думала, убью… Прихожу, а он мне список показывает. Там все, что у него еще оставалось, и машинка моя в самом низу вписана. И против каждой вещи сумма стоит. И все сложено. Вот он мне показывает список, моргает и говорит: «А я все продал». – «И машинку?» – говорю я. – «И машинку». Я ему говорю, деньги-то хоть отдай! А он говорит: «А у меня их нет… Я, – говорит, – четыре столика на Новый год в „Астории“ заказал. Проститься… Придешь?» Стоит моргает. И вот думала, что убью, а вдруг мне так жалко его стало. Я плАчу, а он тихий… Вот ведь и ему досталось…
– И ты пойдешь?
– Куда?
– В «Асторию»? К этому…
– Он так меня просил… «Какая ты красивая», – говорит. Ты не думай, я-то его штучки знаю… «Неужели, – говорит, – ты все еще с этим сосунком?» (Берет его за руку.)Ты не сердись, это он про тебя. Он ведь нас однажды видел. На Аничковом мосту, помнишь? Я тебе показывала… А я ему сказала, что он и мизинца твоего не стоит. Нет, правда, так и сказала. А нам ведь некуда идти? Ты не думай, я ведь тебя люблю, так что ничего быть не может… Но ведь Новый год!.. Люди, праздник… А нам с тобой ведь некуда?
– Я же тебе предлагал… У Фриша собираются…
– Не пойду я к твоему Фришу! Не хочу их видеть!.. Слюнтяи. Я знаю их насквозь. Они этого не любят. Не хочу, чтобы они на меня так смотрели…
– Ну тогда пойдем в ресторан…
– В ресторан?.. А ты знаешь хоть, когда он, Новый год? По-сле-зав-тра! Ну в какой ресторан ты сейчас пойдешь? В любой сарай уже поздно…
– Куда-нибудь попадем… Не останемся же на улице. Это ведь невозможно…
– Вот именно. Все так просто… А деньги откуда? Ты ведь уже когда взял на праздник!.. Их же нету. Они на меня пошли, конечно, и спасибо… но их же нету. А в чем я пойду? О чем разговаривать… Не в чем мне идти. Ни с тобой, ни с ним…
– А зеленое?
– Не знаешь? А ведь, наверно, это тебе известно… В ломбарде. И 31-го срок. А ведь это единственное платье, в котором я еще хоть куда-то пойти могу. Ты ведь и это знаешь… Люблю… а вот ведь есть еще и платье! А ты ведь ничего, ничегошеньки не можешь. Даже не помнишь и не задумываешься для удобства – настолько не можешь. Люблю… а мне вот платье выкупить надо! Жизнь такая…
– Не надо! Только молчи… Я достану. Ты выкупишь…
– Прости, милый… я опять… я не хотела. Да и не в этом же дело! Я ведь и не хочу с тобой в ресторан-то ходить. Не с тобой это делать… Я с тобой дома хочу. Дома, понимаешь? Милый… ну чтоб мы были вдвоем, только вдвоем. И чтобы никто не мог прийти… чужой. Где он, дом?
– Достану! ( С отчаяньем.)Достану я деньги!
– Ну где? Где, милый, ты их достанешь? Какой ты все-таки… Тебе ведь негде их достать… Ты понимаешь, «негде»– это ведь не только сегодня. Дело ведь не в этом. Мне ведь будет мало… Мне все равно будет мало – вот ведь ужас! Мне так хочется, например, летом с тобой на юг поехать. С тобой… Это уже не платье. Это-то невозможно?.. А я все равно ведь на юг поеду.
– И на юг мы поедем! (Почти со злобой.)Господи, неужели эти деньги… это такая ерунда! Ну если бы только деньги… Ну я работать пойду… Ну… достану наконец. Я знаю где. И ничего мне не будет. Десять тысяч по-старому – знаю где. И мы уедем. Этого же нам хватит. Даже на несколько месяцев хватит… Хватит, а? Хватит?!!
– Несколько?.. А потом? Нет, милый, нет. Ты прости меня. Ты не обращай внимания, когда я такая. Не слушай. Тут ведь столько подлого во мне – ты не представляешь… Это проходит. Ты не слушай… Ну, конечно, любимый, мы будем вместе. Что нам юг?! Ты кончишь институт – я подожду – что такого, на пять лет старше – ведь пустяки – бывает жена и на десять старше – и ничего… Не расстраивайся, ну, хороший мой… стоит ли из-за меня. Я ведь счастлива, счастлива, что у меня – ты! Я ведь не знала этого… Я злая, прости… Все будет хорошо. И Новый год справим, вдвоем справим! Я со зла сказала, а я уже договорилась: Нина уйдет в компанию, старик тоже к каким-то знакомым пойдет… и мы останемся вдвоем… Я только на час, на один только часик в «Асторию» сбегаю и вернусь… К тебе. Ну не сердись, ну пожалуйста, я ведь обещала… Я все подготовлю дома к встрече до этого. И вернусь в одиннадцать…
Он возвращался домой, глупо улыбаясь. Уверенно ставил ногу, и снег поскрипывал под ней уверенно. Фонари уже горели изредка, и прохожие попадались изредка, внимательные и торопящиеся. На Фонтанке было светлее, слева впереди грузно темнел Инженерный замок. На мосту же фонари были старинные, домиком, и Алексей почувствовал себя как бы в другом времени. И не в другом, а словно бы идет он по этому мосту тыщу лет, идет и идет: справа впереди белеют черные деревья Летнего сада – и все никак до них не дойти.
На пустой и полутемной Садовой у остановки притормозил, словно присел, автобус с одним пассажиром. Алексей мог бы добежать и успеть, но не побежал, успевать не стал. Не спеша шел. Улыбался глупо. Хотя где-то, быть может, и понимал, что автобус, наверное, последний, и идти ему пешком до самого дома далеко. Но домой-то идти, обо всем забыв, было куда лучше. Пахло морозом и мандариновыми корками – Новым годом.
На Кировском мосту его продуло. И он перестал улыбаться. Ругал себя, что давно был бы дома, а вот не дома. И теперь уже автобусов не будет. И трамваев тоже. И тогда мама, платье, муж Аси, сессия – все это кружило над ним, мутило душу, и Ася уходила.
Вдруг пробежала непонятная одна собака, вдвое длинней обычной, от фонаря к фонарю, – тень собаки; ноги, тени ног – много; деловито перебежала от фонаря к фонарю, исчезла. Алексей рассмеялся.
И тогда подумал, что как же он так отвлекается и не чувствует уже так остро то, что должен и обязан чувствовать. Рад отвлечься на любую собаку. И почему он вообще так неостро и лениво чувствует, даже когда ему кажется, что остро. И думает тоже словно бы нехотя. Никакой в нем страстности…
И тогда он снова подумал о том, что полгода назад, когда у них началось с Асей, все было иначе. Он тогда и маялся, и не верил, и вот-вот должен был узнать что-то, что от него скрывалось, вот-вот понять все и решить. Он и тогда ждал часами на лестницах и в подъездах и вроде видел, как Ася уходила с кем-то другим, и вот-вот все должно было стать ясно – и тогда конец. Только еще одно доказательство – и конец. Никогда он так напряженно и маетно не жил, как в то время. Он и не подозревал, что снова и снова можно чувствовать то же самое и опять то же самое, но все сильнее и сильнее; это ему даже странным казалось. А когда вроде бы и доказательство появилось и обольщаться больше нельзя было, когда все наконец стало ясно и надо было решать, он вдруг перестал видеть, замечать, следить, больше того, он стал не видеть, не замечать, не следить. Потому что, если раньше он все твердил себе, что любовь требует веры, то есть правды и ясности, и не терпит обмана, то теперь любовь становилась выше ясности, и в неведении, в отказе от выяснений заключалась теперь вера или продолжение или гибель – кто знает? – его любви.
Так он шел, так он думал или не думал, потому что уже в который раз приходили к нему эти мысли: остроты прозрения в этом не было. И никогда не позволял он себе дойти до логического конца, а начинал думать о чем-либо другом, не об этом, словно смазывал, стирал резинкой набросок мысли, так что и не понять, и не вспомнить потом было… Так было, наверно, нужно, раз он хотел сохранить любовь, а средств для этого никаких не было, и мысль о необходимости какого бы то ни было дела, поступка, решения действием приводила лишь к ощущению дикой беспомощности и зависимости от всего, совершенно всего: родителей, института, жилплощади, денег, собственного иждивенства и мальчишества… Только к этому приводила, ни к чему другому, и все живое тогда помирало в его душе, а дороже всего было это живое. Да и думать об этом значило начинать примерять эти мысли не только к прошлому, когда он хотел все вот-вот наконец узнать и решить, но и к сегодняшнему – и тогда все рушилось. Потому что ничего ведь не изменилось за это время… Поэтому так думать он ни в коем случае не мог, он бросал мысль на полдороге – дальше яма, пропасть, шагать туда не хотелось, так уж привычен был механизм этой мысли и механизм ее избегания, что и нельзя было уже говорить, что он так думал.
Он уже замерз. И тут, совершенно неожиданно – автобус– казалось бы, их больше не должно быть, – и Алексей вскочил в него.








