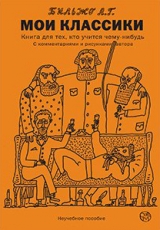
Текст книги "Мои классики"
Автор книги: Андрей Бильжо
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Мой Достоевский Ф.М.


Последний главный редактор газеты «Известия» товарищ Абрамов, от которого я, собственно, и ушел, утверждал, что хочет делать газету для интеллигенции. Он долго рассуждал на эту тему в беседе со мной.
– Почему у тебя в картинках так много мужиков с топором?
– Виталий, вообще-то это Родион Романович Раскольников
– Да я знаю…
«Слава богу», – подумал я.
– Но как-то мрачновато.
Спустя несколько месяцев Абрамов вообще перестал печатать мои мрачноватые картинки. Действительно, зачем пугать оптимистически настроенную интеллигенцию.
Этот раздел я хотел было посвятить сегодняшним власть имущим питерцам, равнодушно смотрящим на то, как уничтожают их родной город, но потом подумал: зачем мне портить настроение этой книге? Все разделы ведь посвящены трем хорошим людям и одной хорошей собаке, и я решил посвятить этот раздел смелым и замечательным славистам в лице моего постоянного редактора и автора учебника русского языка для старшеклассников Людмилы Великовой. Вот так.


«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел.
Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться… А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» – и заорал во все горло, указывая на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его.
«Я так и знал! – бормотал он в смущении, – я так и думал! Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, слишком приме тная шляпа… Смешная, потому и приметная… К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят… главное, потом запо мнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее… Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все…» "
Из романа «Преступление и наказание». Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – М.: Наука, 1973. – Т. 6. – С. 6–7.


«Танцы со звездами» – это телевизионная программа, которая стала очень популярной. Все стали танцевать, и на льду в том числе. Между нами говоря, я должен был танцевать в самом первом проекте. Под большим секретом мне дали тогда посмотреть иностранный диск, с которого у нас делали кальку. Я долго кочевряжился – и так и не стал звездой. А ведь мог.


Монетизация льгот – это замена натуральных льгот денежными компенсациями, проведенная правительством России в 2005 году и повлекшая за собой массовые выступления пенсионеров в стране. Обычно накалывали и все вроде проходило, а тут вышла какая-то нестыковочка.


Модернизация, инновация – президент Дмитрий Анатольевич Медведев ввел эти термины в наш обиход году в 2009-м. И они быстро стали нам родными, посконными и домоткаными.




«Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два вострые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку.
Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его ее разуверит, он взялся за дверь и потянул ее к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Увидя это, она не рванула дверь к себе обратно, но не выпустила и ручку замка, так что он чуть не вытащил ее, вместе с дверью, на лестницу. Видя же, что она стоит в дверях поперек и не дает ему пройти, он пошел прямо на нее. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла и смотрела на него во все глаза.
– Здравствуйте, Алена Ивановна, – начал он как можно развязнее, но голос не послушался его, прервался и задрожал, – я вам… вещь принес… да вот лучше пойдемте сюда… к свету… – И, бросив ее, он прямо, без приглашения, прошел в комнату. Старуха побежала за ним; язык ее развязался.
– Господи! Да чего вам?.. Кто такой? Что вам угодно?
– Помилуйте, Алена Ивановна… знакомый ваш… Раскольников… вот, заклад принес, что обещался намедни… – И он протягивал ей заклад.
Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту; ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась.
Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, до того страшно, что кажется, смотри она так, не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее. "
Из романа «Преступление и наказание».
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. М.: Наука, 1973. – Т. 6. – С. 61–62.

«Красная Шапочка прилегла рядом с Волком и спрашивает:
– Бабушка, почему у вас такие большие руки?
– Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое. "
Из сказки «Красная Шапочка». Перро Шарль. Красная Шапочка. – М.: Рипол Классик, 2011. – С. 17.


«Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.

Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой.
Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровию, – в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться…»
Из романа «Преступление и наказание». Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. – М.: Наука, 1973. – Т. 6. – С. 63.



Борис Абрамович Березовский – главный злодей в нашей стране. На него всё валят. Удобно, когда есть такой человек. Сейчас он живет в Лондоне. Когда-то был помощником Ельцина. Тайным и теневым. И, как говорят злые языки, выбрал ему тогда преемника. Тихого и скромного Володю Путина. В свое время Березовский владел газетой «Коммерсантъ», в которой я работал как до него, так и после.



«– Убивать? Убивать-то право имеете? – всплеснула руками Соня.
…
– Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел… Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. "
Из романа «Преступление и наказание». Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – М.: Наука, 1973. – Т. 6. – С. 322.
«Отмыть бабки» – сделать деньги чистыми, легализовать их. В стране, где много денег нечистых, то есть нечестно полученных, этот термин очень актуален.
Как только не называли деньги: «капуста», «мои кровные», «башли», «бабки», «бабло».
«Бабки» – самое распространенное. А доллары? Редко кто скажет – «доллары». Обычно говорят: «баксы», «зеленые», «грины», «американские рубли». Однажды, я даже слышал – «дедушки».
В нашей стране тех, для кого цель жизни – заработать деньги, всегда не очень уважали и не очень уважают. Завидуют тому человеку, у которого много денег. Но не уважают. Как-то с пренебрежением относятся и к зарабатыванию денег. «Бабки» не зарабатывают, их заколачивают. Денег вообще как будто в нашей стране стыдятся. Да, противоречивый народ и противоречивая страна. Умом ее точно не понять.



Парадное – главный вход доходного многоквартирного дома. С исчезновением самих доходных домов парадными стали называть любой вход в жилой дом. Это название жители Санкт-Петербурга используют по сей день, на удивление москвичей, которые именуют вход в дом – подъездом. Однако что парадное, что подъезд – в одинаково жутком состоянии. Что доказывает: как вещь ни называй, а суть ее от названия не меняется.


«Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор,
смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху недоставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором; губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимо-естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти до темени. Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую.
Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждою минутою. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты. "
Из романа «Преступление и наказание». Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – М.: Наука, 1973. – Т. 6. – С. 65.

Любой начальник, когда идет на повышение, тащит за собой своих подчиненных. Иногда друзей и родственников. Перетаскивает их за собой в другой город. Так поступают все начальники. Но абсолютный рекорд, по-моему, поставил Владимир Владимирович Путин. Он перетащил в Москву всех своих питерских друзей-одноклассников, тех, с кем учился в институте, и, наверное, где-то работают его друзья по детскому саду, те, с кем он делил один горшок. В общем, Владимир Путин, как мне кажется, настоящий друг. Это я почти без иронии.


Этот рисунок я обозначил как «Мое послание петербуржцам». Опубликован он был на сайте grani.ru и сопровождался следующим текстом: «Это не просто картинка. Эта картинка в поддержку петербуржцам. В 2009–2010-м я был в Петербурге зимой, и мне казалось, что дальше уже просто некуда. Я шел по проезжей части почти по щиколотку в воде и снегу и в голос ругался на власти этого города. Несколько раз я переводил бабушек через дорогу, потому что пройти по тротуару, по этим колдобинам, было невозможно. В 2010–2011-м оказалось, что то, что было в прошлом году, это еще не край. Особенно меня вывели из себя высказывания Матвиенко. Типа «пускай старики и дети сидят дома и не выходят без надобности».
В конце этого текста я пожелал Валентине Ивановне[1]1
Матвиенко Валентина Ивановна – российский политик, в 1998–2003 гг. – вице-премьер правительства РФ по социальным вопросам, с 2003 г. – губернатор Санкт-Петербурга. При Валентине Ивановне сосульки в Петербурге превратились в многометровые сосули. И добрая Матвиенко, которая заботится о здоровье своих горожан, не рекомендовала им зимой выходить из дома без надобности. Но несколько человек все-таки вышли. Не послушались. Часть из них погибла, а часть оказалась в больнице. Надо было слушать Валентину Ивановну Матвиенко.
[Закрыть] встретиться с Родионом Романовичем Раскольниковым, чтобы он ей снился как можно чаще и приходил к ней по ночам с топориком. Спустя некоторое время в одном из чатов я обнаружил следующую цитату. Питерец писал москвичам: «На себя посмотрите! У вас ваще десятками людей взрывают и аквапарки рушатся». Здесь уж без комментариев.


На что «пенсионная» реформа направлена, я не берусь комментировать.
Пенсионная реформа в нашей стране, оказывается, еще продолжается. А я думал, что она уже давно закончилась. Скоро и я стану пенсионером. Надеюсь, доживу. Формулировка «пенсия по старости» меня очень расстраивает. Неужели так трудно написать – «пенсия по возрасту»? Мои вполне аппетитные подруги недавно стали пенсионерками по старости. Этим я очень возмущен.
Вообще-то у меня создалось впечатление, что в моей родной стране не очень любят пенсионеров. Стариков. Впрочем, это еще как-то можно понять. Уголком своего мозга. Но ведь и детей, как мне кажется, не очень любят. А вот это уже понять невозможно никак. Никаким уголком никакого мозга.


Этот рекламный слоган существовал в течение всей истории СССР. Его писали везде, где тогда было возможно. У меня есть копилка в форме толстой сберегательной книжки, на которой он, этот лозунг, написан. А какая была альтернатива? Только чулок. И еще под матрасом можно было хранить деньги.
У моей бабушки была сберкнижка, куда ей переводили пенсию. И у меня была сберкнижка, куда бабушка иногда переводила свою пенсию. Да сберкнижки были у всех. Они уже старые и сейчас хранятся у меня в архиве. Читая их, мы видим, как двигались деньги. Как они накапливались и обесценивались. Это все, конечно, помнят. Очереди в cберкассы, давки, панику, «черные вторники» и многие другие неприятные события. В конечном итоге государство лихо накололо всех своих сограждан в одночасье.




Одно время в Петербурге я жил в гостинице на Владимирском проспекте и каждое утро проходил мимо памятника Ф. М. Достоевскому. Я обратил внимание, что около памятника собирается довольно много граждан без определенного места жительства. Граждане обычно сидели на парапете или на корточках, разговаривали, посматривая на Федора Михайловича. При этом, что удивительно, все они (естественно, мужская их часть, а в основном там были мужчины) были поразительно внешне похожи на писателя. Лобастые, сутулые, с длинными бородами.
А во дворе дома, где последние годы жил и умер писатель, на стене я обнаружил гигантские граффити – «Стоматология Достоевского 2».
Мой Тургенев И.С.


На лекции по анатомии во 2-м Медицинском институте, в котором я учился, лектор сообщил аудитории, что интеллект и способности человека никак не зависят от размера его головы, то есть величины головного мозга. И привел пример. Лектор сказал, что самый маленький мозг известного человека был у художника Рафаэля Санти и весил он меньше тысячи граммов. Точную цифру я, к сожалению, сейчас не помню. А самый крупный мозг весил 2012 граммов, и был он у Ивана Сергеевича Тургенева. Эта информация у меня застряла в голове навсегда. Так бывает – какая-то дурацкая информация засядет в твоем обычного веса мозге и сидит там, занимая место для информации более важной. Пускай и у вас эта информация теперь сидит в голове.
Я и сегодня частенько читаю Тургенева, наслаждаясь языком, по его словам, «великим и могучим», и природой, которую он этим языком описал. Представляю себе эти просторы полей, а потом просторы накрытого правильно стола. Иван Сергеевич знал во всем этом толк.
А вот «Отцы и дети» я в школе ненавидел, как и все. А потом уж, когда сам стал взрослым и отцом, перечитал. И руками всплеснул, как Николай Петрович Кирсанов: «Батюшки, как похоже!»
Ну а здесь у меня, в этой книге, Муму. И потому посвящаю я этот раздел светлой памя ти своей покойной таксы Дездемоны, прожившей на мне всю свою 14-летнюю жизнь и похороненной рядом с моим домом в Москве.


«МУМУ
В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.
Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж…

Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.
Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле… Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, – скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, – взяли, поставили на вагон железной дороги – и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат – бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь.


Шпана всегда довольно дохлая, истеричная и хитрая. Она всегда прячется за широкие спины тех, кто сильнее и тупее, что позволяет ей «наезжать» на больших, умных, но слабых. Когда я учился в десятом классе, ко мне подошел шпент. Он гордо сказал: «Я пупок! Понял?» Я его не понял. И был избит. Били сильно, ногами. Пупок за всем этим смотрел. Было это давно. Пупков за это время стало значительно больше.
Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его; даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики.

Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, – они его побаивались, – а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, – а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах, истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили»



МУМУ
(продолжение)
«…Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную
собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у ней прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и при-нагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеется вдруг… Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул, наконец, сам возле нее каким-то радостным и тихим сном.
Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами.

Леонардо Ди Каприо – известный голливудский актер. Его рисованный портрет всегда можно купить на Старом Арбате. Девочки, девушки и женщины в него влюблены. Когда он состарится, его будут любить бабушки, которые когда-то были девочками.
Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал – немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других, – он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти… и ему было неприятно, когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней – бог весть! Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать.

Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду – нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох… Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме ее, на дворе старый пес желтого цвета, с бурыми крапинами, по имени Волчок, но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы – лежал себе, свернувшись, в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево, при малейшем стуке за дверями…»


МУМУ
(продолжение)
…Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан; он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами, молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.
В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась: видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая – во щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.
Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому Броду.


На дороге он зашел на двор дома, к которому пристроивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского Брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против теченья реки, что в одно мгновенье умчался саженей на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромая, в шалаш.
А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке – дно было залито водой – и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относило назад к городу.

Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее… Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки… Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги.
Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел.
– Ну, да, – заметил Степан, – он ее утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал…
В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

– Экой чудной этот Герасим! – пропищала толстая прачка, – можно ли эдак из-за собаки проклажаться!.. Право!
– Да Герасим был здесь, – воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.
– Как? Когда?
– Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну, и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, – да такого необыкновенного леща мне
в становую жилу поднес, важно так, что ой-ой-ой! – И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затылок. – Да, – прибавил он, – рука у него, благодатная рука, нечего сказать.
Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.
А между тем в ту самую пору по Т…у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, с мешком за плечами с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо да и был таков.

Чума красно-коричневая – так обзывали в 90-е российских коммунистов во главе с товарищем Зюгановым. Как будто чума любого другого цвета лучше.







