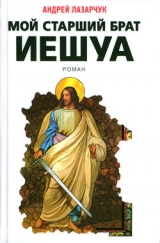
Текст книги "Текст, не вошедший в окончательный вариант книги "Мой старший брат Иешуа""
Автор книги: Андрей Лазарчук
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Лазарчук Андрей Геннадьевич. Текст, не вошедший в окончательный вариант книги «Мой старший брат Иешуа»
По немногочисленным, но очень настойчивым просьбам выкладываю кусочек, не вошедший в окончательный текст «Моего старшего брата Иешуа». Здесь в самом сжатом виде описана история обретения и компрометации Китирского кодекса. Всё описанное имело место в действительности – другое дело, что я опустил огромное количество событий, причём многие из них более важные и интересные, чем те, которые в этот отрывок вошли. Во–первых, во мне говорил шкурный интерес, а именно – желание написать книгу для ЖЗЛ. Во–вторых, сейчас идут активные действия по возвращению Кодекса в научный оборот; похоже, что его действительно нашли заново, так что через какое–то время можно будет ознакомиться непосредственно с первоисточником. Ну, а пока.
– – – – – – – – —
Девятнадцатого декабря две тысячи седьмого года до нас дошло известие о кончине профессора Anatol Serebrove, а ровно через месяц, девятнадцатого января, позвонил наш с ним общий знакомый и сказал, что приехал в Питер и хотел бы встретиться. По обычаю страны мы намеревались зазвать его к себе в гости (хотя и надеялись втайне на отказ: Ира медленно оправлялась после довольно тяжёлой операции) – однако знакомый отказался, сославшись на дефицит времени, и пришлось пересечься в центре, в весьма претенциозном кафе, где, к сожалению, на сегодняшний день не осталось ничего заслуживающего внимания, кроме интерьера. Знакомый – назовём его Фриц – был нативным немцем из Германии, поэтому мы взяли водки, помянули профессора, а потом поплакались о судьбах цивилизации. Ничего хорошего нашей цивилизации не угрожало. Фриц плохо говорил по–русски, я – плохо по–английски, остро не хватало франкоговорящей Ирки (как раз французским Фриц владел в совершенстве)…
Когда водка подошла к концу, Фриц вспомнил о том, что у него для нас посылочка. Маленькая. Где же она?.. А, вот.
Посылочка оказалась реально старой, потёртой на сгибах и уголках кожано–картонной канцелярской папкой с разводами неопределённо–тёмного цвета. Папка была перевязана крест–накрест серой бечёвкой. На корешке остался след от приклеенной когда–то бумажки.
Когда я взял её, мне показалось, что она невыносимо тяжела. Я, в общем–то, знал, что в ней лежит. Весь последний месяц мы – когда позволяло самочувствие – рассуждали о том, а вправе ли как–то распорядиться знаниями, полученными в своё время от профессора, и если да, то в какой форме, и вообще. И вот теперь – получили нечто вроде ответа…
Фриц тут же засобирался, у него ещё была назначена встреча, – а я остался. Принесли заказанные час назад креветки в кляре. Они уже успели остыть. Или их не сумели подогреть. Это искусство в данной точке планеты было утрачено навсегда.
Странно, но я их съел. Думаю, из чистого любопытства.
С профессором Anatol Serebrove мы познакомились почти случайно – хотя это была случайность из разряда тех, которые просто не могли не произойти. Представьте себе отель в одной средиземноморской стране, в совершеннейшее межсезонье, но при этом заполненный на пять шестых. Это почти наверняка значит, что там проводится какая–то международная научная конференция, а небольшое число лишних номеров отдано русским туроператорам для продажи по дешёвке. Итак, два компонента неизбежности уже есть. Ну, а потом возник и третий…
Заметьте, я не назвал ни страну, ни год. Поэтому не слишком подведу наших хозяев, которые очень, очень просили (на коленях стояли!) не рассказывать, по какой такой причине отель был на двадцать восемь дней практически изолирован от внешнего мира, а среди тоскующих постояльцев как минимум раз в день появлялись люди в белых комбинезонах и респираторах. Нет, никакой чумы не было. И сибирской язвы, присланной Бин Ладеном в зелёных бархатных «валентинках», тоже не было. Можно сказать, вообще ничего не было. Перестраховались. Даже слово «карантин» не звучало.
Но выйти из отеля было нельзя.
Совсем недавно кто–то раздолбал пол–Манхеттена, так что почти все затворники отнеслись к проблеме с пониманием. Поскольку непонятливым была предложена конструктивная альтернатива: местная благоустроенная тюрьма.
Теперь собственно об отеле. Пожалуй, единственный на всю округу, он был круглогодичный и представлял собой комплекс из отдельных корпусов: главного четырёхэтажного, в виде буквы Г, и двух трёхэтажных флигелей, замыкающих территорию. Во внутреннем дворике был бассейн (вообще–то с подогревом, но воду по требованию врачей спустили) и бар (по требованию постояльцев – бесплатный). Позади одного из флигелей располагался небольшой садик. Всё это было огорожено новенькой колючей проволокой – впрочем, тщательно замаскированной. Периметр патрулировали полицейские с собаками.
Всего на территории оказалось заперты сто одиннадцать постояльцев (из них девять детей) и двадцать один сотрудник.
Говорят, из–за утечки мозгов сейчас практически на каждой международной научной конференции русский язык можно слышать на каждом шагу. Может быть. Тогда, получается, мы столкнулись с исключением: среди учёных русских не было совсем. Зато среди туристов (общим числом двадцать семь) были почти исключительно русскоговорящие: из Питера, Караганды, Томска, Баку, Ростова, Харькова, Брянска, Праги, Мюнхена – и это далеко не полный список. Исключением оказалась семья очевидных инопланетян: смуглых, светлоглазых, говорящих на никому не известном языке и почти не понимающих ни один из известных. Одевались они причудливо и носили странные причёски; у мальчика и у девочки (вероятно, одногодков) на шее висело по очень интересному оберегу: комбинации из обломков черепахового гребня, продырявленных галек, клювов то ли петушиных, то ли вороньих…
Темой конференции были древние языки. Как проводили вынужденное свободное время знатоки древних языков, я рассказывать не буду. Просто не буду, и всё.
Понятно, что русская колония – со всеми её достоинствами и недостатками – образовалась сразу. Базировалась она в основном в дальнем флигеле, где жило большинство семей и где в подвале располагались бильярдная (со своим баром) и сауна.
За всё платило правительство. Оно потом оплатило ещё и компенсацию, и моральный вред – без всякого суда, по собственной воле. Редко, но бывает. Погорячились, извините, вот вам немножко денег, купите себе что–нибудь приятное.
У нас позади остался очень трудный год, мы вымотались до предела, и эта поездка на бессмысленный зимний курорт была почти бегством. И известие о внезапной задержке не произвело на нас почти никакого впечатления. Тем более что ноутбук был с собой…
Но, наверное, пузырящееся вокруг чувство тревоги – ведь нам ничего определённого не говорили, ни слова, – да ещё и наложившееся на остаточную, застойную усталость, – никак не давало сосредоточиться и одновременно расслабится, а это необходимое для нас (не знаем, как для других) условие начала работы, и мы всё время говорили друг другу: через полчаса, – или: сейчас я дочитаю, – или: давай посидим в баре, а потом, – или: проклятая музыка, я так не могу!.. В общем, поводов и причин, чтобы не работать, было в изобилии. Наверное, имело смысл переждать, но мы как будто куда–то торопились; ну да, нервы. Каждое утро медосмотр, через день анализы, абсолютная неизвестность – и слухи. О, слухи! Слухи – это наше всё. А вы–то думали, Пушкин?
Номер у нас был маленький и неудобный, угловой; правда, одно окно его выходило на море (довольно далёкое, впрочем; шум волн доносился только в шторм). Балкон же почти упирался в балкон другого флигеля, между перилами было не больше метра. В первые дни нам казалось, что номер напротив пустует: никто не отдёргивал плотные шторы и на балкон не выходил. Потом как–то ночью мы увидели, что под шторами пробивается свет. А на четвёртый или пятый день нашего заключения погода переменилась, резко потеплело, ветер, до этого сырой и пронизывающий, сменился сухим и тёплым; облака ещё закрывали небо, но всё равно стало значительно светлее. На следующий же день выглянуло солнце, и началась весна.
Перемену погоды мы решили отпраздновать, взяли в баре бутылку красного вина (кажется, кипрского, а какого именно, не запомнилось), отмыли пластмассовый столик и пару стульев от кристаллов соли, порезали сыр – и только–только собрались приступить, как дверь балкона напротив скользнула в сторону, и появился человек, которого мы здесь ещё не видели.
Нет, это не значит, что мы помнили в лицо все полторы сотни людей, заключённых в отеле. Просто такую колоритную личность не заметить было бы невозможно.
Одетый в тёмный (цвета граната и гранита) флисовый спортивный костюм, он был довольно высок, плотен и как–то особенно ладен – такими бывают люди сильные и подвижные, которым сорок вёрст не оборот. Лицо его казалось не столько загорелым, сколько обветренным, причём это была многолетняя, задубелая обветренность, которую только подчёркивали густые белые брови и аккуратная белая же, с жёлтым клином на подбородке, борода. Волосы, слегка вьющиеся, густые, почти до плеч, были снежно–белыми на лбу и висках – и пшенично–русыми сзади. На носу сидели элегантные дымчатые очки с нетолстыми, но сильными стёклами, прикрывшие – как мы потом увидели – глубоко запавшие, воспалённые, безнадёжные, страшные глаза. Но это, повторяю, мы увидели уже потом.
А тогда мы улыбнулись, помахали руками, сказали дежурное «хеллоу» и жестами пригласили присоединиться. Он подошёл к перилам, облокотился – и несколько секунд присматривался к нам. Потом утвердительно спросил:
– Русские?
«Р» у него была мягкая, с лёгким намёком на аристократическое грассирование.
– Да, – сказали мы. – О! – сказали мы. – И вы тоже?
– Так точно, – и улыбнулся. – Ну, куда от нас можно деться, правда? Позвольте представиться: Серебров Анатолий Павлович, Сорбонна, – и протянул руку.
Мы по очереди представились.
– Писатели? – он удивился, прищурился и не поверил. – Да не может быть. Я много раз видел русских писателей. Они совершенно не такие.
Мы объяснили, что он видел, наверное, неправильных писателей, есть такая компрадорская новономенклатурная модель, торгующая бедами России навынос, так вот мы к ней не относимся. Мы скромные труженики клавиатуры, сейчас пишем для подростков… и вообще – не приступить ли нам к празднованию Дня хорошей погоды?
– Это замечательная идея, – сказал он, – но давайте начнём с моего вина…
Он на секунду отступил в комнату, тут же появился вновь с чёрной бутылкой в руках, подал её нам, потом подал стул, потом легко и непринуждённо шагнул на перила, через пропасть – и спрыгнул на наш балкон.
– Всегда есть короткий путь, – сказал он. – Особенно в науке.
Итак, мы познакомились и подружились настолько, что практически всё время проводили вместе. Анатоль – на это обращение мы очень быстро вырулили, так ему было привычнее – оказался великолепным рассказчиком, а мы, как и подобает людям нашей профессии, живущим с подслушанного – внимали, внимали и внимали.
Анатоль родился в Харькове в новогоднюю ночь с двадцать девятого года на тридцатый. К началу войны он был уже вполне сознательным четвероклассником, но из–за какого–то пережитого шока все именно военные события он забыл начисто и вспомнить так никогда и не смог. Вот они в Харькове и собираются куда–то ехать, наверное, к морю – а вот они уже в Одессе, оккупированной румынами, а кажется, что прошёл только день. Иногда что–то военное ему снится, но – шизофренически преображённое: рогатые кони в противогазах и с шипастыми копытами, исполинские бронированные самолёты или на гусеницах, или сцепленные из нескольких частей, как поезда; бородатые солдаты с автоматами, косами и мечами…
Куда–то провалились полгода времени, мать – и умение говорить. Мальчик Толя учится речи заново. Читать он не разучился, – но с тех давних пор написанные слова и слова произнесённые – это для него слова разных языков; произошла своеобразная дихотомия.
Эта особенность восприятия сохранилась на всю жизнь. И, как ему кажется, очень способствовала в дальнейшем усвоению тех языков, от которых осталась одна письменность…
Отец его, Павел Петрович, был намного, почти на тридцать лет, старше матери, – то есть тогда, в Одессе, ему было шестьдесят или шестьдесят один. Он преподавал в королевской гимназии русский язык, древнегреческий и классическую латынь. Потом, когда румынскую администрацию сменила немецкая, гимназию закрыли; у немцев были иные виды на образование туземцев. Но к тому времени Павел Петрович и Толя уже уехали в Констанцу. Это было в сорок третьем году.
Мы чрезвычайно мало знаем об обыденной жизни советских людей в оккупации. Девяносто девять, наверное, процентов воспоминаний касаются партизанской борьбы, подполья, гестапо… О том, как люди добывали себе хлеб насущный и чем наполняли досуг, насколько были стеснены (или не стеснены) в речах и передвижениях – говорится вскользь, а то и просто умалчивается. Тут срабатывали, по всей вероятности, не только идеологические рогатки (хотя куда без них?), но и определённое чувство неловкости, а то и стыда: мол, какое кому дело до моих мелких бед и подробностей, когда такое творится вокруг и столько людей гибнет, гибнет каждый день?..
Анатоль говорил, что жизнь в Одессе была сносной, никаких особых жестокостей румыны не творили (нет, творили, конечно, и румыны, и немцы, но это происходило где–то не здесь, а за горизонтом или за забором, так что могло показаться, что и не происходило совсем), работали порт, железнодорожная станция, какие–то фабрики, заводы, университет, школы и техникумы; в центре, да и не только в центре, открылось множество магазинов и магазинчиков, ресторанов, питейных заведений, кофейн и кондитерских; многие люди на улицах были неплохо одеты, а некоторые дамы так просто роскошно. Театры давали спектакли, в том числе и знаменитый Оперный. Отец в гимназии зарабатывал приличные деньги – кажется, четыреста марок в месяц, – так что мальчик Толя вполне мог позволить себе пару пирожных. Килограмм хлеба стоил двадцать пять пфеннигов (говорили – копеек), килограмм мяса – две марки…
От кого–то (кажется, это был знакомый отца, румынский чиновник) Анатоль слышал, что жизнь в Одессе в те годы была во всех смыслах лучше, богаче и веселее, чем в любой из западноевропейский столиц.
Да, ночами постреливали, и по крайней мере в двух местах стояли виселицы, на которых румыны публично вешали мародёров и партизан, но сам Толя повешенных не видел ни разу.
Он не уверен, но подозревает, что намного больше, чем тех почти мифических партизан, простые немцы и румыны – солдаты и офицеры – боялись уголовников. Днём власть была румынская, ночью – бандитская. Оккупанты ничего не могли с этим поделать, а скорее всего и не особо стремились. Рассказывали, что на коронации нового одесского смотрящего, вора–полноты (ударение на последний слог в обоих словах) Бондаря присутствовал и румынский комендант с супругой. Почему нет? Структура, методы, побуждения власти в такой–то местности в такое–то время практически всегда совпадают со структурой, методами и побуждениями криминала в той же местности, но во время чуть более размытое; разница состоит лишь в риторике – ну и масштабе действий, разумеется. Никто лучше древних римлян этого не понимал, потому–то империя Римская и продержалась так долго; а румыны, будучи прямыми наследниками римлян, интуитивно использовали тот же modus operandi.
Возвращаясь к поездке в Констанцу. Тогда, в сорок третьем, мальчик Толя не знал ничего: ни чем она вызвана, ни как отец добивался разрешения. Только потом по кусочкам он частично восстановил картину.
Всё началось в мае, примерно в двадцатых числах, когда какой–то незнакомый молодой человек в котелке, похожий на грека или армянина, принёс Павлу Петровичу в гимназию открытый конверт, в котором лежал жёлтый полупрозрачный листок, с обеих сторон испещрённый греческими буквами. Молодой человек долго расшаркивался, рассказывая, как искал настоящего знатока древнегреческого языка, как его отправляли к профессору Имярек и к бывшему доктору Имярек–другой, он сейчас починяет обувь, вам не нужно? – берёт совсем дёшево, практически ничего; так вот все они в один голос сказали: вам нужен Серебров, идите к Сереброву, идите!
Буквы составлялись в слова, большей частью незнакомые, и Павел Петрович вынужден был констатировать: это не классический греческий философов, и это не эллинистический койне. Так он и сказал молодому человеку. Но вы ведь сможете прочитать? – тот держал за руку, заглядывал в глаза. Это очень, очень, очень важно!
Павел Петрович объяснил, что если бы текста было больше или было бы точно известно, на каком диалекте и в каком веке это написано, то тогда конечно, разумеется: сесть, обложиться словарями…
Молодой человек стал сулить деньги, потом большие деньги, но Павел Петрович был мягко–непреклонен: вы поймите, говорил он, мало найдётся языков столь же многообразных, как древнегреческий; понятно, что этот документ написан на каком–то редком диалекте, но на каком именно, мы не знаем (вы ведь не знаете, верно?); чтобы это вычислить, нужен более объёмный текст, однако и тогда работа будет сродни работе дешифровщика. Она займёт непонятно сколько времени… нет–нет, дело совсем не в деньгах (хотя почему не в деньгах? и в деньгах тоже: всю весну цены росли как на дрожжах), я просто предупреждаю на всякий случай: может повезти, а может и не повезти. Ведь многие из тех диалектов были изначально бесписьменными, а от скольких просто не осталось письменных памятников? И как прикажете быть в этой ситуации? Только идти методом подбора, методом сцепленных ассоциаций…
Хорошо, сказал молодой человек, мне надо посоветоваться с друзьями, ничего, если я загляну к вам вечером домой? Ничего, сказал Павел Петрович, заглядывайте.
Но молодой человек не заглянул, а прибежал уличный мальчишка, передал толстый конверт, потребовал марку за доставку и пару папирос за срочность – и исчез. Павел Петрович вскрыл конверт и обнаружил там ещё четырнадцать переложенных голубыми промокашками пергаментных листов – каждый размером чуть больше тетрадного.
На одном из них позже обнаружился бледный розовый полустёртый квадратный косо посаженный штамп…
Чтобы был понятнее, о чём идёт речь. Древняя Греция, как известно, была совокупностью независимых городов–государств, каждый из которых имел собственный диалект. С возвышением Афин именно афинский, аттический диалект распространился почти по всей Элладе, где став вторым языком, а где и вытеснив коренные – скажем, на Кипре. После походов Александра аттический язык, вобрав в себя многое от языков покорённых народов, распространился очень широко. Он теперь назывался койне (или койнэ, кому как больше нравится, и это слово означало просто «общее»), его понимали на всём Средиземноморье от Геркулесовых Столбов до Дамаска, на Чёрном море и вверх по рекам, в Армении, в Малой и Средней Азии, Персии, местами в Индии и в Поднебесной. Это был универсальный международный язык, античное эсперанто (двуязычие в античном мире было повсеместным, да и многоязычие никого не удивляло). В таком состоянии он просуществовал более шестисот лет, постоянно изменяясь и не сдавая позиций. Понятно, что во многих местах, особенно в крупных торговых городах, он постепенно становился главным языком, вытесняя на второй план (а в греческих городах – и совсем) коренные языки. Недаром Библию в третьем веке до нашей эры пришлось переводить на койне (знаменитый «перевод Семидесяти мудрецов», Септуагинта) – евреи должны были понимать то, чему они молились…
И всё же полностью вытеснить древние греческие диалекты новому всеобщему языку не удалось. В каких–то медвежьих углах коренной Эллады упрямые кряжистые мужики, голубоглазые и с волосами, подобными светлому овечьему руну, кряхтя и щурясь, выводили на вощёных дощечках, или на египетских папирусах, или на кусках провяленной козьей шкуры слова родного языка – писали так, как слышали их. Мало что уцелело от этих записей… да и языков тех сохранилось до счёта «раз». Цаконский, он же новолаконский – как знак того, что спартанцы неистребимы и не покоряются ничему, даже времени. Но – это всё.
Так вот: Павлу Петровичу в руки попала рукопись на каком–то из тех диалектов, после которых текстов либо не осталось совсем, либо они лежали, забытые, в запасниках музеев или хранилищах библиотек. В общем, нужно было начинать если не с нуля – всё–таки Розетский камень для прочтения греческих рукописей не нужен, – то с достаточно низких ступеней. Где–то в глубине души Павел Петрович сомневался, что эта задача ему по зубам – особенно если принять во внимание окружающую обстановку…
Молодой человек так и не появился больше, и кто он был, откуда пришёл, где взял рукопись – осталось навсегда неизвестным. То есть рукопись скорее всего кто–то нашёл в разбитом или оставленном доме, или в библиотеке, или в архиве; а молодого человека подвела внешность, очередной патруль не поверил паспорту, где владелец его значился под фамилией Асламазян или там Диомедакис – а может, качество изготовления фальшивки оказалось так себе; хотя, с другой стороны, настоящий румынский паспорт можно было купить на Привозе за триста марок, а судя по суммам, которые молодой человек легко называл в разговоре, он мог позволить себе ксиву и подороже; но наверняка что–то произошло, что–то пошло не так, как надо, – и тут вариантов развития событий не более двух: или выстрел в спину убегающему, или скорбная дорога Одесса – Дальник – Березовка – Мостовое – Доманевка – Богдановка…
Более известная как «Дорога смерти».
Но кому понадобилось переводить рукопись, искать знатоков языка? Сулить за это деньги?.. Этот вопрос так и остался без ответа.
Так или иначе, Павел Петрович вдруг оказался владельцем древнего манускрипта не совсем ясного содержания. Первые дни он почти не уделял ему времени, поскольку был конец учебного года, время контрольных и экзаменов. Но всё–таки иногда он раскладывал перед собой хрупкие листки и пытался вникнуть в смысл написанного. В тот момент он пребывал в положении человека, который владеет, допустим, русским как иностранным – и пытается прочесть текст то ли на болгарском, то ли на сербском. Буквы те же, звучит при чтении вроде бы так же – а понять ничего не удаётся.
Потом, когда экзамены закончились и у преподавателей стало побольше свободного времени, он сел, взял пару толстых тетрадей и для начала переписал манускрипт своим почерком, крупно и с большими полями и большими интервалами между строк – чтобы было где делать пометки. Кроме того, переписывание от руки позволяет обычно хоть чуть–чуть, а влезть в душу того, чьё письмо ты переписываешь…
Где–то к концу этой работы его пробрала дрожь. Нельзя сказать, что он полностью понимал написанное – но как бы в тумане стали угадываться контуры, зазвучала мелодия. И эта мелодия больше никогда не отпускала его.
Анатоль был уверен, что отец именно тогда всё написанное понял, усвоил целиком, – и нуждался лишь в формальных доказательствах своей правоты. Для этого, и только для этого ему нужны были другие манускрипты на том же диалекте или хотя бы на родственном (уже было понятно, что это дорийская группа). А значит, ему нужен был другой знаток живого греческого языка эллинистического периода – чтобы погасить свои сомнения. Наконец, ему нужно было поговорить с каким–нибудь настоящим учёным–библеистом.
Потому что Павел Петрович вдруг почувствовал, что судьба человечества (а судьба человечества – это вам не гулькин хрен) сейчас находится в его руках.
До начала Курской битвы оставался один месяц.
Всё это в то время проскочило мимо мальчика Толи. Он, уже более или менее освоивший устную речь, проводил время со сверстниками – одноклассниками и просто ребятами с улицы. В просторном дворе (нетипичном для Одессы), рядом с дровяными сараями, играли в чику и бузу, менялись патронами, покуривали. Толю звали Немой, и это ему даже льстило. Немой – значит, не проболтается. И он не пробалтывался.
Он ничего никому не сказал даже тогда, когда кто–то из их компании приволок немецкую зажигательную бомбу – пролежавшую, надо полагать, с сорок первого. Но разбирать её Толя не пошёл и потому остался жив: двое пацанов сгорели так, что опознали их только по ботинкам, а двое просто задохнулись в дыму…
Толя шёл на похоронах за гробами и плакал в рукав. Он впервые в жизни не знал, правильно ли он поступил и как надо было поступить правильно.
Как раз после этих похорон отец и сказал ему, что на всё лето они едут в Констанцу и Бухарест, а там видно будет. Отец был взвинчен и целеустремлён. Анатоль не знает, каким способом ему удалось получить необходимые документы, где он взял деньги и кто ему во всём этом помогал. Но так или иначе, а в двадцатых числах июня они сели на маленький серый пароходик с чёрной трубой – и поплыли. Пароходик шёл вдоль берега, время от времени останавливаясь у пустых причалов; один или два человека сходили на берег или наоборот, поднимались на борт. Ночевали Серебровы на палубе, под звёздами, расстелив какой–то брезент…
Так и началось их странное путешествие по оккупированной Европе: Румыния, Болгария, Югославия, Италия… Павел Петрович неохотно пускался в объяснения, и Толя приблизительно понимал, почему: отец был весьма и весьма суеверен. Неловким словом он мог прогнать удачу, а удача ему была нужна как воздух. С какого–то момента, с какого–то рубежа, после какой–то неудачи, о сути которой Толя так ничего и не узнал, он прекратил нервничать и стал целеустремлён и спокоен. Подчёркнуто спокоен. Ему нужно было получить аудиенцию у Папы, не больше не меньше. Они прожили в Риме год, встретили там наступающих американцев, голодали. Потом война кончилась, и вдруг Павла Петровича обнадёжили: его примут в Ватикане, примут и выслушают, сначала, конечно, не сам Папа, но кто–то из кардиналов. Это были опять двадцатые числа июня. Он пошёл на встречу с человеком, который брался устроить эту встречу, и пропал. Толя пытался искать его, но ни американская военная полиция, ни карабинеры не ударили и пальцем о палец. Павел Петрович Серебров исчез, растворился без следа, и с ним пропал один из листков древнего манускрипта. У Толи остались четырнадцать листков – один из них со штемпелем – и шесть исписанных тетрадей с копиями текста и вариантами перевода.
Уже тогда он знал, что в жизни своей будет заниматься именно этим: древними языками и древними текстами.
По документам, которые отец прозорливо, или случайно, или иначе не получалось, но выправил именно так, как выправил, Толя значился подданным Его величества короля Михая (кавалера ордена Победы, кстати), а Румыния, в отличие от Советского Союза, нимало не заботилась о подгребании и возвращении всех своих раскиданных по миру граждан – вне зависимости от того, хотят они возвращаться или не очень. Толя, кстати, хотел. Но его удерживала в Риме надежда, что отец жив и вот–вот вернётся. С этой надеждой он прожил год – в каморке под лестницей, за которую выкладывал большую часть своего скудного заработка; работал же он в университетской библиотеке помощником переплётчика. Потом – как–то плавно, без хлопот, почти незаметно – он получил вид на жительство, поступил в университет, стал итальянцем, закончил университет…
Он уже понимал, что для окончательной локализации языка, которым написан манускрипт (а следовательно, и для понимания нюансов повествования), нужно раскрыть тайну штемпеля. Квадратная рамка с размытым текстом, в квадрате то ли распятие, то ли орёл. Анатоль факультативно изучил ту часть криминалистики, которая занимается восстановлением стёртых и выведенных печатей. Делая фотографии при разном освещении и с разными светофильтрами, он добился многого, но не всего: так, надпись совершенно не желала читаться. То, что первоначально казалось распятием, было на самом деле крестом, обвитым лозой. Редкий символ, один из раннехристианских, вышедший из употребления впоследствии.
Христианских символов, которые теперь почти забыты, довольно много: это рыбы, агнец, голубь, пальмовая ветвь или пальмовый венок, монограммы из букв Х и Р или альфа и омега; а также корабль, парус, якорь; виноградная лоза и виноградная гроздь. Крест тоже встречался, но в те времена – не так уж часто. Как правило, он играл роль разделителя, и в образовавшихся полях помещались другие сакральные символы или инициалы. Обычай носить крест на шее родился вообще достаточно поздно, после гонений на христиан в Парфии в четвёртом веке, когда им для позора вешали на шею тяжёлые дубовые кресты; в память о тех мучениках христиане стали носить кипарисовые крестики сначала в державе Сасанидов, потом – в Восточной Римской империи, и далее уже повсеместно.
Крест, обвитый лозой… Анатоль долго напрягал память, где он мог это видеть, но так тогда и не вспомнил. Вспомнил уже много лет спустя…
В двадцать три года он защитил диссертацию, став самым молодым на то время доктором. Его статьи печатались в весьма престижных научных журналах. Это позволило ему – не без усилий – добиться разрешения работать в библиотеке Ватикана.
Через два года он обнаружил точно такой же штемпель, но лучшей сохранности. Надпись по кольцу гласила: «Предавшие меня [да] будут прокляты и убиты». Штемпель этот принадлежал библиотеке очень старого и давно разрушенного монастыря на небольшом греческом острове в Ионическом море. Разумеется, Анатоль немедленно стал готовить экспедицию…
Это сегодня остров Китира (или Кифера) – модный курорт, а Европа не имеет границ. Тогда, в пятьдесят пятом, всё было всерьёз: визы, переговоры с местными властями, разрешение от патриархии. Это чтоб православные священники разрешили каким–то там безбожникам из католического университета копаться в своих землях… А ещё нужно было убедительно замотивировать надобность исследований именно в этом монастыре – поскольку к тому времени Анатоль уже прочёл манускрипт и прекрасно понимал, что оглашать его содержание не стоит. Просто на всякий случай. Мало ли что.
Греция была бедна, и гражданская война в ней вроде бы кончилась, но… В общем, постреливали. Пошаливали.
Если сейчас, в две тысячи седьмом, там есть деревни, куда полиция просто не суётся, даже на танках – то что говорить о пятьдесят пятом годе? Режим «чёрных полковников» не на пустом месте возник, были к нему предпосылки, да ещё какие…
Так или иначе, а через полгода хлопот экспедиция из трёх очкариков–авантюристов прибыла на место.
Монастырь был шестого века постройки, и разрушался он раз восемь: как силами косной природы, так и человеческими неугомонными ручками. Анатоль говорил, что позже, в восьмидесятых, развалины подчистили и подреставрировали – чтобы показывать туристам. А когда они приехали, то угадать можно было только кусок стены, вросшей в склон холма.




