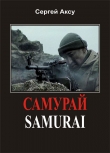Текст книги "Война: Журналист. Рота. Если кто меня слышит (сборник)"
Автор книги: Андрей Константинов
Соавторы: Борис Подопригора
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 73 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
– Мне кажется, его показаниям нельзя доверять…
– Почему? – Абду Салих подался вперед, а Мансур замер с незажженной сигаретой во рту.
Громов вздохнул, пожевал нижнюю губу и пояснил:
– Это «иван»[51]51
«Иваном» в воздушно-десантных войсках называли мешок с песком, выбрасываемый с парашютом из вертолета перед десантированием личного состава – для определения направления и скорости ветра на высоте; по «ивану» производилась корректировка точки выброски.
[Закрыть], пустышка… Его специально нам подсунули, он набит дезой по уши, только сам об этом не знает… Я про такое слышал у нас в Союзе. Даже не только слышал…
Подполковника прервала какая-то возня в небольшом удалении от палатки-шатра, в которой происходил разговор, потом раздался протяжный тоненький крик-всхлип, оборванный короткой автоматной очередью, и все снова стало тихо.
– Что это? – Обнорский вскочил со складного стульчика и попытался поймать взгляд Абду Салиха, но тот как раз занялся перешнуровкой своего ботинка. Андрей оглянулся на Дмитрия Геннадиевича, тот вздохнул и сказал устало:
– Сядь, Андрюша… Это не тревога…
Обнорский сел, продолжая недоуменно крутить головой. Майор Мансур закурил наконец свою сигарету, сделал первую длинную затяжку и обратился к Громову, старательно выговаривая русские слова (у него был характерный почти для всех арабов акцент – Мансур не мог выговорить звук «п», вместо него все время получалось «б»):
– Товарищ Дмитрий, по-моему, вы немного переоцениваете наших северных друзей… Пленный был обычным солдатиком-новичком, таких много в любой части… У нас таких тоже много… Я не думаю…
– Постойте! – До Обнорского наконец дошло, почему Мансур говорит о пленном в прошедшем времени. – Этого парня что – расстреляли?!
Мансур пожал плечами и хладнокровно кивнул:
– В условиях боевой обстановки… У нас ограничен запас воды и еды, а колодцы – только в Шакре. Если их еще не взорвали. К тому же для охраны пленного надо постоянно выделять людей, а их и так немного…
– Подожди, Мансур, подожди, – затряс головой Андрей, – но он же пленный?
Замполит щелкнул языком и улыбнулся – улыбка эта могла означать все что угодно. Обнорский вскочил и, не обращая внимания на окрик советника, выбежал из палатки. Маленькое скрюченное тельце лежало метрах в тридцати от штаба, отбрасывая на красноватый песок длинную утреннюю тень. Двое сержантов, отложив автоматы, перекуривали, а трое раздевшихся до пояса рядовых лениво копали яму. Пленный лежал, странно вывернув голову и поджав колени к груди, словно пытался в смертной муке свернуться калачиком. Андрея замутило и затрясло, но блевануть он не успел – сзади неслышно подошел Громов, взял Обнорского за плечи и сказал жестко:
– Пойдем-ка!
Пустыня вокруг Шакра была каменистой, барханы желто-розового песка чередовались с красно-коричневыми обломками старых скал, за один из которых советник и завел Андрея.
– А куда мы идем?.. – начал было спрашивать Обнорский, но договорить не успел – чудовищной силы удар под дых сначала согнул его пополам, а потом заставил и вовсе упасть на песок.
Подполковник спокойно присел рядом, пожевывая нижнюю губу, дождался, пока Андрей перестанет судорожно заглатывать ртом воздух, и тихо, но очень твердо заговорил:
– Детство благородное в жопе заиграло? Ты что себе позволяешь? Что ты охаешь и мечешься, как гимназистка по казарме? Это – война, а не турпоход. Точнее – это-то как раз еще не война, это еще цветочки, а что с тобой начнется, когда ягодки пойдут?! В обмороки падать начнешь? Негодовать и ручки заламывать? Тогда на хуй было сюда приезжать – капусту задарма даже блядям не платят… Чтобы больше я таких сцен не слышал и не видел… Или тебе хочется, чтобы мы от наших друзей по девятиграммовому шукрану[52]52
Шукран – спасибо (арабск.).
[Закрыть] в спину получили? Мальчонку жалко стало? Ты бы лучше меня пожалел, Семеныча, баб наших с детишками… да и своих мамку с папкой. Жалостливый какой нашелся… Запомни раз и навсегда – на войне людей не убивают, на войне уничтожают врагов. Все, точка. А по всем лирическим вопросам – к товарищам Пушкину и Лермонтову, но в другое время и в другом месте. Еще раз истерику закатить надумаешь – пеняй на себя! Понял?
– Понял, – угрюмо кивнул отдышавшийся Обнорский, выплевывая песок, попавший в рот. Не глядя Громову в глаза, он полез в карман за сигаретами и долго не мог зажечь спичку – тряслись руки.
– Дай мне, что ли… – Дмитрий Геннадиевич протянул руку к пачке.
Андрей удивленно поднял на него глаза:
– Вы же не курите?..
– А тебе что, жалко?
– Да нет, Дмитрий Геннадиевич, – засуетился Андрей. – Берите, конечно, просто я удивился…
Они быстро выкурили по сигарете, и Громов поднялся с теплого песка:
– Все, проехали и забыли. Пошли в палатку, и сострой морду полюбезнее. Как я тебя – не очень? В штаны не навалил?
– Нет, – невольно улыбнулся Обнорский. – Со штанами порядок.
– Значит, старею, – вздохнул подполковник. – Возраст… В Союзе, если я какому-нибудь солдатику в пузо двигал, тот обязательно обсирался. Последний раз перед отъездом в Йемен попробовал – еще получалось…
Несмотря на возражения Громова, Абду Салих с Мансуром решили все-таки атаковать Шакр, не дожидаясь подхода танков Восьмой бригады и курсантских рот. Пользуясь складками местности и естественными укрытиями, бригада взяла деревушку в полукольцо и медленно сжимала его, подбираясь все ближе и ближе. Северяне реагировали на это довольно вялым огнем из автоматов и ручных пулеметов. Когда до домов Шакра было уже, что называется, рукой подать, по селению ударили Б-10, минометы и тяжелые пулеметы. Обнорский моментально оглох от грохота, рядом с ним одновременно справа ударил гранатомет, а слева – «безоткатка», в ушах поплыл тягучий звон, и все внешние звуки проникали в мозг как сквозь вату.
После короткой артподготовки Абду Салих пальнул в воздух из ракетницы, и цепи десантников в темной пятнистой форме, хорошо различимой на фоне песка и скал, с ревом бросились в атаку. В следующее мгновение Обнорскому показалось, что Шакр взорвался изнутри, – оттуда ответили огнем такой плотности, что отдельных выстрелов было даже не различить, автоматные и минометные очереди, минометные хлопки и гавканье орудий слились в монолитный мрачный вой. Громов моментально сбил Обнорского и Семеныча на песок и, рявкнув: «За мной!» – быстро пополз за скалы. Андрей и Дорошенко последовали за ним, не раздумывая и даже не оглянувшись ни разу в сторону атакующих цепей.
Обнорскому показалось, что стрельба стихла довольно быстро, но, когда он глянул на часы, оказалось, что от момента начала штурма до того, как из Шакра перестали стрелять, прошло около часа… Дорошенко, Громов и Обнорский все это время молчали, лишь Семеныч вздохнул горько и сказал тихо, вроде как самому себе:
– Я-то шо тут делаю? Парашюты, как я вижу, здесь никому нэ трэба…
Дмитрий Геннадиевич и Андрей сделали вид, что не расслышали его слов за грохотом выстрелов и разрывами мин и снарядов…
Потери Седьмой бригады от неудачного штурма были впечатляющими – тридцать девять убитых, около пятидесяти раненых и бог знает сколько контуженых. Хорошо еще, что цепи сумели быстро откатиться назад, под защиту скал и высоких барханов. Все могло быть и хуже. Убитых и раненых оттащить к себе удалось не всех. Метрах в ста от первого дома Шакра лежал человек в кубинской камуфляжке и долго, отчаянно, на одной ноте выл – страшно, дико, обреченно… Северяне, видимо, понимали, что этот вой еще больше деморализует личный состав южан, и поэтому не торопились добивать раненого – очередь, оборвавшая вой, раздалась лишь минут через тридцать, но Андрею показалось, что стреляли со стороны Седьмой бригады.
Мансур и Абду Салих были целыми и невредимыми, но подавленными и все время виновато посматривали на Громова, словно ожидали от него каких-то советов или распоряжений. Подполковник почесал затылок и сказал без всякой позы, с одной только усталостью в голосе:
– Чего тут думать? Вертушки надо вызвать, – чтоб раненых и «двухсотых»[53]53
«Двухсотый» – груз «200», покойник.
[Закрыть] забрали да заодно чтобы с воздуха этот Шакр подолбали… Потом, дай Бог, танки подойдут, тогда и посмотрим, у кого калибр побольше…
…Вертолеты появились лишь во второй половине дня, две пары сделали несколько осторожных заходов на деревушку и, торопливо забрав раненых и убитых, ушли в сторону Адена. К вечеру подтянулись дошедшие наконец танки Восьмой бригады и курсантские роты. Настроение у всех как-то сразу поднялось, если вообще возможно назвать настроением состояние отупелой полупрострации, в которой от жары и страха находился почти весь йеменский спецназ.
Шакр долбили почти всю ночь из всех видов огневого подавления – и Андрею уже показалось, что в деревушке просто не может остаться хоть что-то живое. Тем не менее, когда к утру начался новый штурм, из Шакра снова ответили огнем, правда, уже не такой плотности, как накануне. Поэтому атакующие сумели ворваться в деревушку, а дальше там началась обычная резня, циничная, беспощадная и страшная, не имевшая ничего общего с красивыми кадрами из фильмов о войне, которые Обнорский смотрел в Союзе. Хорошо еще, что советники двигались вместе с Абду Салихом и Мансуром во втором эшелоне атаки, поэтому Андрей видел в основном уже лишь результаты резни, а не сам процесс, но и этого хватало за глаза и за уши. Даже у комбрига с замполитом лица стали серыми, а Семеныч с Обнорским блевали не стесняясь. В воздухе плавал тягучий трупный запах (убитые начинали разлагаться под жарким солнцем уже через несколько часов), перемешанный с запахом свежей крови – как на мясокомбинате.
Три узенькие улочки Шакра были в буквальном смысле завалены трупами южан, северян (их форма была более светлой и лучше подходила для действий в пустыне) и странно смотревшимися на их фоне телами в гражданке – в основном это были мужчины в футах, но попадались и женщины в черных и зеленых драпировках, и полуголые дети… Вскоре все было кончено: то в одном, то в другом конце села еще слышались автоматные и пулеметные выстрелы, но они уже казались чем-то вроде потрескивания углей, после того как большой костер все-таки прогорел…
У развалин мечети на небольшой площади, к которой сходились три деревенские улочки, Громов отозвал в сторону Обнорского и Семеныча, достал из кармана плоскую бутылку коньяку, выхлебал треть, занюхал рукавом и отдал остатки Андрею с Дорошенко. Коньяк пился легко, несмотря на жару и трупный смрад, Обнорский с удовольствием (хотя какое тут удовольствие) принял бы еще.
– Так, хлопцы, – сказал Дмитрий Геннадиевич, – нас трое и улицы – три. Каждый берет по улице – и осматривает… Что искать – понятно?
– Нет, – одновременно ответили Дорошенко с Обнорским.
Громов вздохнул и покачал головой:
– Русских искать, наших… Тех, про которых генерал говорил… Все, пошли…
Этот проход по улочке взятого Шакра Обнорский потом запрещал себе вспоминать долгие годы, боясь, что воспоминания могут привести к затяжным ночным кошмарам, от которых одно спасение – водка… Трупы, трупы на каждом шагу, и их еще нужно было осматривать и переворачивать… Улочка была длиной всего в пару сотен метров, не больше, но Андрею казалось, что он никогда не сможет пройти ее до конца. К середине своего маршрута он отупел уже настолько, что не испытал никаких эмоций, натолкнувшись на группу десантников, сволакивавших нескольких раненых северян в одну кучу и добивавших их одиночными выстрелами в головы… Более того, когда десантники (среди них был старый знакомый Али Касем) окликнули Обнорского, он автоматически помахал им рукой и даже улыбнулся – если можно было, конечно, принять за улыбку ту гримасу, которая перекосила его лицо…
…Русских они не нашли, впрочем, стопроцентной уверенности в том, что их в Шакре и нет, не было – многие трупы идентификации не подлежали, попадались экземпляры без голов, просто куски человеческих тел, смрадное, облепленное насекомыми месиво…
Так прекратила свое существование приграничная деревенька Шакр – в ней не уцелел никто, ни один человек… К вечеру все трупы были закопаны в братские могилы – сколько их было, Андрей не знал, а к цифре 650 человек, на которой настаивал Мансур, отнесся с недоверием по причине ее круглости. Седьмая бригада потеряла убитыми 96 человек и ранеными 134, у курсантов потери составили соответственно – 58 и 142, танкисты практически не пострадали – огнем из минометов и «безоткаток» было подожжено три танка, но все члены экипажей отделались контузиями и легкими ранениями.
Самое интересное заключалось в том, что буквально на следующий день после взятия Шакра состоялись официальные переговоры между лидерами ЙАР и НДРЙ, на которых было принято соломоново решение – район бывшей деревни Шакр признавался спорной нейтральной территорией, из которой должны быть выведены все войска, а вопрос о том, кто будет разрабатывать нефтеносный пласт, решили отложить до более подходящего момента… Почему все это нельзя было решить еще до штурма, Андрей так и не понял, как и то, почему северяне бросили свой десант на произвол судьбы, не поддержав его ничем, хотя могли бы… Скорее всего, события вокруг Шакра были лишь звеном в длинной цепочке взаимотестирования Севером и Югом друг друга на прочность. А про то, что была когда-то такая деревушка Шакр и в ней жили люди, решено было забыть, как будто ее вовсе не существовало… К месту постоянной дислокации в Красном Пролетарии остатки двух батальонов Седьмой бригады спецназа вернулись лишь 11 марта.
Когда до Адена оставалось всего часа два ходу, у комбрига вдруг запищала рация. Абду Салих что-то долго выслушивал, лицо его стало озабоченным, наконец он обернулся к советникам и, тщательно подбирая слова, заговорил, вкладывая в свои слова максимум участия:
– Товарищи, у меня для вас печальное известие, очень жаль, что именно мне нужно его вам передать… Все люди смертны, все когда-нибудь завершают свой земной путь.
Абду Салих вздохнул. Громов с Дорошенко побледнели и подались вперед, на их лицах явно читалась одна мысль: что-то случилось с женами. Андрей тоже встревожился, но не так сильно – родных в Адене у него все-таки не было, а в то, что по рации к комбригу может прийти какое-то скорбное сообщение из Союза, Обнорский не очень верил.
– Ну не тяни, Абду Салих, что случилось? – не выдержал Семеныч и аж привстал с сиденья.
Абду Салих тяжело вздохнул еще раз и медленно, торжественно-печально объявил:
– Только что мне передали – умер Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко…
– Ба-лядь! – протяжно выругался Громов с явным облегчением.
Дорошенко перевел шумно дух, а Андрей едва истерически не захохотал, но вовремя оборвал себя – очень уж искренне-сочувственно смотрел на них комбриг.
– Это большая потеря для всего советского народа, – фальшивым голосом сказал, спасая положение, старший советник.
– Для йеменского тоже, – важно кивнул Абду Салих.
Обнорский изо всех сил сдерживал себя, отвернувшись к заметаемому желтой песчаной поземкой шоссе…
Вечером того же дня Громов, Семеныч и Обнорский были уже в Тарике. Въезжая в город, Андрей вспомнил, как генеральский водитель Гена, везя его в первый день из аэропорта, пообещал, что когда-нибудь Аден может показаться Парижем…
До глубокой ночи двух советников и переводчика Седьмой бригады продержали у генерала Сорокина, заставив вместе и поврозь подробно рассказывать все, что они пережили за неполную неделю. Обнорский, подсчитав дни, минувшие с их отъезда из Адена, очень удивился – ему казалось, что времени прошло намного больше. Их расспрашивали в основном генерал и референт Пахоменко, но в кабинете находился еще один, незнакомый Андрею мужчина в штатском, однако незнакомец никаких вопросов не задавал, только слушал внимательно. На все вопросы Обнорский отвечал механически, думая совершенно о другом. Его в этот момент больше всего волновало, как избавиться от подцепленных им в пустыне то ли вшей, то ли блох: насекомые беспокойно ползали по телу под грязной вонючей формой, и Андрей, не обращая уже внимания на генерала с Пахоменко, все время чесался как шелудивый…
Когда расспросы наконец закончились, генерал долго молчал, а потом сказал странным, чуть дрогнувшим голосом:
– Благодарю за службу, товарищи офицеры… Объявляю вам четверо суток выходных, отдыхайте, приводите себя в порядок… Будем рассматривать вопрос о поощрении всех троих на более высоком уровне… И еще. В интересах службы прошу в гарнизоне не распространять… э-э… информацию, носителями которой вы стали. Надеюсь, причины всем понятны…
Пахоменко задержал Андрея ненадолго – сунул ему тайком за пазуху отличный виски «Джонни Уокер», шепнув на ухо:
– Это от меня лично, переводяга…
До сих пор Андрей держался нормально, но когда референт назвал его переводягой, словно признал его официальное принятие в клан, в глазах защипало, он шмыгнул носом и поторопился уйти, чтобы не позориться слезами…
Бутылку виски он вскрыл, еще не дойдя до своей комнаты, и выхлебал на лестнице грамм двести прямо из горла, потом выкурил сигарету на террасе, постарался успокоиться и наконец постучал в дверь, из-под которой выбивалась узенькая полосочка света. Стало быть, Илья был дома.
Новоселов открыл сразу, как будто ждал этого стука, глянул Андрею в лицо, все понял, обнял, не говоря ни слова, затащил в комнату, помог раздеться (Обнорского качало, словно на палубе корабля в пятибалльный шторм) и повел в душ…
В ту ночь Андрей первый раз в Йемене напился до полной потери памяти – утром он не мог вспомнить, что делал и о чем говорил с Ильей, на все вопросы Новоселов только невесело улыбался. Из пикантных подробностей упомянул лишь то обстоятельство, что Андрей, оказывается, перед тем как заснуть, слезно умолял его не гасить свет в комнате, «иначе они придут»… Кроме того, Новоселов, усмехнувшись, вынул из шкафа ПМ Обнорского (автомат и гранаты Андрей оставил в бригаде) и, протягивая пистолет хозяин у, сказал:
– Держи, спрячь куда-нибудь… Ты вчера им махать пытался, пришлось изъять. Так что теперь мы с тобой квиты – у дураков мысли сходятся…
В отличие от Ильи, не задававшего никаких вопросов, пришедший в гости днем Царьков пригласил Обнорского на прогулку берегом (Тарик находился метрах в семистах от океана) и промурыжил почти два часа. От его вопросов и своих ответов Андрею снова безумно захотелось выпить, что он и сделал, как только вернулся в комнату. К вечеру он уже хорошо поднажрался, начал потихоньку оттаивать и даже смог, несмотря на запрет генерала и собственное нежелание вспоминать, более-менее связно рассказать Илье свои приключения, давясь время от времени нехорошим истерическим смешком, порой очень напоминавшим рыдание… Новоселов старался пить поменьше – нехорошо, когда невменяемы оба, – но под конец тоже накушался изрядно, к тому же в гости нагрянули Цыганов с Гридичем и Арменом Петросовым, переводчиком с острова Перим. Короче, наутро Обнорский вновь не мог вспомнить, чем закончился вечер, и, что самое печальное, никто из участников пьянки помочь ему не мог – Цыганов авторитетно пояснил, когда все сползлись к ним в комнату опохмеляться:
– Здесь климат такой – начисто память отшибает. Не переживай, Палестинец, скоро привыкнешь…
Несмотря на то что запасы алкоголя вроде бы были солидными, к середине третьего дня общего запоя ни у кого ничего не осталось, а поправить организмы требовалось безотлагательно, потому что, как справедливо выразился Володька Гридич, допивая последнюю банку финского «Коффа», «сердце пивом не обманешь».
Ребята скинулись по десять динаров и решили послать гонца к Ахмеду, хозяину маленькой гостиницы, располагавшейся неподалеку от Тарика. Гостиница называлась «Вид на море», и в ней на первом этаже был алкогольный бар – спиртное там стоило в полтора раза дороже, чем в государственном супермаркете, но до магазина топать было километров пять, и никто из ребят это расстояние просто бы не одолел. К слову сказать, Ахмед был мужиком отличным и хорошо ладил с советскими офицерами и особенно, естественно, с переводчиками, которые называли его палочкой-выручалочкой. К Ахмеду можно было обратиться за выпивкой в любое время дня и ночи – у него еще со времен английских колонизаторов сохранилось чувство уважения к похмельным или «недогнавшимся» европейцам. Однажды Гридич рассказал про ребят из предыдущего заезда, которых как-то раз так приперло, что они пришли к «Виду на море» в три часа ночи. Долго кидали камешки в окно Ахмеда (он жил прямо в гостинице), пока сонный хозяин не сбросил им с балкона ключи от бара, велев взять самим что надо, деньги оставить на стойке и ключи потом забросить обратно через балконную дверь…
Гонца выбирали жребием, и идти выпало Обнорскому. (Ему редко везло во всякие азартные игры. Исключение составила, пожалуй, одна история, случившаяся в университете, тогда Андрей вместе со своим приятелем по университетской сборной Серегой Челищевым играли в общаге юрфака в карты с двумя дамами на «американку». Игра была бурной – пять партий в дурака, причем ребята сразу предупредили девушек, что желание у них будет в случае выигрыша одно: чтобы девушки разделись по пояс, высунулись из окна во двор общаги и трижды громко крикнули: «Здесь идет распродажа белых женщин!» Несмотря на то что ребята выиграли, девицы с чисто женской логикой отдавать карточный долг отказались, началась возня, сопровождаемая хохотом и визгом, пришел комендант, и ребятам пришлось покинуть общагу через то самое окно, в которое они пытались высунуть своих партнерш. Так что и в том случае везение было, мягко говоря, относительное.)
Как ни ломало Андрея тащиться к Ахмеду по жаре, идти надо было – выпивка закончилась, а трезветь Обнорскому не хотелось. Все случившееся в Шакре вставало перед глазами, как только алкогольные пары в мозгу начинали рассеиваться… Потом он сам не мог понять, для чего взял с собой пистолет, – то ли из дешевого понта, то ли автоматически среагировал на рассказываемую как раз в момент его недолгих сборов очередную байку про то, что когда-то жил да был в Тарике некий курсант-переводчик, пропивавший у Ахмеда всю зарплату, а когда заканчивались деньги, этот курсант вынимал пистолет, клал его на стойку и нежно гладил. И тогда Ахмед наливал ему в кредит…
Обнорский засунул в карман мятой форменной рубашки деньги, а за пояс брюк сзади – ПМ и в таком виде вышел на улицу. Опять же он мог выбраться из гарнизона узенькой, незаметной обходной тропинкой, которую в Тарике называли «тропой переводчика», но Андрею было лень совершать обходной маневр, и он поперся прямо через центральный КПП. Там на него наткнулся заместитель Главного по тылу подполковник Зайнетдинов, ведавший кооперативным магазином, распределением квартир и кондиционеров. Перед Зайнетдиновым заискивали практически все без исключения хабиры – он, например, мог выдать хороший холодильник в квартиру, а мог такой, который ломался бы раз в неделю… К тому же именно Зайнетдинов распределял продуктовые и алкогольные пайки – словом, он был большим человеком в Тарике, но несколько страдал от того, что у замполита, например, все равно было больше власти над личным составом. Страдания эти Зайнетдинов вымещал в основном на молодых переводчиках, мучая их тупыми придирками и строя из себя чуть ли не строевого офицера, хотя на самом деле подполковник не выезжал из гарнизона дальше аденского аэропорта. Пропустить мимо себя пьяного, небритого, мятого (прошедшую ночь Андрей, видимо, спал прямо в форме) Обнорского Зайнетдинов никак не мог – начал читать долгую, нудную нотацию про то, как подобный вид позорит высокое звание советского человека и офицера, вспомнил и про приказ № 010, естественно… А у Андрея и так-то настроение было паскуднее некуда, да еще солнце голову напекло, а тут тыловик на эту самую голову свалился, крыса магазинная, жизни учить начал… Чтобы прервать его словесный понос, Обнорскому не пришло в голову ничего умнее как вытащить из-за пояса ствол вроде как невзначай, а потом, состроив безумную рожу, посмотреть в маленькие глазки Зайнетдинова.
Ничем иным, кроме как состоянием крепкого подпития и сильно расшатанной Шакром психики, эту хулиганскую выходку объяснить было, конечно, нельзя. Естественно, Андрей не собирался ни угрожать впрямую подполковнику, ни уж тем более стрелять в него – он просто повертел ствол в руке, а потом сунул обратно за ремень, но Зайнетдинову этого хватило: он пожелтел, как старая газета, моментально заткнулся и вжался в стенку, окольцовывавшую гарнизон. Обнорскому этого только и надо было: он вытянулся по стойке «смирно», вежливо спросил: «Разрешите идти?» – и, не дожидаясь ответа, пошел к Ахмеду…
Последствия своего идиотского поступка Обнорский сумел оценить на обратном пути: его, затаренного джином и пивом, естественно, уже поджидали сам Зайнетдинов, замполит Кузнецов и старший всех бригадных советников полковник Кордава. Андрей к тому моменту уже успел немного протрезветь, но выхлоп от него все равно шел, как от настоящего Змея Горыныча, да и в сумке все булькало и звенело весьма красноречиво…
Короче говоря, влетел Обнорский, как выразился позже Громов, «по самое дальше некуда», скандал разразился чудовищный, и в Аппарате был поднят вопрос о высылке Андрея из Йемена. Зайнетдинов настаивал на том, что имела место «угроза оружием старшему офицеру». Обнорский же, поняв, что натворил, стоял твердо на своей версии: дескать, пистолет он вынул просто потому, что ствол натер ему задницу, – короче, наглухо «включил дурака» и даже предлагал продемонстрировать (на следующий день) эту потертость, которую он как алиби сделал себе ночью по совету Ильи. Двое суток Андрей висел на волоске – Главный размышлял, какое решение принять, но в конце концов все было спущено на тормозах: в Аппарате ведь тоже не хотели, чтобы в Москве решили, что в Адене у советских военных творится полный бардак и озверение, – Бог с ним, с дураком практикантом, но ведь и генералу с заместителями из «десятки» тоже понавтыкали бы пистонов…
Все обошлось выговором. Объявляя его Обнорскому, референт Пахоменко только плечами пожал:
– Дурак ты, Андрюша… На тебя, Дорошенко и Громова уже представления к Красным Звездам написаны были. Твое теперь, естественно, никто в Москву отсылать не будет. Радуйся, что легко отделался… Полковник Грицалюк, между нами говоря, очень Зайнетдинова поддерживал и сильно давил на генерала… Скажи спасибо Громову и… Короче, нашлись у тебя и заступники. Да и генерал к тебе, дураку, неплохо относится… Считай, что пронесло, но вазелин готовь – тебя теперь на каждом собрании-совещании поминать будут, пока кто-то другой еще покруче тебя не влетит…
Надо сказать, что своей пьяной выходкой Обнорский «поднасрал» не только себе, но и остальным переводягам, – случившийся инцидент дал повод полковнику Кузнецову заявить о весьма неблагополучном «морально-политическом состоянии в среде переводчиков» и предпринять ряд мер для повышения этого состояния.
Первая мера касалась урезания алкогольного пайка младшим офицерам, курсантам и студентам-практикантам. Это еще ребята пережили легко, – как выразился Володька Гридич: «Покупали и покупать будем!» – а вот вторая инициатива замполита была пострашнее: Кузнецов решил организовать в Тарике патриотический хор. Каждый день в 18.00 все находившиеся в гарнизоне переводчики (за исключением дежурных) должны были собираться в ленинской комнате и в течение полутора часов под наблюдением товарища полковника петь песни о Родине. Ссылки на отсутствие слуха и голоса замполитом отвергались напрочь (ему важно было не качество исполнения, а чтоб «люди делом занимались»), поэтому хор, прямо скажем, получился еще тот – от осатанелого завывания («Ро-одина-а-а, твои бо-ольши-ие по-оля-я!») даже у слабонервных слезы на глаза наворачивались, а хабирские жены, пока переводчики пели, просто боялись выходить из домов.
Смех смехом, но именно этот дурацкий залет с Зайнетдиновым и последовавшая за ним демонстрация репрессивного армейского идиотизма во всей красе по поговорке «клин клином вышибают» помогли Андрею преодолеть глубокий шок и депрессию, в которую он начал проваливаться после экспедиции в Шакр. Помогли, конечно, не до конца – Обнорский очень изменился, он был уже совсем не тем веселым ясноглазым пареньком, который в октябре 1984 года прилетел в Аден с искренними романтическими представлениями об интернациональном долге. Сам Андрей не замечал изменений, происходивших с ним, ему просто некогда было об этом думать, но объективно он стал более жестоким, циничным, угрюмым, а обычное выражение его глаз, наверное, очень напугало бы его маму…
Родителей и Машу Обнорский вспоминал часто, но теперь его мысли о Союзе были совсем не такими, как в начале командировки. Получая приходившие в Тарик с полутора-двухмесячным опозданием письма, Андрей все острее ощущал, как удаляется от него тот далекий, казалось бы, совсем недавно оставленный им мир, а к нормальной ностальгии по родине примешивалось странное, неосознанное чувство страха от предстоящего возвращения. Окружавший его в Адене мир – враждебный, страшный, неуютный и грязный – стал ему ближе и понятнее, чем Союз. Обнорский стремительно взрослел, процесс этот был закономерным, но достаточно болезненным. Нет, конечно, было бы совсем неправильно сказать, что Андрея не тянуло домой, – тянуло, и еще как, но, с другой стороны, и Йемен очень глубоко вошел в него – как заноза, которую не вытащишь…
В бригаде, быстро пополнившей потери личного состава новичками, все постепенно пошло своим чередом, и по-прежнему Обнорский передавал Профессору от Царькова и обратно какие-то странные фразы. Царьков, кстати, после случая с Зайнетдиновым несколько дней не общался с Андреем, а потом сделал вид, будто вообще ничего не слышал об этой истории, хотя ее, судя по всему, в Адене очень быстро узнали буквально все русские – не только военные, но и гражданские.
Впрочем, довольно скоро в советской колонии возникли новые темы для пересудов. Ужасный климат, почти полная оторванность от родины, все более и более накалявшаяся обстановка в Йемене (в провинциях уже стреляли вовсю, да и в самом Адене выстрелы по ночам перестали быть редкостью) и чувство полной незащищенности творили с психикой советских людей довольно мрачные вещи. В конце марта в гарнизоне Бадер между двумя летчиками произошла форменная дуэль на топорах. Некий полковник рубился с неким подполковником из-за его супруги – дамы, приятной во всех отношениях, несмотря на исполнившиеся ей недавно сорок шесть лет. Обошлось без жертв. Драчунов, одному из которых было сорок девять лет, а другому сорок восемь, вовремя удалось разнять, но сам факт был, конечно, неприятным. Молодых переводчиков, правда, в этой истории больше всего взволновал скабрезный аспект и возраст участников, ребята были поражены таким невиданным накалом страстей у «стариков», а Илья даже, услышав эту сплетню, сказал серьезно и с уважением: