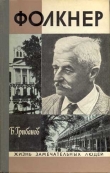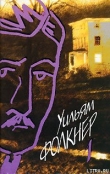Текст книги "И не только Сэлинджер. Десять опытов прочтения английской и американской литературы"
Автор книги: Андрей Аствацатуров
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Потуги колонизаторов и прожорливый хаос
По мере отдаления Европы и приближения Африки ослабляется присутствие цивилизации. Она как будто бы растворяется в первозданном океане древнего хаоса и уже на бескрайнем Черном континенте сохраняется в виде отдаленных друг от друга одиноких затерянных островов, случайных следов колонизации. Здесь важно то, что все приметы цивилизации выглядят именно случайными, не укорененными в реальности, абсурдно-нелепыми и недолговечными. Почувствовать, пережить эту мысль можно в каком-нибудь национальном заповеднике США. Ходишь себе по огромному лесу. В радиусе примерно двенадцати с половиной миль решительно никакого жилья. Кругом – горы, обросшие древними секвойями. Немного робеешь – бесплатная брошюра проинформировала тебя, что тут водятся гризли. Надо быть начеку. И вдруг посреди леса в самой его чаще натыкаешься на будку платного сортира, почему-то с рекламой чипсов. Совершенно неуместный и странный след человеческой деятельности.
Конрад в “Сердце тьмы” создает похожий эффект. Форты, станции, дамбы, отрезки будущих железных дорог, покосившиеся дома, сараи, изгороди, разодетые джентльмены смотрятся в африканском мире так же органично, как платный сортир с рекламой хрустящих чипсов – в чаще древних секвой. Все это кажется призрачным, хрупким, ненадежным, готовым вот-вот раствориться, потеряться в хаосе. Наспех построенные дома могут в любую минуту рухнуть; сараи, набитые товарами, вспыхивают как спичечные коробки; проложенные дороги тотчас же зарастают; железнодорожные рельсы ржавеют; техника ломается. А сами колонизаторы, едва приехав, заболевают лихорадкой и постепенно тают как свечи.
Попытки упорядочить мир обречены на неудачу. Разум, стремящийся себя утвердить, едва осуществившись, тотчас же растворяется в хаосе бессознательного. Любимый образ Конрада, с поразительным постоянством возникающий в “Сердце тьмы”, – стихия, заглатывающая людей. Сначала этот образ передается в конкретном бытовом эпизоде – солдаты, которых высаживают на африканский берег, тотчас же тонут в волнах прибоя: “We… landed more soldiers – to take care of the custom-house clerks, presumably. Some, I heard, got drowned in the surf; but whether they did or not, nobody seemed particularly to care. They were just flung out there, and on we went”. – “Снова высаживали мы солдат, должно быть, для того, чтобы они охраняли таможенных чиновников. Я узнал, что несколько человек утонуло в волнах прибоя, но, казалось, никто не придавал этому значения. Мы просто выбрасывали людей на берег и шли дальше”. Впрочем, текст Конрада всегда многоуровневый, как слоеный пирог, и “конкретность”, ситуативность данной сцены не лишает ее условно-символической иронии: солдаты, призванные охранять чиновничий порядок в Африке, гибнут, едва соприкоснувшись с ее хаосом. Значит, попытка организовать мир терпит неудачу.
Далее в тексте Конрада эта идея встречается в развернутом сравнении, открывая символический план повествования: “In a few days the Eldorado Expedition went into the patient wilderness, that closed upon it as the sea closes over a diver”. – “Через несколько дней экспедиция Эльдорадо углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом”. Хаос заглатывает экспедицию колонизаторов, носителей порядка, и ее следы теряются. Спустя несколько страниц в тексте возникает снова аналогичный образ: “The reaches opened before us and closed behind, as if the forest had stepped leisurely across the water to bar the way for our return”. – “Лес расступался перед нами и смыкался за нашими спинами, словно деревья лениво вступали в воду, чтобы преградить нам путь назад”. Цивилизация окончательно тает, отступает, и вскоре Марлоу обнаруживает себя в средоточии хаоса, полусна-полуяви. Здесь нет ни времени – привычного для европейца разделения на минуты, часы, дни, века, ни пространства, разбитого на ярды и мили. Мир, еще недавно четко структурируемый, превращается в непрерывную, разнонаправленную, становящуюся субстанцию.
Собственно, Марлоу к этому и стремился. Находясь на территории цивилизации, он томился жутким экзистенциальным одиночеством, отделенностью от жизни, ощущением призрачности своего существования среди подобных ему белых людей. Уже на корабле, идущем вдоль африканского побережья, он жадно всматривается в дикарей, представляющих первозданную реальность, древний мрак (чернота тела), и ощущает приобщенность к жизни. В этот самый момент его речь несколько меняется. Вялая констатация (бесконечно тянущийся берег, скучные однообразные события) уступает место плотной детальной выписанности. Реальность и люди вдруг становятся объемными, ясно осязаемыми, чудовищно зримыми: “Now and then a boat from the shore gave one a momentary contact with reality. It was paddled by black fellows. You could see from afar the white of their eyeballs glistening. They shouted, sang; their bodies streamed with perspiration; they had faces like grotesque masks – these chaps; but they had bone, muscle, a wild vitality, an intense energy of movement, that was as natural and true as the surf along their coast”. – “Иногда лодка, отчалившая от берега, давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью. Гребцами в ней были черные парни. Издали вы могли видеть, как сверкали белки их глаз. Они кричали, пели; пот струйками сбегал по телу; лица их напоминали гротескные маски; но у них были кости и мускулы, в них чувствовались необузданная жизненная сила и напряженная энергия, и это было так же естественно и правдиво, как шум прибоя у берега”. Многоточие образов (белки глаз, лица, пот, мускулы) открывает в себе мощную энергию, глубинную и подлинную реальность, соприкоснуться с которой так жаждет Марлоу.
Теперь, плывя по Конго, оказавшись в средоточии жизни, в сердце Тьмы, Марлоу ужасается. И начинает цепляться за то, что прежде считал призрачным, абсурдным, временным. Он даже лелеет собственную призрачность, единичность, не позволяя своему “Я” полностью раствориться в мировой воле. Нелепый, дышащий на ладан пароходик, абсурдный на реке Конго, как подводная лодка в степях Украины, становится теперь символом самовластия. “Damyata!” (Владей собой! – санскр.). Вспомним Томаса Стернза Элиота, всегда восторгавшегося Конрадом и часто цитировавшего в своих стихах “Сердце тьмы”:
Damyata: The boat responded
Gaily, to the hand expert with sail and oar
The sea was calm, your heart would have responded
Gaily, when invited, beating obedient
To controlling hands…
Впереди у Марлоу – встреча с Курцем, несостоявшимся сверхчеловеком, наивно пытавшимся оседлать мировую волю, направить ее индивидуальным усилием в новое русло. Но к этой встрече Марлоу уже готов – он остается на стороне цивилизации, понимая, впрочем, всю ее хрупкость и призрачность.
Ночной автор и растаявшая композиция
Обратимся теперь к само́й материи текста. Подобно тому как поглощаются хаосом непрочные форпосты цивилизации (островки разума), в повести растворяются готовые модели и опоры, которые обычно предлагает читателю литература. Я имею в виду в первую очередь фабулу и слово. Марлоу принадлежит к категории ночных рассказчиков, а не дневных. Свою историю он начинает сразу же после заката, а заканчивает уже ночью в глубокой темноте. Дневной автор неизменно бодр, энергичен и рационален. Его рассудок великолепно контролирует фантазию, сюжетно направляя ее поток в “адекватное русло”. Дневной автор – страж порядка, аполлонический созидатель такого космоса, где каждая звезда, каждая планета и каждое произнесенное слово – на своем месте.
Иное дело – автор ночной. Он весь во власти лихорадочной фантазии, полусна, сбрасывающего оковы рассудка. Бессознательное являет ему уже не упорядоченный космос, а дикий первородный хаос, поток нерасчлененных форм и одновременно утопическое будущее. Романтические герои (Прометей П. Б. Шелли) нередко в своих снах и полуснах видят фантастическую явь грядущих эпох. Именно таков Марлоу, с тем лишь отличием от героев Шелли, что ночной мир предлагает ему не розовую романтическую утопию, а кошмарную картину Апокалипсиса, крушения европейского сознания и самой Европы. Марлоу как ночной автор не в состоянии держать форму и строго организовывать свою фантазию в привычный для его слушателей сюжет. Пожалуй, сейчас, в XXI веке, памятуя о формальной эквилибристике века двадцатого, я не смогу точно определить, что такое “привычный сюжет”. Но если мысленно вернуться к концу XIX века, когда была опубликована повесть Конрада, то, скорее всего, речь могла бы идти о тексте, где есть строгая временная последовательность, есть цепь причин и следствий и, наконец, достойная всякой профессиональной литературы триада: завязка – кульминация – развязка.
Триада вполне соблюдена, разве что только кульминация непривычно растянута. Но по мере развертывания рассказа фабульность, порядок начинают таять. Иногда нарушается временная последовательность, и рассказчик совершает вылазки в будущее. Исчезает четкая причинно-следственная обусловленность эпизодов. И текст постепенно превращается в тягучую магму, в поток непрерывно сменяющих друг друга впечатлений, диалогов, картинок, запахов, звуков, рассуждений. Это движение выглядит абсолютно непредсказуемым, чудовищно произвольным, спонтанным. Текст теперь не знает и ничего не хочет знать о каких-то формальных правилах. Возникает потрясающее совпадение формальных поисков и проблематики. Форма повествования, поток, становление соответствуют идее иррациональной воли, которую обнаруживает Марлоу по мере увлечения собственным рассказом в самом себе. Структурной опорой текста становится не событийность, а система лейтмотивов, образов, повторяющихся в разных контекстах и обрастающих новыми смыслами. Это река, вода, лес (заросли), туман (мрак), грязь.
Растаявшее слово и символы
Эффект таяния, постепенного растворения читатель, возможно, ощутит, проследив за теми метаморфозами, которые происходят с конрадовским словом. С самого начала Марлоу как-то неуютно в мире готовых, чужих слов, взятых напрокат названий и имен. Он им не доверяет и старательно избегает обозначать мир так, как это принято. Лондон, Брюссель, Африка, Конго остаются в его рассказе безымянными. Равно как и все действующие лица, за исключением самого главного – Курца. Возможно, люди лишены имен, потому что они, дикари и европейцы, участники чудовищных коллективных проектов, их недостойны? А моря, и реки, и континенты – потому, что противятся их рациональному освоению и обозначению? В любом случае в апокалиптическом пространстве так и должно быть – безымянные люди, живущие на безымянной земле.
Марлоу даже не прочь трагически посмеяться над нелепыми попытками европейцев обозначить реальность: “Every day the coast looked the same, as though we had not moved; but we passed various places – trading places – with names like Gran' Bassam, Little Popo; names that seemed to belong to some sordid farce acted in front of a sinister back-cloth”. – “Каждый день мы видели все тот же берег, словно стояли на одном месте, но позади осталось немало портов – торговые станции – с такими названиями, как Большой Бассам или Маленький Попо; эти имена, казалось, взяты были из жалкого фарса, разыгрывавшегося на фоне мрачного занавеса”. Обозначение, наименование в данном случае означает колонизацию. Стало быть, слово так же погибнет, так же будет поглощено зарослями хаоса, как и любой европейский форпост на диком континенте. Оно случайно, неуместно, не укоренено в основании жизни. Какое слово? Слово, оказавшееся волею истории на службе у разума, который решительно никакого права не имеет себе его присваивать. Впрочем, до сюрреалистической революции, освободившей слово, еще почти два десятилетия. А Марлоу, недовольный словом, все-таки остается в пределах литературы. Он перебирает слова, перебирает словами, осознавая, что они вряд ли передадут то, что ему довелось испытать. “Do you see the story? Do you see anything?”. – “Видите ли вы этот рассказ? Видите ли вы хоть что-нибудь?” – тщетно допытывается Марлоу у своих слушателей.
Марлоу отваживается на путешествие к основанию слов, к началу всякой речи, к музыке, молитве, к молчанию. Приступив к рассказу, избегая названий, он пускает в ход многослойные символы. Змея-река (Конго), крышка гроба (Брюссель), парки, прядущие нить судьбы (женщины, служащие в конторе). Тотчас же появляются и другие, уже названные мною: лес, туман, солнце, грязь, тишина. Символизация, в принципе, таит в себе много опасностей. Символ, свернутый миф, заключает в себе культурную память, вековое знание. Использование символа часто приводит к подмене острого восприятия, слухового ощущения – знанием. Великих символистов конца XIX века современники, те, кто “без божества, без вдохновенья”, обвиняли в том, что они пишут о том, что знают, а не о том, что видят. Марлоу избегает этой опасности. Символы в его рассказе возникают сначала как конкретные земные вещи, элементы ландшафта. А через какое-то время появляются в тексте как составляющие метафор и сравнений, описывающих состояние персонажа.
Например, грязь, которую видит Марлоу на станции, вполне зрима и осязаема: “It was on a back water surrounded by scrub and forest, with a pretty border of smelly mud on one side, and on the three others enclosed by a crazy fence of rushes”. – “Она расположена была у заводи, окруженной кустарником и лесом; станция была обнесена с трех сторон старой изгородью из тростника, а с одной стороны тянулась полоса вонючей грязи”. Это упоминание грязи неожиданно откликается в другом месте повести, где рассказчик беседует с одним из агентов: “I let him run on, this papier-mache Mephistopheles, and it seemed to me that if I tried I could poke my forefinger through him, and would find nothing inside but a little loose dirt, maybe”. – “Я дал выговориться этому Мефистофелю из папье-маше, и мне чудилось, что, если б я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него не было ничего, кроме жидкой грязи”. Здесь же Марлоу вновь упоминает грязь, причем не вполне понятно, в прямом значении этого слова или в переносном: “The smell of mud, of primeval mud <…> was in my nostrils”. – “Запах грязи – первобытной грязи! – щекотал мне ноздри”. Слова, обозначающие грязь, заключают в себе одновременно предметный и символический смысл. Эти смыслы объединяются в третьем примере и прочитываются следующим образом: грязь есть хаос, первооснова жизни. Грязь всегда первобытна. Она (первобытное начало) заключена в человеке (пример с агентом) и готова в любой момент прорвать оболочку цивилизованного разума, которая призрачна и непрочна. Заметим, что Конрад во всех случаях не эксплуатирует одно слово, а старается подобрать максимальное количество синонимов, растягивая сетку наименований. Грязь обозначается в тексте как “mud” и “dirt”. Разные слова вырастают из общей коллективной памяти и, выстраиваясь в один синонимический ряд, нагружаются глубинным смыслом. Символическое значение растворяет в себе значение лексическое, случайное, немотивированное. Это соответствует постепенному движению Марлоу к глубине собственного “Я”, к потоку мировой воли. Слова обретают существование вещей. Они становятся плотными, предметными, объемными: “I listened, I listened on the watch for the sentence, for the word, that would give me the clue to the faint uneasiness inspired by this narrative that seemed to shape itself without human lips in the heavy night– air of the river”. – “Я слушал, слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванное этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой”. В кульминационные моменты, когда происходит соприкосновение с чудовищным, речь Марлоу прерывается, и слово окончательно тает, растворившись в молчании, откуда оно когда-то появилось.
Воцаряется жуткая тишина, и открывается мировой хаос, таящийся в вещах, в человеческой душе и в великом искусстве слов.
Играем с античной трагедией
О романе Уильяма Голдинга “Повелитель мух”
Вступление (впрочем, очень короткое)
Истории о конце света вряд ли в наше время могут кого-то испугать. Их рассказывали слишком уж часто, и страх перед апокалипсисом как-то сам собой давно выветрился. Возможно, тут есть и другая причина – мы повзрослели, просветились со времен Средневековья и твердо знаем, что кузнечик никогда не отяжелеет, мертвые из могил не восстанут, древний Левиафан не всплывет на поверхность вод и не сожрет землю. Что земля никогда не налетит на небесную ось, а голливудские инопланетяне не высадятся в штате Айова.
Почему? Да просто потому, что в мире всё научно и всё под присмотром. Астрономы и физики приглядывают за звездами, экологи и биологи – за природой, президенты и члены парламентов – за политикой, экономисты и бизнесмены – за материальным благополучием, а юристы и полицейские – за нашим поведением. Более того, те, кто присматривает, в свою очередь сами находятся у кого-нибудь под присмотром.
И все понимают, что волноваться о конце света, о грядущем хаосе нет ни малейших оснований: повсюду наука и закон, строгий контроль и строгая отчетность, мера и определенность. Можно положиться на специалистов и расслабиться.
Встреча с народным избранником
Занятый своими мыслями о предстоящих делах, я сидел в самолете, крепко пристегнутый к креслу ремнями безопасности. “Як-42”, птеродактиль отечественных авиалиний, потрещав всеми своими конечностями, уже взлетел и набирал высоту. Моторы сыто урчали, но изредка нервировали каким-то подозрительным перестуком. Я старался расслабиться в своем кресле и мысленно уверял себя, что всё будет в порядке и я долечу благополучно. Однако перспектива благополучно долететь туда, куда я направлялся, почему-то не успокаивала.
Чтобы как-то отвлечься, я принялся осторожно разглядывать своих попутчиков. Их оказалось совсем немного: четверо пожилых кавказцев, две женщины с усталыми лицами и молодой смуглый парень в спортивной куртке и тренировочных штанах. Видимо, регулярный рейс “Москва – Назрань” в 2004 году не пользовался среди пассажиров российских авиалиний популярностью. Наконец мой взгляд остановился на упитанном господине непонятного возраста в дорогом зеленом пиджаке. Его совершенно круглая голова с проворными бегающими глазками напоминала розовый отполированный шар и была лишена малейшего намека на растительность. Приплюснутый нос, толстый и вздернутый, как пятачок, едва удерживал громоздкую металлическую оправу с толстыми линзами. Этот прижатый ремнями господин все время проявлял какую-то нервную поросячью резвость. Ерзал, стараясь поудобнее устроиться; то и дело принимался, тяжело отдуваясь, поправлять свой дорогой пиджак и подтягивать брюки на коленях.
Наконец, поймав мой взгляд, розовый господин весело сожмурил глаза и понимающе кивнул подбородком.
– Вот-вот, – произнес он, отвечая то ли каким-то своим прежним мыслям, то ли моим, им неожиданно угаданным. – Такая у нас работа, дорогой вы мой.
Я счел вежливым представиться. В ответ он пробормотал свое имя, потом отчество, после фамилию и внятно добавил, продолжая меня разглядывать:
– Депутат законодательного собрания…
(Надо же, какой молодец!)
Я поднял брови и постарался выразить физиономией ощущение значительности момента. Но этого оказалось недостаточно. Нужно было как-то продолжать разговор. Выдержав уважительную паузу, произнес первое, что пришло в голову:
– Много, наверное, работы, да?
– Не то слово, не то слово, дорогой вы мой, – депутат едва заметно подавил зевок. – Сейчас вон новый законопроект запускаем, сидим сутками, даже пообедать некогда. А тут еще эта командировка. Жизни никакой нет.
Все время то директивы, то законы, то перспективные планы развития…
Откуда-то из детства в голове вынырнула вдруг мультипликационная речь блудного попугая Кеши из третьей серии про него: “То покос, то сенокос, то вишня взошла, то свекла заколосилась… а ежели дождь во время усушки?” Поэтому вслух произнес что-то очень глупое и детское:
– Ничего себе.
– Законов настоящих нет! – оживился вдруг депутат и поправил давивший на толстый живот ремень безопасности. – Бардак ведь вокруг! А без законов, дорогой вы мой, никак, никак нельзя. Так-то вот. Работаем понемногу, подымаем страну, законодательство укрепляем.
– Отдыхать хоть успеваете?
– Да какое там. – толстяк зевнул и безнадежно махнул розовой пухлой рукой.
– За девушками поухаживать? – фамильярно предложил я и тут же растерянно спохватился. – Ну, чтоб форму не потерять… и вообще… расслабиться.
Депутат настороженно глянул на меня поверх толстых линз, а потом как-то приосанился:
– Девушки есть, но это не главное… Нам экстрасенсы помогают.
– Кто помогает?! – ужаснулся я.
– Экстрасенсы. А как вы думаете? У нас у каждого свой экстрасенс или колдун. С ними и беседуем, стрессы снимаем. И, кстати, по работе консультируемся.
– По работе?! – ужаснулся я.
От его слов мне вдруг сделалось тоскливо. Почудилось, будто в салоне кто-то медленно убирает свет. Лицо депутата стало таять, терять очертания, превращаясь в бесформенное розовое пятно. А он все рассуждал, размахивал пухлыми руками, объяснял, что жизнь, мол, штука сложная и все зависит от удачи. И потому, прежде чем предпринимать какой– нибудь шаг, внести новый законопроект или, там, записаться на прием к министру – тут я отчетливо увидел в искаженной перспективе поднятый кверху указательный палец, толстый и разваренный, – нужно предварительно получить одобрение экстрасенса.
Депутат говорил, а мне все больше становилось не по себе. Где-то глубоко в груди, как ночной филин, ухнуло сердце. В висках застучало. По телу прокатились ледяные крошки озноба. Депутат тем временем рассказал, как экстрасенс к нему приезжает, раскладывает карты, составляет индивидуальный гороскоп, просит показать ладони (показываю, а куда прикажете деваться?). Потом дает советы. Где, как и что нужно говорить. Как уберечься от порчи: колдуны политических противников тоже не дремлют. Как окружить себя и свой бизнес магическим полем безопасности и отпугнуть злых духов.
Он перешел к каким-то стеклянным пирамидам, появившимся в Питере несколько лет назад. Я не понимал, о чем идет речь, пока не вспомнил: одну такую я в самом деле видел на площади Труда. По словам моего собеседника, выходило, что это – магические обереги, и их поставил бывший губернатор по совету некоего известного колдуна. Неожиданно наш разговор прервали.
– Что-нибудь желаете?
В проходе выросла тощая фигура стюардессы. Я даже не заметил, как она подошла со своей тележкой. Стало немного легче.
– Сок, минеральная вода, кола?
Стюардесса вертела головой, поочередно обращаясь то ко мне, то к нему.
– Ничего не буду, спасибо… – промямлил я.
Депутат кивнул розовой головой, откинул столик и ткнул в него пухлым пальцем:
– Минеральную воду.
– Ремни можете уже отстегнуть, – ласково разрешила стюардесса.
Я словно очнулся. Снова вернулся обратно в самолет, следующий рейсом из Москвы в Назрань. Снова услышал урчание моторов, сытое и с перестуком. Увидел салон, освещенный ровно горевшими лампочками и прежних пассажиров, мирно дремавших в своих креслах.
Депутат одним залпом осушил стакан и вернул его стюардессе. Потом поднял столик, подтянул штаны на коленках, немного поерзал, потерся о спинку кресла, устраиваясь поудобнее. Наконец закрыл глаза и объявил безразличным тоном, будто распорядился:
– Посплю немного… устал…
Видимо, разговор с наивным и несообразительным собеседником изрядно его утомил. А я вернулся к своим тревожным мыслям. Но теперь они приняли совсем другой оборот.