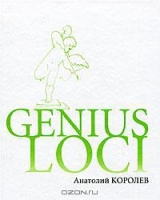
Текст книги "Гений местности (Genius loci)"
Автор книги: Анатолий Королев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Так вот – продолжим сюжет – история несчастливой любви графа сразу к нескольким дамам света была предметом разговоров и, как писал много лет спустя Соллогуб, Наталья Николаевна в тот вечер «шутила над моей романтической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем… Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли».
Но свет умел жалить.
Свидетели этого разговора – две дамы, две сестры, две княжны Вяземские сделали из неумелого вопроса ужасную расчетливую дерзость, что будто бы Соллогуб с тем намерением спросил жену поэта давно ли она замужем, чтобы дать понять, что, мол, еще рано ей иметь дурное поведение в смысле измен. «Натали, неужто вы не поняли?» Словом, все это они с удовольствием растолковали провинциальной красавице, которая «должно быть, – предполагал Соллогуб, – сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя и знала его пламенную, необузданную природу». Пушкин тотчас написал к Соллогубу письмо в Тверь, никогда, впрочем, к нему не дошедшее.
Всю осень и зиму Соллогуб провел в командировке в Твери и в Ржеве, врачуя душевные раны романической страсти, как вдруг получил письмо от своего приятеля, тоже недавнего однокашника по Дерптскому университету Андрея Карамзина, который писал о том, что Пушкин повсюду говорит, что граф Соллогуб уклоняется от дуэли и, что, задетый за товарища, Андрей поручился за него, что тот не откажется от поединка на пистолетах. Можно представить изумление молодого человека, начинающего поэта, будущего писателя, автора знаменитого «Тарантаса», которого вызывал стреляться его же кумир и полубог, коему он стыдливо подражал на бумаге… Списавшись с Карамзиным, Соллогуб, наконец, узнал в чем дело, после чего сразу написал Пушкину о том, что «готов к его услугам, когда тому будет угодно, хотя не чувствует за собой никакой вины». Известно, что Пушкин показал письмо своему верному Пеламу Соболевскому со словами: «Немножко длинно, молодо, а впрочем хорошо». Вскоре в Тверь, в дом Бакуниных (где проживал тогда и будущий теоретик анархизма – Михаил), где квартировался Соллогуб, пришло письмо: «Милостивый государь. Вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно жены моей. Имя, вами носимое, и общество, вами посещаемое, вынуждают меня требовать от вас сатисфакции за непристойность вашего поведения. Извините меня, если я не могу приехать в Тверь прежде конца настоящего месяца». Письмо, конечно, было написано на языке жестов – по-французски. «Делать было нечего, – вспоминал Соллогуб, выступая с докладом в обществе любителей российской словесности тридцать лет спустя, – я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал так напрасно три месяца». Следующая фраза его воспоминаний такая: «Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно…»
На этой фразе лежит сень Аннибальского парка.
Итак, весна 1836 года выдалась ранней, уже в апреле было сухо и тепло. И стоя у колонны с бюстом Миневры в римском шлеме, Соллогуб чувствовал как все фибры души проникаются солнцем и негой. Хотелось жить и жить. Перелом жизни (галл.) был тяжек. Смерть так внезапно бросила свою тень на его судьбу, что он так же врасплох, мгновенно и нараспашку влюбился в жизнь, и сейчас с особой сладостной болью дышал клейкой свежестью парка, следил, как плывут в вышине бело-дымные тучки. Слушал морское шипенье крон на ветерке. Он понимал, что стрелять в Пушкина нельзя, и все же мысленно молодая рука поднимала пистолет, хотя и не целилась. Диск солнца слепил. Он был превратно истолкован врагами поэта, невинен, только лишь глуп, повода для сатисфакции нет, и все ж таки честь его была больно задета, кроме того прослыть трусом… нет, нет! лучше смерть, чем это.
Так или примерно так думал наш герой, бродя в одиночестве по боковым дорожкам, избегая счастливой четы и милого семейства своего удачливого приятеля. Только единожды он вдруг решился: буду целиться… и тут же очнулся. Кровь бросилась в лицо, лоб покрылся испариной. Он стоял посреди мрачного густого ревира из туй, в окружении своры маленьких замшелых обелисков, пирамид и траурных урн с мордами собак и профилями кошек. Один обелиск лежал плашмя у ног его, и глаза невольно прочли латынь на горельефе: «Et in Arcadia Ego». И я в Аркадии. На горельефе была вырезана эмблема из двух, опущенных огнем вниз, факелов вокруг кошачьего черепа. В лицо пахнуло затхлой сыростью, вонючей прелью, чуть ли не серой, словно распахнулся лаз преисподней. Очнувшись, Соллогуб опрометью кинулся назад на аллею. Сзади хохотнуло. Даже тогда, когда он выбежал на солнце, его зубы стучали, будто от холода. Тут его позвали обедать. За столом был новый гость из столицы, речь зашла о петербургских сплетнях. Под первым литером шел рассказ о том, что там появился новый француз, роялист Дантес, необыкновенный богач и первый красавец, и, что он уже сильно надоел Пушкину, открыто преследуя восторгами его жену, тоже первую красавицу. Соллогуб слушал с бледным лицом и думал о том, что «вероятно, гнев Пушкина давно уже охладел, вероятно, он понимал неуместность поединка с молодым человеком, почти ребенком, из самой пустой причины, „во избежание какой-то светской молвы“». В разговоре наш герой почти не участвовал, счастье друга навевало печаль, а когда подавали бламанже, к столу на террассе явился нарочный с пакетом от генерал-губернатора. Графу Соллогубу сообщалось о полученном на его имя предписании министра внутренних дел графа Блудова. Сразу из-за стола гость велел закладывать экипаж. Когда коляска уже порядочно отъехала от ворот и поднялась вверх по дороге к поклонному кресту, Соллогуб оглянулся, и парк брызнул ему в глаза прощальной вспышкой красоты. От романтической картины зеленой гряды – прибоем под облаками – захватило дух, а на глазах появились невольные слезы. Дуясь на себя за чувствительность, Соллогуб достал платок и, промакнув глаза, с неясным облегчением откинулся на кожаные подушки. Лошади бежали легко. Силуэт креста плыл на фоне позлащенных небес. Ездок перекрестился. Летний день не хотел угасать, и до заката была целая вечность. И думалось… так, ни о чем. Впрочем, он окончательно решил не стрелять в соперника.
Можно спросить: да было ли все это?
«Все»? Все, пожалуй, нет. Но было почти все.
Когда «я получил от моего министра графа Блудова предписание немедленно отправиться в Витебск в распоряжение генерал-губернатора Дьякова, – вспоминал позднее Соллогуб, – я поехал в вотчину моей матушки на два дня, сделать несколько распоряжений…
Пушкин все не приезжал».
Здесь опять требуется вмешательство автора… Соллогуб не знал, что еще 29 марта скончалась «прекрасная креолка», мать Пушкина, гроб которой он сопровождал из Петербурга в Михайловское, где и похоронил тело у стен Святогорского монастыря рядом с могилами ее родителей, Осипом и Марией Ганнибал, дедушкой и бабушкой. Заодно (!) он выбрал и место для себя и сделал вклад за будущую могилу в монастырскую кассу. Только 16 апреля он вернулся из Михайловского, а 29 числа того же месяца выехал из Петербурга в Москву. Дорога шла через Тверь, где Пушкина ждала третья дуэль этого года. Хотя ей не суждено было состояться (черт все ж таки еще помучал поэта), Соллогуба в Твери не оказалось. Надо же, что именно в эти два дня его унесло в матушкину вотчину. Уезжая, Соллогуб на всякий случай оставил письмо к Пушкину у своего секунданта князя Козловского. Они встретились, Пушкин был сама любезность, жалел, что не застал графа, извинялся, что стеснен временем, и на утро укатил дальше в Москву. На третий день Соллогуб вернулся и с ужасом узнал, с кем разъехался так глупо. «Первой моей мыслью было, что он подумает, пожалуй, что я от него убежал. Тут мешкать было нечего. Я послал за почтовой тройкой и без оглядки поскакал прямо в Москву, куда приехал на рассвете и велел себя везти прямо к П. В. Нащокину, у которого останавливался Пушкин. В доме все еще спали. Я вошел в гостиную и приказал человеку разбудить Пушкина. Через несколько минут он вышел ко мне в халате, заспанный и начал чистить необыкновенно длинные ногти. Первые взаимные приветствия были очень холодными».
Бал правил жест, потому разговор шел на французском.
Ожидая Пушкина, Соллогуб еще на что-то надеялся, на что – он и сам толком не знал. Но Пушкин держал себя с такой ледяной вежливостью, был так по-светски церемонен, столько было в его лице и манерах страсти к условиям, что Соллогуб с холодком понял про Пушкина: соперник по особому щегольству привычек не хочет отказываться от прошлогоднего дела, им затеянного. Что пустая причина – не причина для фамильярности с честью… «Кто ваш секундант?» – спросил Пушкин. Путаясь, Соллогуб отвечал, что секундант его, князь Козловский, остался в Твери, (это было и так ясно, иначе б Пушкина не подняли с постели), что в Москву он только что приехал, (это тоже было видно с первого взгляда), что он хочет просить быть секундантом известного генерала князя Федора Федоровича Гагарина. Пушкин, зевая, извинился, что заставил графа Соллогуба так долго дожидаться, и объявил, что его секундантом будет Нащокин.
Стало ясно, что дуэли не избежать. Соллогуб даже подумал, что, пожалуй, Пушкин убьет его… может убить. Ведь тот был из плеяды героев отвлеченной мысли, которые в декабре… Мысли в его голове путались.
Между тем Пушкин думал о том, что юный граф, навряд ли его судьба. После того как старая колдунья Кирхгоф нагадала ему насильственную смерть через белую лошадь, белую голову или белого человека – Weisskopf, – он примеривал ее пророчество на всех соперников. Во-первых, Кирхгоф сказала, что он проживет долго, если на тридцать седьмом году не случится с ним беды от… Ему еще нет тридцати семи, во-вторых – Пушкин подошел к окну гостиной и выглянул со второго этажа – почтовая тройка была хорошо видна, светало, среди них не было ни одной белой. В-третьих, Соллогуб не белокур.
Наконец, он не фат. А его судьба (фатум) явится в маске фата… неужели он?
Раз это не судьба, значит – пустая трата времени.
Разговор невольно оживился. Два литератора повели речь о недавней книжке «Современника». Пушкин даже рассмеялся, и беседа пошла почти дружеская, до появления Нащокина.
При новом свидетеле Пушкин вновь принял леденящий тон: он никому не позволит сделать из себя шута. Честь – не место для царапин.
Сонный Нащокин разглядел юного графа-шатена и перевел дух. Друзья Пушкина хорошо знали его тайную страсть пытать судьбу. Например, когда тот написал злую эпиграмму на Андрея Муравьева, последний спрашивал у Сержа Соболевского: «Какая могла быть причина, что Пушкин, оказывающий мне столь много приязни, написал на меня такую злую эпиграмму?» Соболевский отвечал: «Вам покажется странным мое объяснение, но это сущая правда; у Пушкина всегда была страсть выпытывать будущее, и он обращался ко всякого рода гадальщикам. Одна из них предсказала ему, что он должен остерегаться высокого белокурого молодого человека, от которого ему придет смерть. Пушкин довольно суеверен, и потому, как только случай сведет его с человеком, имеющим все сии наружные свойства, ему сейчас приходит на мысль испытать: не это ли роковой человек? Он даже старается раздражить его, чтобы скорее искусить свою судьбу».
Комментаторы считают, что это «объяснение» Соболевского – розыгрыш Муравьева, едкая скрытая издевка, – и не принимают всерьез такого вот понимания тайны пушкинской конфликтности. И все ж таки трудно отмахнуться от этих слов. Пытания судьбы в крови у Пушкина. Выдумать такую характерность современнику на пустом месте невозможно. Не это ли роковой человек? – это так по-пушкински… «Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья – Бессмертья может быть залог!»
Но вернемся в гостиную.
«Павел Войнович явился, в свою очередь, – вспоминает Соллогуб, – заспанный, с взъерошенными волосами, и, глядя на его мирный лик, я невольно пришел к заключению, что никто из нас не ищет кровавой развязки, а дело только в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Павел Войнович тотчас приступил к роли примирителя».
Как только Соллогуб понял, что речь идет не о существе дела, а о филигранных оттенках чести, о красоте Позы, как сразу дело пошло на лад. Пушкин молча настаивал на формальных объяснениях, но без малейшего оттенка формальности. Наконец его прорвало, и он сказал: «Думаете мне так весело стреляться? Неужели? Но я имею несчастье быть публичным человеком, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной!»
Слово было сказано: я имею несчастье.
Секундант и Соллогуб ухватились за эту соломинку, «Пушкин непременно хотел, чтобы я перед ним извинился… Я со своей стороны, объявил, что извиняться перед ним ни под каким видом не стану, так как я не виноват решительно ни в чем; что слова мои были перетолкованы превратно и сказаны в таком-то смысле. Спор продолжался довольно долго. Наконец, мне было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне. На это я согласился, написал прекудрявое французское письмо („Немножко длинно, молодо, а впрочем, хорошо“), которое Пушкин взял и тотчас протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен». Это еще раз доказывает сколь мало чувств вкладывал Пушкин в фигуру светского танца, одновременно требуя строжайшего исполнения всех его па. Письмо к Натали так никогда и не дошло, поэт просто порвал его, после того как формальности были соблюдены.
Соллогуб в это же самое утро уехал из Москвы.
Итак, весна 1836 года выдалась ранняя, уже в апреле было сухо и тепло. Все зацвело дружно, разом, особенно липа и сирень. Думалось, наступит благословенная жаркая пора, но лето шло на редкость дождливым. Тучи кружили и кружили над парком, проливаясь холодным дождем, будоража листву. Пруды кипели в струях воды; все блестело, переливалось водяным муаром, а когда выдавался солнечный ранний час, нестерпимо резали глаз миллион брильянтов. Парк не успевал просыхать, небесное окно скоро закрывалось, и вновь на кирпичных аллеях начинали куриться туманные столбы. Краски редких цветов размылись, поблекли под ливнями. Только дикая роза горела неопалимым влажным огнем морщинистых ало-фиолетовых цветков и робко пахла сквозь влагу. Казалось, куст моргает – от капель в лицо. Весь июнь и июль шли дожди. Особенно хмуро было в столице и, пожалуй, только один человек был рад такому осеннему ненастью. Октябрю в разгар лета. «Теперь моя пора!» Вдохновенье клубилось, он писал любовную историю Гринева на фоне пугачевского бунта. Работа спорилась, а только то, что писалось легко, и было от бога. Снятая дача на Каменном острове взята в кольцо пустоты и одиночества. Все три сестры – Натали, Катрин и Алекс изнывали от скуки.
Все лето на островах тишина – идут маневры.
Но вот 1 августа сестра радостно пишет в письме: «Завтра все полки вернутся в город, потому скоро начнутся наши балы. В четверг мы едем танцевать на воды».
4. Капитанская внучка
К середине девятнадцатого века парк обрел те черты, которые уже дошли до нашего времени… окраины парка были отданы елям, любимому дереву Петра. Здесь царил сумрак и та особенная тишина, какая свойственна еловым лесам, где голос глохнет в навесах елочных лап, а шаги тонут в пружинной земле из слоя сухих иголок. Знойный запах душит малейший оттенок. Узкие расщелины-аллеи, не давая взору простор, шли в даль. Иногда еловая просека расступалась, образуя круглый партер, или род опушки, обсаженной по краям пирамидками вереска. Такой вход готовил сердце к сумраку и теснинам, еловые аллеи прятали парк, который и далее виделся путешественнику таким же тихим и темным. Тем более неожиданными были внезапные виды. Они караулили взоры, а пока шла грубая земля, аллея была умышленно неухожена, сморщена еловыми корнями, изъедена дождевыми протоками… И тем более гладкими казались утрамбованные дорожки битого красного кирпича вокруг прудов, аллеи из просеянного речного песка. Уж они-то выравнивались после каждого дождя. В теснинах еловых пирамид днем небо виделось узкой серебристой рекой, а ночью – дном звездного ущелья. Все еловые аллеи – веером – сбегались в один узел, где ель внезапно отступала, давая свободу царству стриженых декоративных кустов. Выходя из сумрачного тоннеля, путешественник вдруг осознавал объем пространства. Прямо перед ним расстилался парковый простор, где среди ровных кустов жимолости и чубушника вспухали живописными группами густо-зеленые холмы сирени, магнолии, жасмина и, забрызганные алыми цветами бугры роз. Сухую прямизну аллей сменял живой игривый серпантин случайных тропинок, только центральная аллея продолжала движение напрямик к загородному особняку, выстроенному в стиле русского классицизма: двухэтажный портик с античными колоннами, треугольный фронтон, изящный бельведер, увенчанный шпилем и две крытых галлереи – слева и справа – ведущих к двухэтажным флигелям, от которых, в свою очередь, отходят прямые короткие стены, образуя каре.
Путь путешественника через парк продолжается, чем ближе к особняку, тем больше чувствуется рука человека. Игра света и тени сменяется игрой цвета и блеска. Кое-где посреди зеленого партера сверкают мелкие овалы воды, окольцованные камнем. Махровую киноварь роз, гладкую мраморность лилий оттеняют и подчеркивают полированные узкие листы жимолости. Груды желтых садовых ромашек смотрятся ярче и спелей на фоне мелкой низкой травы бесконечного газона. Огибая дом, путешественник вновь переживал волнующую смену панорам, перед ним, с высоты верхней террасы, открывался пологий травяной спуск к нижнему парку, к роскошной вольности в английском стиле: на широком пространстве естественными группами росли исполинские сосны вперемешку с кленами и вязами, высоченные лиственницы, охваченные пожаром зеленого пушка, притягивали властно взгляд дубовые купы во главе с великаном, поднявшим к небу целую рощу веток, стволов, листвы. Все дышало спокойной волей. В разрывах дерев лежали широкие солнечные пространства. Склоны были залиты лесными цветами: золотом лютика, кровью горицвета, сухой белизной нивяника. Стволы дерев касались взгляда самой разнообразной поверхностью: лоснистой белизной берез, розовой чешуей и желтой шероховатостью сосен, черной корой ясеня, голизной дубовых сучьев. Купы то приближались к лицу крупной кленовой резьбой, то убегали вдаль светлой рябью ажурных листьев рябины, брызгами липовых шапок, плотными мазками тополиных высей. Сердце путешественника чувствовало и дикость пейзажа и его глубокую гармонию. Игра светотени была так богата оттенками, что напоминала волнующуюся поверхность моря. Рука художника, сколь ни была она деятельной, осталась незаметной, а совпадение души с природой заставляло сильнее биться сердце. Думалось тоже легко и свободно, тревоги и страхи отступали. Парк омывал вояжера сухим водопадом теней, озарял лицо зеленым лучом. Шаг замирал, чтобы не мешать водопою глаз. Гармоничный хаос нижнего парка замыкали в незримую раму излучина реки и цепочка прудов-зеркал на нитке светлого серпантина. А дальше взор путешественника бежал по холмам и перелескам, полям и пашням, под брюхами тучек – в рубиновую щель заката на горизонте, и все это было полно колыхания, мягкого шума, который ухо как бы и не слышит. Природой правит воображение, ее черты смягчены улыбкой… но пора, давно пора пустить любовь под эти своды.
Наконец, путешественника окликнули из белой беседки.
К этому времени колесо Фортуны еще раз повернулось в судьбе парка, и теперь он принадлежал вдове генерал-аншефа князя Ивина, и это его приемная дочь – Катенька – окликнула сейчас нашего путешественника из беседки «билье-ду».
Путешественником был молодой человек, недоучившийся студент Петербургского университета Петр Васильевич Охлюстин, сын бедного мелкопоместного дворянина Василия Петровича Охлюстина. Вот уже больше года Катенька и Петр Васильевич любили друг друга и признались в чувствах, но между влюбленными сердцами лежал глубокий ров самых сложных и неприятных обстоятельств.
Сначала о Катеньке.
Ее дед, капитан Лавр Кузьмич Милостив, был награжден золотым именным оружием за храбрость под Лейпцигом в 1813 году. В том же бою он спас своего соратника по полку и однокашника по Пажескому корпусу, в ту пору тоже капитана Аркадия Осиповича Ивина. При этом капитан Милостив был тяжко ранен и так до конца своей короткой жизни не оправился от тяжелого ранения. Судьба его вообще сложилась несчастливо. Выйдя в отставку, он рано потерял жену, сам ростил дочь, жизнь которой тоже не удалась. На двадцатом году ее соблазнил какой-то великосветский повеса и бросил, оставив с ребенком на руках. Хрупкая женщина не выдержала беды и потеряла рассудок. Контуженный капитан остался с внучкой и престарелой матерью. Состояние его тоже оказалось расстроенным. В отчаянии он обратился к князю Ивину с просьбой не оставить без помощи ребенка в виду того, что сам стоит одной ногой в могиле. Бездетный холостяк Аркадий Осипович принял заботы о девочке на себя, а после смерти несчастного капитана, удочерил семилетнюю Катеньку (как раз в тот год он приобрел Ганнибаловку с парком и занялся гражданской жизнью, выйдя в отставку) и дал ей прекрасное образование. Казалось, над бедной девочкой взошла счастливая звезда – она стала наследницей титула и большого состояния, расцвела, обещая со временем превратиться в настоящую красавицу. И вдруг – бес в ребро! – на старости лет вечный холостяк князь женится на молодой писаной красавице Анне Дмитриевне Карнаковой, а вскоре – Катеньке только исполнилось пятнадцать лет – от страшного апоплексического удара уходит из жизни. Молодая вдова Анна Дмитриевна Ивина осталась с юной падчерицей на руках, которая была моложе ее всего на четыре года и годилась скорее в компаньонки, а не в дочери. Но это еще не все. Средства, оставленные мужем, поступили в полное распоряжение мачехи. Покойник не успел распорядиться о доле приемной дочери в наследстве и ее приданом, он, конечно же, рассчитывал дожить до ее совершеннолетия. Словом, Катенька осталась практически без гроша. Но дело было совсем не в этом. Красавица-мачеха была человеком широкой натуры, к своему положению «матери» относилась насмешливо и не собиралась ущемлять падчерицу ни до, ни после замужества. Будущее капитанской внучки было вроде бы обеспечено… Быстро стряхнув траур, молодая вдова погрузилась в перипетии светской жизни, между прочим, думая о вторичном замужестве. И такой жених, через год-полтора, нашелся – это был полковник барон Орцеулов, тоже бездетный вдовец, богач, храбрец и удачливый карточный игрок. Молодая вдова Анна Дмитриевна полюбила его первым подлинным чувством, он отвечал ей взаимностью, мимоходом мачеха познакомила жениха с падчерицей, все, казалось, шло к браку, и вдруг барон совершенно увлекся семнадцатилетней Катенькой. До этого момента мачеха держалась с ней как с приятельницей, доверяла ей секреты, ходила под руку на петербургских балах, привлекая всеобщее внимание, и вдруг, прянувшая необычная красота падчерицы заслонила ее собственный успех у мужчин. Для избалованной красавицы это было громовым ударом. Ничто она не переживала так мучительно, как это открытие; а то, что сам Орцеулов внушал Катеньке неприязнь не делало ее мук легче, скорее наоборот. Барон совсем потерял голову и даже сватался! Конечно, ему было отказано. Счастье Анны Дмитриевны расстроилось, свет смаковал ее поражение, во всем она винила падчерицу, судьба которой – мачеха это вдруг поняла – оказалась полностью в ее руках; мучительно, не признаваясь себе самой, Анна Дмитриевна принялась мстить. В самый разгар первых светских успехов Катеньки мачеха увезла ее в новое имение, ссылаясь на нехватку средств. Прежде она никогда не считала деньги и презирала столь низкий предмет. Скупость стала одной из личин ее отчаяния, втайне Анна Дмитриевна продолжала любить неверного баловня-барона. Год они прожили уединенно, ограничивая круг знакомых помещиками-соседями, тем самым упускалась наивыгоднейшая пора девичества. Цветущей красотой Катеньки любовался только старый парк да женатые толстяки-соседи. Но ждать, пока плод просто перезреет, Анна Дмитриевна не собиралась, ее месть была задумана намного тоньше: она мечтала заставить девушку пережить то же самое, что испытала сама, – внезапную перемену чувств в любящем человеке. На роль счастливой соперницы она смело готовила себя. Надо сказать, что мачехе хватило ума скрыть свою драму и снова приручить к себе Катеньку. Наконец Анной Дмитриевной было найдено подходящее орудие – молодой мелкопоместный дальний сосед-помещик Петр Васильевич Охлюстин.
У Петра Васильевича история тоже была непростая: подавая блестящие надежды студентом Петербургского университета, он был вынужден внезапно оставить учебу и вернуться в имение к матушке, которая прислала отчаянное письмо. Неразумные траты, дамское руководство небольшим хозяйством, два неурожая подряд привели к тому, что заложенное имение было просрочено и должно было пойти с аукциона. Любимый сын, воспитанный матерью в духе сыновьего почтения, бросил университет и вернулся спасать имение и старость матушки. Это был умный и твердый человек, который сделал все, чтобы удержать владение, где мелкими займами, где оборотами, где продажей леса. Эта борьба с призраком разорения была тем более обидна, что его троюродные братья, с которыми прошло детство, закончив Царскосельский лицей, смело шагнули в столичную жизнь. Такое неравенство было следствием того, что их отец, троюродный дядя Петра Васильевича по отцу, круто ушел в облак славы и богатства, став тайным советником и придворным банкиром. Деньги идут к деньгам. Имея порядочное состояние, дядя еще и разжился на строительстве второй русской железной дороги между двумя столицами, старой и новой. Почему он не протянул руки помощи жене своего покойного двоюродного брата? Хотя бы из-за памяти деда? Ответ на это был заперт в железном сердце. Мать несколько раз униженно обращалась к нему за помощью, но получала в ответ только холодные советы по ведению хозяйства, после чего перестала писать. Так, в унизительных хлопотах, в распоряжениях по посеву и молотьбе, проходила жизнь молодого человека, который не успел даже прожить собственную юность.
Зная характер падчерицы, ее жалостливое романтическое сердце и учитывая нежную красоту Петра Васильевича, Анна Дмитриевна рассчитала, что после знакомства они полюбят друг друга, – так и случилось. Что еще оставалось двум молодым одиноким душам? К тому времени мечта мачехи отомстить на свой лад остыла, сам факт, что красавице Кате досталась столь не блестящая партия, был достаточен. Предугадывая скорое сватовство, она уже собиралась сбыть бесприданницу с рук (без приданого – тоже было решено), но тут случился новый поворот, устраивая бедное счастье капитанской внучки, Анна Дмитриевна внезапно испытала к Петру Васильевичу темную страсть. Это была не любовь, а почти животная тяга, которая вновь подхлестнула тайные чувства к падчерице, красота которой в эти счастливые дни совершенно затмила мачеху. Она не захотела отдавать Охлюстина, хотя и не могла решить, что с ним делать. На сватовство Петру Васильевичу было отвечено неожиданным отказом, и это после столь длительного поощрения! Катеньке же было объявлено, что средства мачехи в столь плачевном состоянии (ложь), что поправить их можно только выгодной женитьбой и что, «пожертвовав счастью Кати своей молодостью», Анна Дмитриевна вправе ждать от нее благородной жертвы не требовать приданого (теперь оно опять появилось). Это был сильный аргумент, и он подействовал на честное сердце. Кроме того, Катенька была не из тех, кто жертвует жизнью ради любви. Но кто упрекнет ее в этом? Она смирилась. Срочно принялись искать жениха, и он был найден, и снова это был холостяк, причем записной холостяк отставной майор Полыхаев, не очень старый человек, губернский чиновник с крепким состоянием, решивший сменить холостяцкую планиду на семейное счастье. Мачеха объявила о предстоящей помолвке, о чем Катенька послала записку с дворовым человеком за двенадцать верст в Охлюстино. Она не смогла справиться с порывом отчаяния.
Петр Васильевич оседлал любимую лошадь, солового жеребца Яхонта, и ближе к вечеру прискакал к возлюбленной. Из записки он уже знал, что мачехи дома нет. Оставив лошадь у боковых ворот, он – путешественником – вошел в парк, где не был почти год, он шел, не удивляясь количеству перемен, сделанных в парке, новым цветникам, стриженым куртинам, беседкам – все говорило о полном избытке средств… тут-то его и окликнули из павильона «билье-ду».
Катенька была в слезах, она еще больше похорошела за то время, что они не виделись. Несчастья многим к лицу. Влюбленные объяснились. Она спрашивала о чувствах Петра Васильевича, и тот отвечал, что они неизменны, что он любил и любит ее одну. Тут она сказала о скорой помолвке с Полыхаевым. Ослушаться мачехи ей просто в голову не приходило, так как это было противу правил середины прошлого века. Насилие, скажете вы, и ошибетесь, брак светской женщины по-прежнему не считался браком любви, а числился чаще по ведомству делового партнерства. Поэтому брак с нелюбимым Катя не считала изменой своему чувству к Охлюстину, она так и сказала, но Петр Васильевич отчаянно воспротивился. Он горячо умолял любимую бежать из дома, тайно обвенчаться, и бог с ними, с малыми средствами! с милым рай и в шалаше, лишь бы только она решилась жить намного скромней. Катя сначала испугалась, затем мало-помалу его доводы и поцелуи сделали свое дело, и она согласилась. Условились на следующую неделю, на пятницу, в полночь. Катенька должна была выйти в легком платье без вещей к боковым воротцам в конце еловой аллеи. Слезы на Катином лице высохли, молодая душа снова видела все в розовом свете, счастливые, они вышли из беседки погулять по парку, не обратив слух на подозрительный шорох в кустах бузины у ступеней из павильона.
Тайна их сговора была известна Анне Дмитриевне уже через полчаса; разумеется, из дома она никуда не уезжала, это была ложь, а выехав в экипаже из парка, оставила коляску с форейтором и лакеем в укромном месте, пересела на меленькую чистокровную арабскую лошадь и принялась – амазонкой – скакать по окрестностям. Еще с вечера подкупленный дворовый человек, доверенное лицо ее падчерицы, сообщил хозяйке о том, что им получена записка и назначено скакать рано поутру к помещику Охлюстину. Записка была ловко распечатана и прочитана. Утром Анна Дмитриевна сделала вид, что уезжает в церковь, оттуда заедет на Ижорские воды выпить целебной воды и вернется поздно вечером. Катя успела перехватить своего человека и сделать приписку о том, что «маман» весь день не будет. Птица залетела в силок, и ловушка захлопнулась. Покатавшись по окрестностям, амазонка вернулась к оставленному экипажу. Дворня доложила, что помещик Охлюстин уже час, как прискакал и привязал свою лошадь у коновязи, что у боковых воротец, там, где часовня Нечаянный радости, что птички воркуют в беседке, где в кустах таится дева Анисья и все выслушивает, как велено. Амазонка Анна Дмитриевна решила покушать. Легкий обед был подан по-пейзански, тут же на лужайке. Вскоре прибежала Анисья и нашептала барыне все, что слышала, и, главное, об уговоре тайно венчаться. Анисье было жалко молодых, но ослушаться она не посмела. Анна Дмитриевна торжествовала: помешать побегу, ославить неудачного похитителя, в этом было так много романтического (на ее вкус). Вот тут-то и внес свою первую поправку в злую интригу парк. В тот момент, когда бедный Петр Васильевич называл день и час тайного бегства под венец, кусты бузины вдруг так бестолково зашумели под ветряной струей, что Анисья не расслышала «пятницу», а более поздние слова плачущего Охлюстина: «В субботу мы будем свободны» приняла за срок. Одним словом, день побега она сообщила хозяйке неверно, на сутки позже намеченной полночи.








