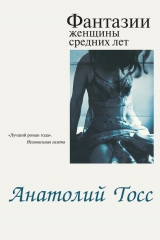
Текст книги "Фантазии женщины средних лет"
Автор книги: Анатолий Тосс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Его тяжесть все нарастала, и я в результате не выдержала, не желая больше сопротивляться ей, и откинулась назад, ощущая спиной упругую мягкость дивана. Он уже был на мне, и я пожалела, что поддалась, он оказался тяжелый, очень тяжелый, настолько, что сдавило дыхание. Наверное, он почувствовал это и чуть отстранился, и я смогла вздохнуть. Потом его губы снова захватили мои, а рука очутилась под легкой майкой, и бретелька лифчика была почему-то спущена с плеча. Грудь стала легко доступна его пальцам, и он мягко ласкал ее, я сразу почувствовала разбегающиеся по телу мурашки и чуть повела плечами, устраиваясь удобнее на плоскости дивана. Он, видимо, понял это как призыв, моя майка скользнула вверх, я увидела чашечку лифчика, беспомощно повисшую у шеи, а потом его большую голову, мне показалось, более широкую, чем мое тело.
В профиль Боб выглядел еще аристократичнее, чем в фас, благодаря своей бородке он походил на средневекового испанского гранда. Мне показалось, что я уже видела это лицо, и я подумала, что в детстве, когда играла с бабушкой в карты, бубновый король, да, именно бубновый король, был таким благородным и бородатым. Я видела, как губы Боба, чуть выпятившись, застыли над моей грудью, а затем все его лицо опустилось, и губы разом погрузились в поддавшуюся мякоть, я даже приподняла голову, чтобы было лучше видно. Мне нравилось смотреть, что и как он делал, в его движениях ощущалась уверенность и в то же время любовь.
Я действительно чувствовала, что он любит меня, я знала это по его прикосновениям, по шепоту, по губам, даже по его руке, которая, проникнув внутрь джинсов, уже оформилась теплом. Я даже немного двинула бедрами, чуть расставив ноги, чтобы его пальцам хватило пространства, и они ответили, но не грубыми, требующими нажимами, а мягким волнующим прикосновением. Мне действительно было хорошо от его рук, губ, его тяжести, но… Существовало все же какое-то «но», и я поняла, что я не улетаю, как я всегда улетала от Стива, от одного его прикосновения. Я находилась здесь, вполне приземленная, контролирующая, осознающая, что мне хорошо, у меня не кружилась голова, наоборот, я оставалась трезва и наблюдательна, и это многого лишало.
– Подожди, – сказала я, и это было первое, что я сказала.
Его рука оттянула край колготок, и я животом ощущала ее слегка щекотное продвижение, и уже у самого края я остановила ее, не зная еще, хочу ли.
– Подожди, – сказала я.
Он послушно замер, тяжесть его сразу ослабла, и я неожиданно легко выскользнула из-под него и присела на коленках рядом. Вид у меня был не ахти: всклокоченная, с задранной майкой, расстегнутыми джинсами, я представила, что и косметика на лице давно смазана от его мокрых, скользящих поцелуев.
«А Стив бы не отпустил, – подумала я. – В этом-то и разница, Стив бы не послушался и не отпустил».
Боб сидел рядом, растерянный, еще не пришедший в себя, лицо его, прическа, даже борода утратили привычную холеную стройность. Он выглядел одновременно и виноватым, и обиженным, мне стало немного жаль его.
– Подожди, – снова сказала я, – не надо. Казалось, он все еще не понимал.
– Ты уверена? – Это прозвучало, как просьба, и именно поэтому я решила.
– Да.
– Почему? – Его голос потерял плавность и, наоборот, приобрел отрывистость.
– Ты не понимаешь? – удивилась я. Конечно, он понимал.
– Из-за своего дружка?
Мне не понравилось это слово, и то, как он произнес его, мне не понравилось тоже.
– Да, из-за Стива, – поправила я. – Конечно, из-за Стива. А ты как думал?
– Я никогда не понимал, – воскликнул он и как-то смешно, неловко взмахнул руками. В них больше не было плавности. – Я не понимал, как ты можешь жить с ним, – он поперхнулся, но все же добавил:
– Вместе. Это же нелепо, что ты в нем нашла? Вы ведь абсолютно разные.
Я посмотрела на него вопросительно, не понимая, о чем это он. Что становилось понятно, впрочем, так это то, что приключения сегодняшней ночи для меня теперь уже точно завершились.
– Как ты сама не видишь, что у вас нет ничего общего? Ты ведь совершенно другая, ты – сильная, ищущая, талантливая. Ты так и светишься…
Он останавливался, подыскивая слова. Но это уже не имело значения: что бы он ни говорил, пускай он даже облизал бы меня словами, ничего бы не помогло.
– Ты так и светишься талантом.
«Талант уже был», – подумала я, да и паузы были лишними, он с таким трудом подбирал слова.
– Ну, – сказала я. Это было скучно, я и так все знала про себя.
– А он, твой Стив, – он снова запнулся, – он никакой, размазня. Даже флегматиком его не назовешь, вообще никакой, бесцветный, абсолютно бесцветный. Ты знаешь, что о нем говорят? – Я промолчала, хотя с трудом.
– Ты бы слышала, как он лекции читает, мухи на лету дохнут. Но ему все равно, ему все безразлично, студенты, лекции, предмет. Ему вообще ничего не надо, и ты ему не нужна. Что ты в нем нашла, он без плоти, без кости, без…
– А ты откуда знаешь про плоть, про кости? Он что, трахал тебя?
Это было подло, то, что он говорил, я не могла вообразить, что он сам не понимает, как это подло и глупо? Но он, похоже, вообще ничего не понимал, даже то, что я его выгоняю.
– При чем здесь это? Да нет, ты поверь, в нем нет силы…
– Откуда ты знаешь? – перебила я. – Послушай меня, в нем достаточно силы, больше чем достаточно, а лекции меня не волнуют. При чем здесь, вообще, лекции? Смешно даже. – Надо было, чтобы он ушел, я так хотела, чтобы он быстрее ушел. – А в сексе он куда сильнее тебя.
Наконец-то Боб понял. Он встал и стал заправлять выбившуюся из брюк рубашку, руки его беспокоились невпопад, а я думала: «Как он мог мне нравиться еще десять минут назад? Как за все это время, что я его знаю, я не смогла разглядеть, что он просто-напросто дурак, жалкий дурак?»
– Я пойду, – сказал Боб, в голосе его, как ни странно, еще слышался вопрос.
«А ведь действительно дурак», – снова подумала я.
В принципе он легко мог взять меня силой, я даже джинсы не застегнула, так и сверкала перед ним голым пузом. Но я не чувствовала ни страха, ни беспокойства, наоборот, только уверенность, настолько я была сильнее его.
– А ты гад, – сказала я. – Воспользовался тем, что Стива нет и что мне плохо. Ты ведь в его дом пришел и хотел в его доме меня трахнуть. А он еще тебя товарищем считает. Самому-то от себя не противно?
Боб посмотрел на меня так жалко и униженно, что я пожалела, что сказала, но все равно ведь гад. Он ничего не ответил, только надел куртку и вышел. Я посмотрела на часы, они показывали два часа ночи, за окном по-прежнему лил дождь.
«А все же это было забавно», – подумала я.
Мне стало неожиданно хорошо и от того, что дождь на улице, от его успокаивающего стука о стекло, и от того, что больше нет двусмысленности с этим кретином Бобом, и самое главное, что я не изменила Стиву. Я даже почувствовала себя счастливой от этого.
Боб, конечно, еще объявился. Я получила от него небольшую записку, в которой он извинялся, впрочем, весьма образно, что потерял над собой контроль и что сам не понимает, как с ним могло такое произойти.
«Все это случилось из-за того, что я так долго любил тебя, Жаклин, – писал Боб. – А когда ты наконец оказалась рядом, я, истомленный ожиданием, сорвался и не выдержал. Когда ты сказала, что между нами ничего не может быть, пойми, и твоя близость, и то, что было („Кретин, – подумала я, – что было? Ничего ведь не было!“), все это вылилось в какое-то безумие. Я, конечно, не должен был ничего говорить про Стива, да я и не думаю так. Прости!» Дальше Боб просил о встрече, и я подумала только, что он действительно дурак, так ничего и не понял, и, слава Богу, что все закончилось.
Стив, вернувшись, ничего не заметил. Он рассказывал, как штормил океан, как было красиво и жутко и от этого еще красивее. «Я обостренно чувствую опасность. Я возбуждаюсь от опасности», – сказал он, улыбаясь. Я смотрела на него и думала, что он, конечно же, необычный, и разве можно их сравнивать, Стива и того. А потом мы, истосковавшиеся друг по другу, занимались любовью, и я уже ни о чем не могла думать.
Я поднимаю голову и выплываю из воспоминаний, как порой возвращаешься из чуткого утреннего сна, не понимая сразу, где сон, а где реальность. Но лес быстро выносит меня на поверхность звуками, смешанным осенним цветом, запахами. Книга лежит на коленях, ожидая, и ей не надо долго меня упрашивать, я открываю ее и принимаюсь читать.
Я не мог никогда объяснить, а когда пытался, меня не понимали. Дело в том, что я люблю начинать все сначала, с нуля, не волоча за собой отягощающее обозное прошлое. И делать это именно тогда, когда всего добился, когда находишься на самой вершине успеха. Когда бросаешь успех, бросаешь наработанное, накопленное и начинаешь все сначала, без денег, без барахла, без утягивающих вниз связей.
Но меня не понимали, возможно, потому, что я не мог толково объяснить, и только сейчас, мне кажется, я нашел подходящее сравнение. Сравнение это с новорожденным ребенком, у которого тоже ничего нет, вообще ничего, кроме чистоты, искренности, сладкого запаха и будущего. Ведь не исключено, что именно чистота, искренность и отсутствие нажитого, не только материального, но и предосторожностей, опасений, страхов, всего того, что мы называем жизненным опытом, и есть в конечном счете условие для наличия будущего. Не потому ли и я чувствую эту подспудную тягу начинать все сначала, все заново, не потому ли, что я снова хочу быть чистым и искренним, как ребенок, что, конечно, до конца невозможно.
Это странный параграф, странный тем, что он про меня, как будто человек, писавший его, думал не только о себе, но и обо мне тоже. Сколько раз мне приходилось все бросать и начинать заново, по сути с нуля, с самого начала. Вот и наша совместная жизнь со Стивом закончилось тем, что я уехала, и хотя тогда казалось, что мой отъезд противоестественен, но сейчас, по прошествии многих лет, понятно, что по-другому быть не могло.
Моя учеба завершалась, я заканчивала одной из лучших на курсе, и все советовали мне продолжать обучение, и профессора на кафедре, да и сам Стив. Я получила несколько приглашений из разных университетов, но отказалась, не хотела переезжать, ведь это означало оказаться одной, без Стива. А оставаться без него я не хотела, даже на время. И только когда пришло приглашение поехать на два года в Италию изучать во Флоренции архитектуру Ренессанса, только тогда в первый раз я не сказала сразу «нет». Слишком большой был соблазн: Европа, Италия, все новое, волнующее, природа, солнце, люди. И хотя я знала, что Стив не сможет бросить все и поехать за мной, я все же рассказала ему о приглашении и спросила, скорее ради смеха: «Может, махнем?»
– Конечно, надо ехать, – сказал он уверенно, и я удивилась, я ожидала другого. – Такой шанс не часто выпадает. Тебе повезло, Италия, Флоренция, что может быть лучше?
– А ты?
– Я приеду к тебе, – он задумался. – Сейчас не смогу, меня не отпустят на кафедре. Наверное, на следующий год. Возьму отпуск на полгода и приеду.
– Только через год? – Я была разочарована, даже не этим годом, а, скорее, тем, что он так легко меня отпускает. – Ты думаешь, мы сможем друг без друга целый год?
– Почему год? У тебя будут каникулы, ты пару раз приедешь, я пару раз приеду к тебе, самолеты ведь летают.
– Все равно, – не согласилась я, – я привыкла к тебе. Мы шли по улице, и мне хотелось сказать «я люблю тебя», Но ведь это было глупо, здесь, на улице, говорить о любви. И поэтому я сказала по-другому, но почти то же самое:
– Я не смогу без тебя.
Стив улыбнулся и, несмотря на то, что шаг его был шире моего, подстроился, обнял меня за плечи и притянул, даже ухитрился поцеловать на ходу.
– Ты и не будешь без меня. Я буду писать тебе письма, и ты мне тоже, а потом ты приедешь ко мне, или я к тебе, и мы снова будем вместе.
– Не знаю, – сказала я. Несмотря на то что он прижимал меня к себе, мне стало зябко. – Я не знаю, – повторила я, – мне не хочется, – и добавила:
– Без тебя не хочется.
Мне даже стало страшно. Я представила, что мне придется уехать и быть в чужой стране, в чужом городе, не зная языка, без знакомых, без привычки быть одной. Я подумала об ожидающем меня одиночестве и испугалась.
– Нет, – сказала я, – я без тебя не поеду. – Я не хочу без тебя.
Стив еще сильнее прижал меня. Я снова посмотрела на него, и у меня защемило сердце, я не хотела его отпускать, я боялась, что могу потерять, и тут же решила, что нет, никуда я не поеду.
– Время быстро идет, – сказал он, а я подумала: «Какой же он толстокожий? Почему он не понимает, что происходит во мне?» – Ты знаешь, что через месяц будет три года как мы вместе?
– А ведь правда. – Сейчас, когда он это сказал, я тоже вспомнила. Мы встретились в мае, действительно три года без месяца.
– Когда тебе надо быть в Италии? – Переход прозвучал неожиданно, как будто все решено. А ведь ничего решено не было.
– В июле, – ответила я и тут же оговорилась, – но я не хочу ехать, – и снова оговорилась:
– Без тебя.
– Не спеши, подумай, время есть, – сказал Стив, и я сразу почувствовала облегчение. Действительно, что я нервничаю? Еще достаточно времени, чтобы решить.
Мы зашли в кафе, было субботнее утро, для нас чудесно нашелся столик, и мы тут же потребовали кофе. Меню не понадобилось, мы часто завтракали здесь, а иногда, когда дома не было продуктов, заходили и поужинать. Народ вокруг был в основном нашего возраста, лишь несколько пожилых пар, им, видимо, было приятно в этой молодежной суматохе, в гуле голосов, посуды, маневренно снующих гибких официантов. Столик находился у окна, и я быстро заняла место, откуда было удобно смотреть в зал. Стив усмехнулся, мы всегда спорили из-за этого, он тоже любил смотреть на людей.
– Знаешь, – сказал он, когда мы уселись, – что в Америке самое лучшее?
– Что? – спросила я.
– Официанты. Я не поняла.
– Ты о чем?
– Я говорю, что в Америке официанты значительно лучше, чем в Европе.
– Слушай, – сказала я, – может быть, ты хочешь, чтобы я уехала?
– Нет. Я не хочу. – Он помолчал. – Но если говорить о тебе, где еще, как не во Флоренции, изучать архитектуру? Я был там, когда-то давно, это сказка, музей под небом. И глупо упускать шанс. – Потом он подумал и добавил:
– Я бы поехал на твоем месте.
– Хорошо, – сказала я, – я поеду, если ты настаиваешь.
– Ты не понимаешь, так будет лучше для тебя.
Я все равно не приняла решения сразу, я думала еще недели две, перед тем как согласиться. Конечно, с точки зрения прагматичной логики мне следовало поехать. В нашем университетском городке архитектурных компаний не было, а это опять означало переезд и расставание со Стивом. К тому же претендовать я могу только на небольшую зарплату. «А так, – думала я, – после учебы в Италии я буду знать и уметь куда как больше. Стив, он единственный, из-за кого мне не хочется ехать. Но он и сам считает, что мне стоит рискнуть и что только от нас самих зависит не потерять друг друга».
Я дала согласие и последние два месяца до отъезда провела в сборах. Каждый день приносил новые, казалось, пустяковые, мелочные заботы и растаскивался ими по кускам, оставляя лишь вечер, когда меня, усталую и замотанную, уже ни на что особенно не хватало. Все это время я пребывала в нервном, лихорадочном возбуждении, я даже в постели перестала чувствовать, как раньше, и Стив пытался успокоить меня, но не мог.
Я так сильно вжилась в него за последнее время, что даже сама удивлялась, я и не подозревала, что настолько могу привязаться. Вечером, когда мы уже лежали в постели и я доверчиво, как никогда прежде, прижималась к нему всем телом, я чувствовала, как предательски сдавливает горло, и я не плакала, нет, но глаза покрывала непрозрачная пленка, и я опускала голову вниз, чтобы он не заметил. Раза два или три я все же не могла сдержаться, и слезы прорывались наружу вместе с ревом, и я спрашивала дрожащим голосом: «Может быть, мне не уезжать?», но он молчал, и я щекой чувствовала, как он пожимает плечами.
Сейчас я понимаю, что Стиву тоже было непросто. Много лет спустя он написал в письме, что хотел схватить меня и увезти, спрятать под замок, отлучить от мира, оставив только для себя. «Только потому, – писал он, – что на карту было поставлено твое будущее, я пошел на жертву и позволил тебе уехать».
Мы договорились так перед отъездом: писать друг другу письма. Стив вообще патологически не любил телефон, он его боялся, даже вздрагивал, если вдруг раздавался звонок. Он говорил, что телефон, возможно, и подходит для деловых договоренностей, но никак не для общения.
– Телефон неличностен, сиюминутен, – говорил Стив, – он не связан ни со временем, ни с человеком. Голос рассыпается в момент произношения, его невозможно закрепить во времени. Кроме того, из-за все той же скоротечности голос не продуман, неискренен, слишком поверхностен. Он не может передавать глубоких эмоций, только секундное настроение, не говоря уже о чувстве. Но главное – он не остается с тобой.
Письмо – другое дело. Оно требует времени и обдумывания и, помимо того, что оно вечно, оно еще личностно, его можно много раз перечитывать и сохранять. К тому же почерк. Он, как запах для собаки, как отпечатки пальцев, по нему можно многое распознать. А потом, письмо не пишется мгновенно, оно требует много времени, порой нескольких дней. А это значит, что человек думает о тебе, ему не жалко своего эмоционального напряжения. Каждое письмо, по сути, является произведением, созданным для одного человека. Не случайно публикуют письма знаменитых людей. Письмом не отмахнешься, как телефонным звонком…
Я видела, что Стив может еще долго продолжать, и, удивляясь его непривычной напористости, перебила:
– Чего ты так завелся из-за ерунды?
Он стушевался, видимо, ему самому стало неудобно от своей многословности, и сразу сбавил тон:
– Действительно, чего это я? Не знаю, наверное, наследственное. У нас в семье, знаешь, всегда был культ письма и почти ненависть к телефонам. В меня заложили с детства, что, когда человеку наплевать, он звонит, а когда важно – пишет. И теперь я не хочу, чтобы ты для меня выродилась в телефонные звонки.
Это была правда, Стиву почти никогда не звонили, а если сам он куда и звонил, то разве что заказать пиццу. Зато каждую неделю он получал несколько писем, в основном, он говорил, от родителей, которые жили где-то на западном побережье. Он тоже писал в ответ, редко дома, как правило, на работе, но я часто видела запечатанные и готовые к отправке конверты.
Перед самым отъездом мы снова занимались любовью, и мне снова было хорошо, хотя я так и не смогла до конца унять нервную напряженность. В последнюю ночь, когда Стив обнимал меня и говорил что-то успокаивающее, видимо, от его голоса и еще от мысли, что, возможно, я никогда его больше не увижу, я по-настоящему разревелась, как никогда раньше, даже ребенком. Эту ночь мы не спали вообще, то мы занимались любовью, то обсуждали, когда он сможет приехать или когда смогу я, а потом сидели на кухне, пили кофе. Он казался особенно родным этой ночью, я хотела вжаться в него, я обнимала его, все было мокро вокруг от слез, и я снова целовала его, всего-всего, и снова плакала.
К утру я уже ничего не понимала и ничего не могла различить, какая-то неведомая мне густая ватная усталость навалилась на меня и накрыла, и хотя что-то пробивалось до меня, но лишь искаженно. Мне даже нравилось это мое эмоциональное измождение, как будто накурилась чего-то, только здесь все получилось натурально, без химии, а только от любви.
Стив обнял меня, потом взял двумя руками за голову, отстранил от себя и долго смотрел, как бы изучая, впитывая. Я тоже попыталась запомнить его, я заглянула в его глаза, но они отличались от тех, к которым я привыкла, бездонность была притушена, они, казалось, потеряли свою неестественную прозрачность. Что-то подменилось в них за это время, что-то ушло.
– Я люблю тебя, – сказал он. – Я всегда буду любить тебя.
– Я тоже, – шептала я. Я не могла говорить, все плыло, я только могла повторять.
– Ты моя родная. – Он не отпускал моего лица. – Я всегда буду думать о тебе.
– Я тоже. – Мне хотелось упасть, сползти на пол в этом полупустом аэропорту.
– Ты часть меня. Слышишь? И всегда останешься моей частью. Ты всегда будешь принадлежать мне.
– Я тоже. – Я понимала, что я не попадаю, но не все ли равно.
– Ты никогда не будешь принадлежать другому, как принадлежишь мне. Я знаю это.
– Я тоже.
– Ты мне будешь писать. Через день, слышишь, через день! А я буду писать тебе тоже через день, слышишь! Я не хочу дурацких звонков, я хочу писем, твоей души, твоей руки, твоего запаха…
– Я знаю. Молчи, я знаю. Я буду. Я так люблю тебя.
Я приподнялась и накрыла его рот поцелуем. Голова так кружилась, что казалось, у меня нет веса, только чувства, одни невесомые чувства. Стив оттолкнул меня, и я пошла, вокруг смешались спешка, движение, гул, кто-то задел меня, кто-то заслонил от Стива, но это были прозрачные тени.
– Я люблю тебя, – крикнул Стив.
– Я тоже, – прошептала я.
Кто-то взял у меня билет, направил куда-то мой шаг, я обернулась перед самым выходом, но не разглядела его, все было очень смутно.
– Я тоже, – мне казалось я говорила вслух. – Я люблю тебя. Только тебя.
Приблизительно через месяц в одном из писем, которые Стив, как и обещал, писал через день, он сообщил, что в ближайшее время не приедет. Он сослался на что-то бытовое, мол, его не отпускают на работе, и я отодвинула срок. Потом дата его приезда снова оказалась перенесена, я спрашивала в письмах: «почему, что случилось?», но Стив объяснялся расплывчато, я так и не разобралась в причине. Получалось, что наша встреча не приближалась, а, наоборот, отдалялась. Где-то через год я поняла, что Стив не приедет никогда.
Я отталкиваюсь ногами от земли, совсем легко, даже носочки не отрываю. Впрочем, этого достаточно, ствол прибитой к земле березы, на котором я сижу, пружинит, приподнимая меня, но потом, как бы убеждаясь в бесплодности своей попытки снова стать прямым, растущим ввысь деревом, мягко планирует вниз. Прохладно, но прохлада не раздражает, а, наоборот, освежает меня, я только плотнее запахиваю свободную куртку. Мне бы надо походить, подвигаться, но я не успеваю, я снова листаю книгу.
Я придумал новый закон развития мира. Он прост и в простоте своей пропущен историками, ищущими объяснения исторических процессов в экономике, политике, захвате внутренних и внешних рынков, а также прочей социальной и геополитической ерунде. То есть все это возможно и имеет значение, но значение второстепенное. Главным же фактором, влияющим на историческое развитие человечества, является простая и обыденная человеческая скука.
Именно она, скука, расставляла войска в боевом порядке, захватывала и жгла города, присваивала и отторгала земли, замышляла интриги во дворцах и вне их, формировала религии, строила любовные многоугольники, а потом кромсала их, изводя количество углов до нуля. Именно она, скука, создавала дерзких авантюристов и нелепых алхимиков, была автором научных и географических открытий и родила, если не саму любовь, то, как минимум, изощренность неотрывного от нее секса. Она, скука, я полагаю, явилась причиной развития эмоционального начала в человеке, его способности нервничать и печалиться, гореть, радоваться, испытывать восторг. И многое еще в эволюции человеческой природы обязано ей, скуке. Она – источник, первопричина, предтеча нашей жизни.
Эволюция по Дарвину неверна хотя бы потому, что искусственна и надуманна, от нее так и веет человеческим изобретением. Она слишком упрощена, чтобы быть доступной школьникам и домохозяйкам, и бессильно пыжится вписать бесконечность мира в свою примитивную модель. Эволюция скуки куда более изобретательна и эластична, она не претендует на все, у нее нет четких правил развития, она расплывчата, как человеческое желание. У нее нет ровных краев, они оборваны и надрезаны, а иногда искусаны и плещутся на ветру своими болтающимися ошметками. А вместе с ними болтается и само истерзанное, исколотое время, не пытаясь подавить и объяснить все, потому что все не объяснимо.
Скука зародилась вместе с человеком, вместе с необходимостью накормить себя и продолжить род, только удовлетворялась она куда как прихотливее, чем голод и желание. Последние цикличны и неприхотливы, и в этом по-своему примитивны. Голод чередуется с насыщением, затем насыщение снова сменяется голодом. Так же и с похотью. А скука требует изобретательности, постоянного коварного изменения, потому что она в отличие от остального не насыщается одинаковым и требует неисчерпаемого разнообразия. Представим мир, существовавший триста лет, тысячу, даже три тысячи лет назад, не имеет значения, потому что для скуки все едино. Чем мог развлечь себя человек? Да ничем. Не было ни телевизора, ни радио, нельзя было поболтать по телефону, даже прочесть газету было невозможно. Невозможно было путешествовать, потому что отсутствовали механические средства передвижения, пища была ограничена только тем, что росло или бегало поблизости. Нам и сейчас с компьютерами, телевидением, книгами и самолетами зачастую скучно, а представьте, как было тогда: хоть на луну вой, хоть на стену лезь.
Только поняв эти простейшие факты, представив их в совокупности, легко догадаться, что в прежние времена человек не только не мог развлечь себя, ему вообще нечем было себя занять. Конечно, это лишь частично относится к крестьянину и ремесленнику, у них оставалась прерогатива труда, пахать и сеять, ткать и строгать, но крестьяне и ремесленники редко влияли на ход истории, как и редко развивали культуру. Историю делали короли, герцоги и прочие бароны, которым ни пахать, ни ткать не позволялось, а значит, не оставалось ничего ни созидательного, ни развлекательного.
Единственно, чем они могли себя побаловать – это всего-навсего четыре забавы, две из которых, воевать и интриговать, в большей степени развивали, так сказать, политическую часть истории. Другие две – чревоугодие и секс разного вида развили культурную и эмоциональную составляющую. Не случайно же наиболее шокирующие извращения совершались в самые древние времена и значительно притупились в накале со временем. Вспомним хотя бы Содом и Гоморру или, например, более поздних римских цезарей.
Действительно, что было делать какому-нибудь саксонскому герцогу? Пьянствовать, предаваться обжорству и свальному греху, ну и повоевать еще, конечно! Ведь что может быть упоительнее, чем рисковать своей и многими чужими жизнями? Отсюда все эти плюмажи, накидки, плащи и прочие петушиные принадлежности, ведь если забава, так забава во всем. Поэтому именно война является основным и наиболее действенным историческим лекарством от скуки. Мысль, что нашему саксонскому герцогу нужно было другое саксонское герцогство, чтобы, расширив свои владения, улучшить экономику, увеличить богатства и пр., по-видимому, полная дребедень. Он экономикой своего-то царства не умел и не хотел управлять, зачем ему хлопоты о другом?
Ну а в передышке между войнами, когда скука проедала дырки во времени дня и ночи, единственное, что оставалось, это поинтриговать, отравить ближнего или отрубить ему голову либо совершить еще какое-нибудь подобное чудачество. Так и продолжалось годами и столетиями, скука задав-ливала и требовала выхода, и единственные остававшиеся в запасе действия были войны, интриги, любовные приключения и связанные с ними смерти. Откройте первую попавшуюся книгу по истории и вы увидите, что кроме войн и интриг в ней больше ничего нет. Все остальное для истории не существенно, от остального ей тоже скучно.
Скука самый мощный мотиватор и движитель, и нет ничего сильнее ее. Именно она сформировала человека и ответственна за все лучшее, что произошло с ним, но и за все худшее тоже.
Я встаю и разминаю затекшие спину и ноги, сидение на стволе, конечно, романтично, но жестковато. Мне хочется движения, и я иду, не разбирая тропинки, запуская ноги в толстый шуршащий нарост жухлой травы, мне нравится этот шорох, к тому же ботам моим тропинка ни к чему, им все равно по чему шагать.
Я иду и думаю, что вот опять книга права, для меня никогда не существовало ничего более депрессивного, чем безделье и скука. Я просто заболевала, когда мне нечем было себя занять. Как ужасно мне было поначалу во Флоренции, одной, без друзей, даже без знакомых. Все, что я делала, это занималась в университете и писала письма Стиву. Я писала почти каждый день, делясь с ним каждой мелочью: когда проснулась, что ела за завтраком, с кем говорила по телефону. Я жаловалась на то, как мне сложно здесь, на новом месте, без знания здешней культуры, но главное, без знания языка.
«И в то же время, – пыталась я объяснить Стиву, – все неоднозначно. Я впервые поселилась в большом европейском городе, я и не знала прежде, какие они, настоящие города. К тому же Флоренция – необычный город. Если смотреть сверху из решетчатого закругленного окна Уффицы, то Флоренция представляется извилистым сплетением желтовато-коричневых кубических форм, притягивающим своей терракотовой путаницей и сам музей, и меня, завороженно стоящую у амбразурного окна. А потом хорошо выйти на площадь и пойти вдоль сладострастно-лениво растянувшейся реки и утонуть в запутанных улочках, неловко огибающих игрушечные лепные церквушки со спрятанными под ними карликовыми площадями. И снова углубиться в неразбериху домов, в стук булыжных мостовых, в сдавливающие с обеих сторон фасады, играющие хлопками распахнутых деревянных ставней. И вдруг почувствовать себя отстраненной от мира, от проходящего времени, от забот, одновременно одинокой, и свободной, и раскованной, и предоставленной только самой себе, и зависящей только от самой себя».
«На это требуется время, – написала я в другом письме, уже значительно позже, – сначала понять и оценить город, а потом привыкнуть и полюбить его энергию. Ты ведь знаешь, я скучаю по нашей тихой, неспешной, удобной Америке, ее чистым, заснувшим, почти безлюдным улочкам с аккуратными домиками, с очень зелеными, а порой разноцветными деревьями. А здесь город. Конечно, он стрессовый и забирает у тебя энергию, но вместе с тем он и заряжает. Помнишь, я писала, что познакомилась с Джонатаном, это он объяснил мне город и вовлек в него».
«Я помню, но ты писала коротко, лишь упомянула, – ответил мне Стив в следующем письме. – Расскажи мне о нем, опиши, а если будет время, сделай набросок, чтобы я представлял его».
«Джонатан родился в Америке, – писала я Стиву, – но, попав еще ребенком в Европу, жил с родителями в разных странах. Он свободно говорит на пяти языках и любит рассказывать о себе невероятные истории, и я бы не верила, если периодически не убеждалась бы в их правдивости. У него смешное добродушное лицо, высокий лысеющей лоб, знаешь, такой очень кожаный, легко складывающийся морщинами. Я вложила в письмо карандашный рисунок, так что ты увидишь. Он всюду меня с собой таскает, знакомит с новыми людьми, кажется, он знает абсолютно всех. Я даже не знаю, почему он проявляет ко мне столько заботы, у нас ничего не было, не волнуйся, он совсем не в моем вкусе. Возможно, ему льстит, что симпатичная девушка боится отойти от него даже на шаг и слушается каждого слова».








