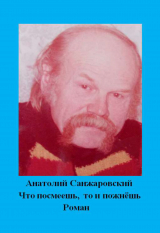
Текст книги "Что посмеешь, то и пожнёшь"
Автор книги: Анатолий Санжаровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
3
Ей хотелось, чтоб воробью было тепло, и она из цветных лоскутков сшила ему жилеточку.
Воробей Воробеич носился по комнатам как сумасшедший.
Девочке показалось, что, садясь, он может удариться, и она, от души жалея птаху, сладила крохотный, с пол-ладошки, парашютик на шёлковых ниточках. Другим концом пристегнула ниточки к жилеточке.
И теперь грустный Воробеич порхал по комнатам с парашютиком.
– Лялька! Это ж изуверство мучить так птицу! – негодовал Глеб.
– Извините, дядя, но вы слегка клевещете на меня. Ну зачем вы катите на меня баллон? Я ж совсем не мучаю. Я помогаю птичке жить красиво. При помощи парашютика она мягче садится. В жилетике ей теплей… Прикольненько!
– Да сдалось ей твоё тепло!
– Не нужно было б, не залетала! Разве дома холодней против улицы? На улице холодища, зима мажется… Хотите, скажу отцу, сделает клетку.
– Не клетка – ветка нужна!
– Ну! Пускай веткой побудет вся квартира хотя б до апреля. А сейчас в такой холод – сердце дрожит! – я не выпущу Воробеича. Чего ему надо? Воды, зерна до отвалки даю!
Глеб устало махнул на Ляльку обеими руками разом, словно отталкивался от неё.
– Ладноть. Вернёмся к кабану. Что ж ты его и разу не покормила?
– И не подумаю! От кабана слишком бьёт в нос францюзскими духами…
– Однако сало прячешь за щёку будь здоров! Послушай! А чего б тебе да не удивить Гнилушу? Возьми эдак небрежно и удиви. Вместо собачки прогуливай по улицам на поводке поросёнка. Как в Гватемале. У нас собак по улицам таскают, а в Гватемале поросят. И модно, и эффектно!
– Что эффектно, то эффектно, – подхватил я. – У нас, в Москве, стали на каждой лестничной площадке ставить бачки. Для пищевых отходов. Кормить в стране живность нечем, так хотят выскочить за счёт пищевых отбросов. Но никто ничего не отбрасывает. Сами люди могут с проголоди лишь лапоточки отбросить. И ничего никогда нет в тех бачках кроме полчищ мух.
– О! – выставил Глеб поварёшку. – Поддержи, Ляль, державу в трудную годину. Будешь прогуливаться с поросёночком и подкармливать попутно. Как раз в духе веяний века! А?!
– Не, дядь. Вы мне заменителей не подсовывайте. Я как все… Смотрю киношку, телик… Везде так прикольненько фланируют с цуцыками. Прям с людьми уже будто стыдно показаться…
– Устами младенца – истина! – воскликнул Глеб – Вот где зарыта собачка! Почему так падок город на собак? Случайность? Ой лё… Человек измельчал. Люди все меньше и меньше доверяют друг дружке. Скажи кому что-нибудь себе близкое да под секретом ещё… Тут же разнесёт сарафанное радио. Выработают слона. Просмеют. А у человека не отнять потребность выговориться. Ну и как тут быть? Кому выльешь душу, не боясь быть осмеянным? Одной собаке…
– Ну-у, – с брезгливостью в лице и в голосе поморщился Митрофан. – Это что-то из области больной философии…
Он взял свою полную рюмку, поднял на уровень глаз, с каким-то жалующимся вздохом посмотрел её на свет, подмигнул ей свойски и, тихо проговорив: «Берегись, душа, оболью!» – обще скомандирничал:
– Берите! Поехали! Да живее мне, живее. Пейте, люди смелые, воду очумелую! Стынет… Сама водка стынет! Тоник, чего ждём? Девки! Негушка! Людаш! Все берите… Нечего тянуть, а то взрывчатка с часами, как мина. Взорвётся в девять ноль-ноль.
В девять возвращалась со смены его жена Лиза.
Все встали с поднятыми рюмками.
Одна наполненная рюмка осталась стоять одинцом на углу стола.
– А эта чья? – угрозливо шумнул Митрофан, искренне подивившись тому, что у каждого уже было по рюмке и к чему тогда налито ещё и в эту?
Все молчали.
Митрофан повторил:
– Так чья?
– Наверно, мамина… – глухо обронил Глеб.
Митрофан боярским взглядом окинул застолье и заметил пустой стул на углу стола.
На том углу, ближнем к дверному проёму, обычно сидела мама. То место было за ней. Прислуживая застолью, она лишь на миг притыкалась к столу и то только для того чтоб высмотреть, а не надо ли чего подбавить, и, решив про себя, что надо, всполошённо утягивалась к печке, к холодильнику, в погреб.
Место на углу было ей удобно.
Выходя чаще всего незаметной, она никого не беспокоила.
Митрофан вопросительно уставился на Глеба.
Глеб опустил голову.
– Ма! – крикнул Митрофан. – Ну что вы вечно с фокусами!
Митрофан привычно прислушался, как прислушивался во все долгие годы, когда перед самым застольем мама непременно толклась в соседней комнате, в кухоньке, или ещё чуть дальше, в сенцах у газовой плиты, хлопоча над чем-нибудь ещё к столу, хотя на столе и без того было уже всего до воли.
– Как чокаться, так вас не дозовёшься! Чокнуться можно!.. Скорее идите! Водка же стынет! Не срывайте нам, – Митрофан потеплел голосом, – культурное мыроприятие по достойной встрече братана!
Обычно на втором-третьем слове упрёка мама виновато-торопливо отвечала, откинув дверную занавеску (между комнатами в дверном проеме висели лишь две светло-жёлтые половинки):
– Я зараз, зараз, хлопцы! А вы не ждить! Ешьте, ешьте. Закусюйтэ! А я зараз!
И действительно, скоро выходила к нам.
Но сегодня мама и не отвечала, и не выходила.
Не дождавшись бабы Поли, наладилась Лялька полегоньку посасывать и без того уже выдохшуюся, уже без силы выталкивавшую из себя последние точечные пузырьки шипучку.
Митрофан поскучнел.
– Есть рацпредложение. Пока там мать наша танцует танец маленьких лебедей на кухне вокруг своих сковородок-чугунков, давайте дерябнем по махонькой за то, чтоб не было войны!
– О нет! – вскинул Глеб руку щитком. – Давайте лучше выпьем за то, чтоб не было коммунизма!
– Ну-ну-ну! – загудел Митечка. – Это опасная анархия. Как член КПСС, конечно, извиняюсь, не с семнадцатого года, однако категорицки протестую!
– Протест единогласно отклоняется! – поднял Глеб руку. – Из войны мы выпрыгнем! Ё-моё!.. Да голыми ж телами забросаем, задавим врага! И выплывем. Как в сорок пятом. Сколько воевала Россиюшка и всегда, богаты́ря, подымалась. А вот придави нас твой чумовой коммунизмишко, – всем нам гарантированная амбёжка! Ведь твой картавый как пел?
– Да не твой, а наш.
– Ни хераськи себе! С чего это он нашенец? Ни Тоник, ни я, ни мама, ни дедушка с бабушкой как с маминой стороны, так и с отцовой, – никто в партии не был и не будет. Ты, чухан, один у нас в роду вляпался в КПСС. Так тебе одному с этим картавкой по пути… И как он пел? «Прекрасная вещь революционное насилие»! Видал! Он же ради этого коммунизма будет ставить к стенке до последнего человека!
– Он-то, ёра-мамора, сам уже отставился… Он не ставит…
– Так его именем ставят! Его верные ученички-пендюрчики… Интересно… Вот лежит он в мавзолее. Мертвяку такие хоромищи! Одному! Только и слышишь с уха на ухо: «Самый дорогой наш бомж! Кремлёвский!» Мавзолей же без номера. Выходит, и труп без места? Нигде и ничей? Какая-то чертовщина! А ему наплевать! Тепло, сухо. Никакого оброка[180]180
Оброк – плата за коммунальные услуги.
[Закрыть] не плати. Его бы в наш сараёк упечь. В дождь зальёт, в мороз в ледышку сольёт! Сразу б убежал отсюда, зря что трупешник. А то… Вот закрыт мавзолейка. Что хозяйко-то поделывает на досуге? Наверно, лежит, кинет ногу на ногу и ну распевает революционные песенки?
– Ага! – возразила Ленка. – До песенок, когда живот соломой набит!
– Соломой не соломой, – задумчиво проговорил Митрофан, – но и не живыми кишками. Какой-то чурбачок… Химический Тутанхамон… Однако мы отвлеклись от темы тоста. Не буду я отрываться от коллектива… Давай, Глеб, выпьем не за то, чтоб не было коммунизма – его и так никогда не будет! – а выпьем просто за всё хорошее.
– Я согласен, раз выходит на одно… Что в лоб, что по лбу. Без коммунизма всё хорошее к нам само нагрянет. Помогли б наши головки да ручки…
Митрофан торопливо плеснул всё из рюмки в рот и огляделся. Кроме него никто не выпил. Это его вовсе не смутило. Медленно поспешая, снова наливает себе, философствуя:
– Негоже, едрёна копалка, отрываться от родного коллектива…
Налил, как-то успокоенно вздохнул и уже равнодушно, постно продолжал:
– Хоть и выпил я за всё хорошее, но ни матери, ни коммунизма, ни хорошего чего прочего всё равно так и не вижу. Это никуда не годится, якорь тебя! Послушай, Глеб. А я, грешный делом, мать-то сегодня вроде как и вовсе не видел… – не то спрашивая, не то утверждая, неопределенно пробубнил он. – Где она у вас?
Злые льдинки качнулись в прищуренных глазах Глеба.
– Где и у вас!
– То есть?
– То и есть, что есть. – Глеб поставил рюмку на стол. – Ты на дню по сто раз проскакиваешь под нашими окнами на своей «Ниве». Благо асфальт, летишь на всех парах… А когда ты в последний раз видел мать? Когда? Вчера? Позавчера? С неделю назад?
– Ты на меня балетки не выворачивай…
– А ты, умняра, от вопроса в кусты не прыгай. Так когда ты в последний видел раз?
– Вообще-то…
– Месяц назад, дружочек!
– Вообще-то мать не телевизор, чтоб на неё каждый день пялиться.
– Конечно! – с донным ядом подхватил Глеб. – И даже не рюмка!
– Подбирай же, туря-пуря, слова! Аудитория, якорь тебя! – по-воловьи наклонив голову, Митрофан свирепо скосил, свёл глаза на враз приопавших девчонок.
Уж кто-кто, а они-то знавали своего родителя всякого, и не было у них отчаянней минуты, когда он, начокавшись черней грязи, не на четырёх ли костях влезал в дом и потом, мучимый, одолеваемый смертельной болью в сердце, долго катался по коврам бревном; и вот так вот, охая, стеная, разом засыпал, когда едва отпускала боль, засыпал где-нибудь посреди комнаты, и тогда всё женское семейство старательно вскатывало его по припасенным на этот случай досточкам на диван, как вскатывали сельповские мужики бочки с квашеной капустой на машину.
Митрофану, не трогавшему дочек и пальцем, было стыдно смотреть им в глаза за свои катания, он и сам сознавал, что набираться до такого состояния не дело, но ничего не мог с собой поделать: пил не на свои, на свои у Лизы не разбежишься; его угощали, у него не было воли отказаться. Как не уважить человека? Человек к тебе с добром, а ты… Обидишь ещё.
– Так куда ж вы упрятали мать? – срывисто бросил Митрофан Глебу.
– В Ольшанку! В больнице она там.
– Ка-ак в больнице? В какой такой больнице? Розыгрыш?
– Разумеется. Вот он, – кивнул Глеб на меня, – думаешь, зачем тут? А приехал помочь мне разыграть твою персону.
– Ну-у знаешь! – побледнел Митрофан. – В Москву доскочило… А я… А я за три крыши кукую и ровным счётом ничего не знаю! Выставить на посмешище? И с таким ещё пить?!
Глеб с ленивой, неестественной улыбкой потянул к Митрофану руку.
Митрофан в недоумении покосился на неё.
– Раз водкопой отменяется, прошу вернуть тару.
Так же неестественно мягко, деликатно Глеб вывинтил из вспотевшего кулака Митрофана рюмку и не спеша принялся сливать водку назад в поллитровку.
Делал он это с полнейшим безразличием, с какой-то дремучей унылостью в лице, с которой берутся за пустую, зряшную, неблагодарную, но необходимую работу, и в этой унылости опытный глаз мог бы разглядеть проблески и издёвки, и решимости, и торжества.
Слив изо всех поставленных в одну нитку рюмок, он так же нехотя, подчеркнуто нехотя, уныло опустил бутылку в плохое ведро под рукомойником.
Бутылка была не закрыта.
Грязная мыльная вода, будто обрадовавшись, с клёкотом, с шипением хлынула в бутылку.
Девчонки просияли, разом забили в ладошки, и уже минутой потом Лютик, снявшись со стула, переломилась через диван, широко поискала руками по ту сторону дивана, нашарила что-то и, пряча найденное за собой, стремительно прошила к ведру.
Послышался ржавый, глухой скребок стекла о стекло.
– Да ты что бухнула? – спохватился Митрофан, всё это время оторопело кусавший губы и не отводивший голодного мёртвого взгляда от ведра.
Девочка, белая, чистая, как цветок, вся засветилась торжественной улыбкой.
– Я утопила твою водку, папка!
– Да вы что, побесились?! – багровея, рявкнул Митрофан. Обозвав дочку бледной поганкой, полоснул ей: – Косая, косая, а подглядела-таки мои похоронки да и бултых… Ты ещё нарвёшься у меня на кулак! Я тебе нацеплю орденок за твои героичества! – и покрыл свою пустую угрозу бессильно-виноватым смешком.
Девочка знала, что ничего ей не будет.
Её занимало лишь одно: почему дяде Глебу ни слова не сказали, а ей выговаривают?
4
Митрофан считал, что на вечер вполне хватит одной глупой выходки, а две это уже, извините, слишком, перебор.
Он не сводил с ведра глаз и даже как-то нехорошо обрадовался, когда увидел, что поверху плавает покрытая, будто замаскировавшись пеной и луковичной шелухой, вроде, как ему примлилось, заткнутая кукурузным огрызком его полупустая бутылка.
– Пойду вынесу… А то полное. Вон даже через край бурхнуло…
Странным показалось нам с Глебом это его желание. Ни Глеб, ни я не видели никаких выплесков на полу. Да и вообще Митрофан ни разу за всю свою жизнь в доме матери не вынес из помойного ведра, а тут прям возмечтал. Не ладится ли он во дворе выловить свои недопивки?
От этой мысли мне стало погано на душе.
Оторопь холодит меня.
Мы переглянулись с Глебом.
Кажется, то же чувство слилось и в Глебе.
– Всё-таки пойду, – глухо сронил Митрофан. – А то… Ну через же, якорь тебя!
– К чему твои враки? – буркнул Глеб. – Скажи это бабке в красных кедах!
– Бабке докладывать не собираюсь, – отмахнулся Митрофан, направляясь к ведру.
– Неужели, – бросил ему в спину Глеб, – неужели мы дешевле пятёрки? Разнесчастушка ж ты разгуляй-бруевич! Да кортит выпить, так и лупани прямиком. – И дразняще: – Взрывчатка у нас во всяком углу выстаивается. Все углы заминированы!
Митрофан остановился, неверяще глянул на Глеба.
Глеб как-то легко, словно удочку, кинул длинную руку в угол за шкаф с зеркалом посерёдке, заметно и сам подавшись за ней, приседая, и уже через миг, небрежно держа двумя пальцами бутылку за горлышко, опустил в самый центр стола.
Всё сразу как-то сшатнулось в доброе русло.
Ожили девчонки; вернулся к столу раскисший в плечах Митрофан, с нескрываемым торжеством улыбаясь во всё своё большое, как колесо, лицо, с каким-то весёлым вызовом поглядывая на обворожительно игравшую на ярком свету в нарядной одёжке поллитровку, всего в мгновение обернувшуюся в пленительную силу вседобра и всепрощения, в ту единственно нужную в эту минуту силу, которая уже появлением своим сняла со всех тяжкое бремя перекоров, сомнений, подозрений, вложив каждому и в душу, и во взор, и в слово одну лишь радостную ясность.
– Всё-таки память у тебя воробьиная, – без злости попенял Глеб Митрофану, когда Митрофан, долив по рюмкам вровне с краями, вернул бутылку в середину стола. – Ты чего ж мать обошёл? Иль уже не признаёшь за нашу?
И, выпередив тяжело потянувшуюся снова к бутылке Митрофанову руку, сам плеснул до всей полноты несколько капель под самый верх в одиноко и укорно стоявшую на углу рюмку.
– Ну как же это не признаю, – с ленью в голосе возразил Митрофан, однако не без проворности сгрёб свою рюмку, будто опасаясь, что может накатиться ещё что-нибудь такое каверзное, из-за чего опять не донесёшь горячего до рта. – Я-то и тост подымаю первый за нашу мать. Мать у нас молодца! Нас вон каких три лобешника пустила в жизнь, подняла без отца одна. А война? И холод, и голод – всё наше… Война всех нас снизила. В военную беду плохо нам, ребятушки, рослось. А всё же выросли! И вот этих моих красавиц, – повёл бровями в сторону дочек, – выпанькал кто? Мату-уня… За нашу мать выпить – больша-ая честь! За мать, Тоник! Давай едь до дна, досуха. На лоб! Хай ей, как она говорит, лэгэнько там икнэться.
Союзно, вместе, сошлись над столом стаканчики, пожаловались тонким глуховатым стоном-перезвоном друг дружке и разошлись.
А через час, вызрев до предельности, Митрофан с красным тяжёлым лицом, уже без пиджака, даже без рубахи – как же, запарился, целый вагон с углем один разгрузил! – в майке, что тесно обнимала громоздкий, валунообразный живот, обречённо печалился размятым голосом:
– А я чуть голову не уронил на пол…
Признание это подавалось, наверное, по разряду шутки.
Но шутка эта никому не положила ни на лицо, ни на душу даже завязи улыбки.
Девчонки уже спали за столом, спали сидя, содвинувшись плечишками и уткнувшись головами в верх баяна.
Баян стоял у Ляльки на коленях нераскрытым, на ремешке. Так никто и не услыхал сегодня, как Лялька играла.
– Митька! Пока не поздно, давай к делу, – сказал Глеб. – Завтра чем свет надо Тоника подбросить в Ольшанку.
Митрофан трудно пронёс перед собой палец из стороны в сторону.
– Н-не м-м-м-могу-с…
Он действительно не мог.
По уговору, к семи ему нужно было забрать у Суховерхова своих шефов и на весь день закатываться с ними на комплекс. Упусти завтрашний момент, доведёт ли Митрофан свой комплекс до ума, как ему хотелось?
– А давай, Тоник, так… – пробомотал Митрофан. – Завтра ты отсыпаешься с дороги. А послезавтра едем. Мне и самому надо бы наведаться… Аж кричит… Мать-то ведь… И потом, негаданный морозец, может, подмостит большак. А сунься по нонешнему киселю… Из кювета в кювет ныряй! Так что заспи денёшек.
Я не согласился:
– Двину своим ходом.
– Да туда ж двадцать кэмэ! По спидометру двадцать да сударыня грязь двадцатник накинет!
5
Вошла Лиза, маленькая, толстая, как копна.
Стараясь прямо держать голову, Митрофан строго спросил её:
– Поз-з-звольте!.. А кто раз-з-зрешил прокурорам ходить по двое? – И, подумав, почти прокричал: – А!.. Понял! Понял! Это ты взяла своего зама, тараканьего подпёрдыша! И подобрала ж, юка-мука, по масти, якорь тебя!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.








