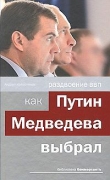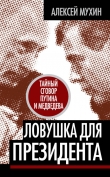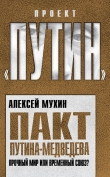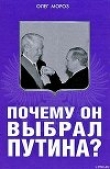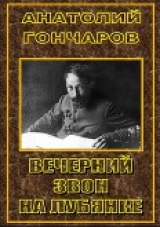
Текст книги "Вечерний звон на Лубянке (СИ)"
Автор книги: Анатолий Гончаров
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
«ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА»
Гончаров Анатолий
Вечерний звон на Лубянке.– Исторический детектив.
– Рига, 2013.
Очерки популярного рижского писателя из серии «Голые короли», публикуемой в газете «МК Латвия». Откуда получает информацию Анатолий Гончаров неизвестно. Существует легенда, что у него свои каналы в ФСБ. Действительно ли ему открыты секретные, пока еще, архивы, или у него хорошее воображение, но свой исторический детектив он замешивает на реальных событиях, и читается это с интересом. В России не издается.


Чекисты всех поколений гордятся блестящими операциями против белоэмигрантов – «Синдикат», «Синдикат-2», «Трест». Написаны книги, снят телесериал с Евгением Лебедевым в роли Савинкова. Андрей Мартынов сыграл бесстрашного чекиста Федорова, который на самом деле не чекист и не Федоров.
Официальный комментарий НКВД таков: «В ходе этих операций были созданы ложные контрреволюционные подпольные организации, имевшие цель заманить в СССР наиболее активных деятелей антисоветской эмиграции, а также крупных агентов западных спецслужб, и нейтрализовать их».
Деликатное «нейтрализовать» означало в те годы припозднившуюся пулю в затылок – под звон колоколов Сретенского монастыря, сопричастного Лубянке топографически.
16 августа 1924 года нелегально прибыл в Минск и был арестован один из самых ярких лидеров Белого движения Борис Савинков, угодивший в ловушку «Синдиката-2». 25 сентября 1925 года на ту же приманку попадается опытный британский разведчик капитан Сидней Рейли, бывший доверенным лицом Уинстона Черчилля. Сработала подставная монархическая организация, действовавшая по легенде операции «Трест».
23 декабря 1925 года через контролируемое ОГПУ «окно» на польской границе пробирается в Россию бывший министр иностранных дел в правительстве Врангеля, убежденный монархист Василий Шульгин. Здесь пора насторожиться сомнениям.
Гулкие колокола устремлялись тревожным эхом к Лубянской площади, а Василий Шульгин бестрепетно наступает на те же грабли. Казалось бы, и конец должен быть таким же, что у Савинкова и Рейли. Но нет. Финал Шульгину отсрочили на 20 лет, посадив его во Владимирский централ лишь в 1944 году, а тогда он пробыл в Советской России почти два месяца и ничего ужасного с ним не случилось. Кроме разве что одной досадной мелочи, нашедшей место в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»: «Таких усов, должно быть, нет даже у Аристида Бриана, – бодро заметил Остап, – но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить...»
Почти плачущий Ипполит Матвеевич подчинился. И стал похож, по мнению товарища Бендера, на известного автора-куплетиста Боборыкина. А ведь это именно Шульгину после вынужденного, в целях конспирации, бритья в январе 1926 года сказали, что теперь он похож на Боборыкина. Смешным это ему не показалось. Смешным получилось в романе, действие которого начинается, заметим, 15 апреля 1927 года, а сама книга вышла первым изданием уже в 1928-м.
5 марта 1907 года, то есть за два десятилетия до тайного визита в СССР, Шульгин приехал в Таврический дворец, сбросил пальто величественному швейцару, с которого скульптор Паоло Трубецкой ваял Александра III, и направился в зал заседаний Государственной думы второго созыва. Он вышел на трибуну и произнес речь, начинавшуюся с таких слов: «Я скажу вам, господа, что революция в России труслива, поэтому я ее презираю!»
В 1962 году бывший депутат, бывший идеолог Белого движения, бывший монархист Василий Шульгин присутствовал в качестве гостя на XXII съезде КПСС, где услышал Никиту Хрущева: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
Позже Шульгин напишет: «Я увидел коммуниста, устремленного в космос». Вот это было смешно.
Операция «Трест»
Итак, три подряд чекистские операции были проведены по одной и той же стандартной схеме. Успех очевиден. Арестован со своими ближайшими соратниками Борис Савинков, схвачен признанный мастер конспирации Сидней Рейли, за которого тщетно вступился Уинстон Черчилль, предотвращена попытка взрыва в общежитии сотрудников ОГПУ на Малой Лубянке, попал в засаду и был убит в подворотне провокатор Оскар Опперпут-Стауниц, застрелилась племянница генерала Кутепова, бесстрашная террористка Мария Захарченко-Шульц...
Каждый из этих фактов распадается на множество иных провальных для заговорщиков эпизодов, а по ту сторону границы все еще верят в мифический «Трест». Так не бывает. Даже в кино. Кстати, в одноименном фильме благоразумно воссоздали только одну операцию, не помянув остальные две, и Шульгина там нет вовсе. Не поверили, что такое возможно? Вряд ли. Скорее, на Лубянке ограничили интерес рамками одной операции. Но сомнений это не поколебало. Они не только в беспредельной доверчивости белой эмиграции, располагавшей, между прочим, серьезной контрразведкой.
Василий Шульгин, как и любой другой предприимчивый эмигрант, вполне мог скрытно пересечь слабо охраняемую польско-российскую границу, даже не будучи врангелевским эмиссаром. Польская пограничная стража уж во всяком случае, не препятствовала в этом занятии ни хорошо знакомым контрабандистам, с которых взимала регулярную дань, ни тем более русским белоэмигрантам, с которых свой профит имела любопытная дефензива. Прошел бы Шульгин туда и обратно, как ангел по небу полуночи.
Невозможно другое. Никакие, пусть просто забавные подробности из засекреченного на сорок лет дела операции «Трест» не могли стать доступными ни Ильфу с Петровым, ни еще кому бы то ни было. Кстати, понимал это и Остап Бейдер: «Полная тайна вкладов, то есть организации. Крепитесь...» И все же некоторые подробности секретной операции разошлись вскоре гигантским тиражом. Более того, в романе присутствует пародийное описание тайного общества «Меча и орала», когда голодный Остап идентифицировал личность наголо обритого Кисы Воробьянинова, как «гиганта мысли, отца русской демократии и особы, приближенной к императору». При наличии отсутствия у него иных достоинств, кроме умения надувать щеки.
Это карикатурный портрет самого Василия Шульгина. И это убийственная пародия на все еще существующий в подполье легендарный «Трест». Вот ведь и роман «Двенадцать стульев» строго расчислен по времени. 15 апреля 1927 года начинается его действие, в конце октября того же года завершается либеральным убийством Остапа Бендера. Так неужели неулыбчивому руководству ОГПУ приспичило слегка похохмить над секретным своим детищем, которое пестовали долгих пять лет?
Однако начальник контрразведки ОГПУ Артур Артузов – не гробовых дел мастер Безенчук, который кисть дает, а зампред ведомства Вячеслав Менжинский отнюдь не цирюльный мастер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся на имя Андрей Иванович. «Трест» контролировал сам Дзержинский. Спустя год после его скоропостижной смерти «подполье» еще числилось действующим, и лишь где-то в середине 1927 года Менжинского вызвал Сталин и велел свертывать операцию, сказав при этом следующее: «Организация «Трест» завоевала такой авторитет, что стала мешать нашей хозяйственной деятельности и торговым связям с капиталистами, которые начинают думать о ней как о теневом кабинете».
То есть тридцать или сорок чекистов, задействованных во всех трех операциях, составили опасную конкуренцию хозяйственной деятельности огромной страны, причем на Западе, несмотря на череду громких провалов, ожидали благоприятного развития событий и не торопились налаживать связи с официальным советским правительством.
Эмигрантская клиентура опасалась даже ненароком бросить тень на руководителей «Треста», включая не вызывавшего доверия казначея Опперпута-Стауница. Слова лишнего не давали сказать. Василий Шульгин, благополучно вернувшись из «турне» по России, написал очерк о драматической судьбе Сиднея Рейли для эмигрантской газеты «Возрождение». Печатать не разрешили: «Повремените, Василий Витальевич, с этим вашим Рейли. Как долго? Трудно сказать. От вчера до послезавтра. О плохом и трудном сейчас не надо, чтобы не повредить нашему делу там...»
Лицо у Василия Витальевича сделалось послезавтрашним. Он и сам, зная, как глупо попался Сидней Рейли, как застрелили его чекисты, вывезя будто бы на прогулку по Воробьевым горам, хотя и получили конфиденциальную просьбу Черчилля освободить Рейли на выгоднейших условиях, зная массу всего невнятного, не разгаданного им в России, и угрызаясь этим, продолжал верить в подпольную организацию «Трест» как в грядущее спасение страны от большевиков.
Разночтения в оценках деятельности и политических устремлений «Треста» имелись, это так, да и странно, если бы их не было. Одни эмигранты видели в «Тресте» мощный, широко разветвленный «синдикат» интеллигентов, копивших силы на платформе «Либеральных демократов», другие подразумевали спаянную монархическую организацию Центральной России, полагая, что это правое и наиболее энергичное крыло антисоветского подполья. К тому же обоими этими крылами с невероятной легкостью управлял тонкий стратег Александр Александрович Якушев, наезжавший в Париж, Берлин и Варшаву под фамилией Федоров...
16 января 1926 года у Шульгина состоялась встреча с Якушевым в нэпманской Москве. Он мог подозревать в москвиче провокатора, как подозревал это начальник врангелевской контрразведки полковник Чебышев, однако ни Шульгин, ни Чебышев никогда не поверили бы, что можно столь быстро и столь странно для бывшего действительного статского советника Якушева стать чекистом Федоровым, посвященным в самые секретные детали операции «Трест».
И правильно сделали, когда бы не поверили. Якушев был троцкистом. В 1919 году он еще эсер, ненавидевший большевиков и готовый, кажется, примкнуть к монархистам, лишь бы поскорее смести этот «еврейский кабак на кладбище». В 1920 году чекисты разгромили в Петрограде подпольную эсеровскую организацию, в которую он входил как один из руководителей. Якушев бежал в Москву, прихватив с собой старинный фарфор и золото, продажей чего и пробавлялся, стараясь не обратить на себя внимание властей. Служил в Наркомате водного транспорта. Тем не менее, интереса к своей скромной личности не избежал. И был арестован. И сидел на Лубянке, пока его не вызволил Троцкий. Вскоре состоялась душевная беседа со Львом Давидовичем, посоветовавшим, не покидая службу в Наркомате, отдать себя в распоряжение ЧК для сугубо секретной работы на благо России – не нынешней, но грядущей, в которой не будет... Сталина.
Через два года Якушев уже возглавлял подпольный «Трест», считавшийся на Лубянке подставной организацией, тогда как на самом деле это был тайный троцкистский центр, готовивший захват власти в Москве и «нейтрализацию» Сталина – чисто либеральное убийство во имя светлого демократического будущего.
А затем... Затем были осетрина, балык, грибки, семга и еще всякое такое в истинно русском вкусе. Шульгин был уже сыт, когда только и начинался собственно обед. Это становилось угрожающим для его европейского желудка, однако постепенно втянулся в процесс чревоугодия и даже увлекся портвейном, поскольку водки не переносил. Он говорил все громче. Имена великого князя Николая Николаевича, генерала Врангеля, генерала Кутепова, других достойнейших особ, «приближенных к императору», слетали с языка все чаще, а Якушев, слушая, напевал «Вечерний звон». И чем громче говорил Шульгин, тем громче напевал Якушев: «Как много дум наводит он – бом, бом, бом...»
Ах, как это было невыразимо прекрасно в Москве! Василий Витальевич под парами портвейна не испытывал даже и смутного беспокойства. И что за удивление лица у его советского превосходительства? Разве не прав Шульгин, говоривший о нетерпимости России к «еврейской гегемонии»? А она несомненна, как несомненна и нетерпимость к ней.
– Можно сказать, что тактически евреи на этой революции страшно выиграли, – горячился Шульгин, – но следует вместе с тем признать, что стратегически необъятно они проиграли. Власть их падет, и мы должны это предвидеть.
Якушев продолжал гундосить: «Бом-бом-бом!..» Троцкий велел ему не возражать Шульгину, когда тот затронет «еврейскую тему». А он ее обязательно затронет. В царской Думе «монархист-прогрессист» Шульгин прослыл антисемитом, отчасти даже черносотенцем. Но за ее пределами иудеи всего мира обязаны были в определенный день и час вознести молитву во здравие человека по имени Василий Шульгин, который в 1913 году предотвратил массовые еврейские погромы в Киеве.
Комментарий к несущественному
Кем надо быть, чтобы придумать настоящий заговор внутри чекистского мнимого? Самонадеянным идиотом, не так ли? Ответ по существу правильный, но не совсем точный. Надо быть Троцким. А кем надо быть, чтобы поверить в эту авантюру? Наверно, действительным статским советником, цивильным генерал-майором, обожающим малосольную семгу под водочку и душевные разговоры под «Вечерний звон».
По завершении операции «Трест» Якушев был награжден вторым орденом Красного Знамени. В1934 году его расстреляли.
Либералы и патриоты
– Люди в эмиграции, – говорил Шульгин, – более тонкие, более вдумчивые, убежденные в том, что англичане, французы, немцы – такие, какие они есть сейчас – это продукт долголетнего самоуправления, привычки к ответственности за свою страну. У нас же население совершенно к этому не приучено, особенно русское. Все делалось на верхах, все – не от царя в головах, а на троне. Потому – как требовать от народных масс гражданственности? Она не является в течение нескольких лет – воспитывается веками. Однако, несомненно, существует патриотизм в русском народе – единственная его сила, способная спасти Россию. Вот почему, когда старое начальство слетело, и когда новое начальство с еврейским прищуром глаз оскорбило народ в самых лучших его чувствах, нашлась сила, которая не стерпела оскорблений и взялась за оружие. Этой силой были мы, белые. Но с тех пор, как мы ушли, все, что способно было протестовать и бороться, исчерпало себя. А то, что осталось, покорствует в состоянии глубочайшего разочарования.
– Да... – вздохнул Якушев. – Это колоссальная проблема для власти.
– Для нации, – сухо поправил его Шульгин.
– Да, конечно, для нации!.. А скажите, Василий Витальевич, для чего вы сбрили бороду? Я видел вас на границе с бородой, вы были замечательно похожи на еврейского гегемона из какого-нибудь Бобруйска. Еще бы кипу на макушку, и вы необъятно выиграли бы в плане конспирации. А теперь, неровен час, кто-нибудь признает в вас куплетиста Боборыкина. Не чревато ли?
– Потому и сбрил, чтобы не походить на бобруйского гегемона, – буркнул Шульгин.
– Не обижайтесь, я ведь о серьезном... Вы полагаете, что падение советской власти вызовет большие потрясения, кои будут сопровождаться массовыми еврейскими погромами?
– Не знаю, – обронил Шульгин после некоторой паузы. – Тут, где ни ступишь, кровавая обида, которая кровью только и смывается. Но этого нельзя допустить хотя бы из прагматических соображений, ибо еврейские погромы станут прелюдией ко всеобщей неудержимой анархии.
– Я никогда не понимал их стремления назначать повсюду только своих, – сказал Якушев. – Это ведь, согласитесь, явная неуверенность, неумение работать с людьми объективно умными, сильными – только со своими. Отсюда все эти «Бумтресты», «Кожтресты», «Масложиртресты», которые грабят награбленное. Отсюда эти проспекты имени Нахамкеса или какой-то Землячки, которая Залкинд... Кто такой Нахамкес? Больше других украл? Не знаю...
– У вас ведь тоже «трест», – заметил Шульгин.
–Так мы же маскируемся, дорогой вы мой! Вы – под Боборыкина, мы – под коммерцию. Как еще называться нам, либеральным демократам, пошедшим на тактический союз с большевиками?
– Значит, все-таки союз, а не тайный центр борьбы?
– Союз в том смысле, что мы как либералы и патриоты, а равно и монархисты, пошли служить, а не сидим в подполе, пересчитывая патроны. Это вынужденная необходимость в процессе накопления сил. И потом, мы ждем достойного вождя.
– Савинкова вы уже дождались!
– Ищите предателя у себя! Бориса Викторовича предал кто-то в Париже. Похоже, агентурные нити ведут к советскому полпреду Красину, – Якушев попытался увести разговор в сторону от щекотливой темы предательства. – Да, Красин... Вот уж кто вор, так это он. Его даже Ленин проклинал за кражу казенных денег. Не знаю, сколько он там украл, но, говорят, много.
– Если угодно, могу назвать сумму – полтора миллиона золотых рублей, – усмехнулся Шульгин. – И по другим большевикам ленинской гвардии у нас имеются точные сведения. У Воровского, к примеру, пятнадцать миллионов долларов в швейцарском банке. Нам известно, в каком. Там же – личные капиталы Троцкого, Зиновьева, Радека, Каменева, Склянского, Подвойского!.. Это видеть надо, с каким размахом роскошествуют они, бывая за границей. Великим князьям не снилось.
– Вот-вот, а мы здесь сидим, как церковные мыши...
Взгляд Якушева некстати упал на серебряное ведерко с зернистой икрой и блюдо с нежно-розовой семгой, застенчиво мерцавшей капельками сока в кислом окружении лимонных долек. Никак не полагалось быть этим яствам у бедных церковных мышей, да вот откуда ни возьмись появились.
– Из нэпа мы потихоньку учимся выжимать полезное для себя, – скорбно произнес лидер либеральных демократов и непримиримых монархистов. – Ничего с неба не падает, и наши надежды на счастливое будущее тоже не с облаков...
– Я понимаю, из синдиката либеральных демократов они упадают, – съязвил Шульгин. – Внезапно и вдруг. На меня, знаете ли, в Киеве тоже намедни обрушилось... На Безаковской, если помните, был памятник графу Бобринскому. Стоял граф, уперев чугунную ногу в рельс, и это зримо свидетельствовало о его заслугах в строительстве железных дорог. Теперь там нет графа Бобринского. Вместо него торчит на старом постаменте нелепая пирамидка из листового железа. И надпись: «Хай живе восьмая ричница седьмого жовтня!» Каково?!
– Восьмая годовщина революции? – уточнил Якушев.
– Именно-с! И я подумал, когда пришел в себя от такого паскудства: хай он живе, этот памятник, как махровый образчик человеческой тупости. Кстати, Крещатик переименован в улицу Воровского. Точнее было бы назвать – улица Крадежная. По-украински точнее. Им дай Сикстинскую мадонну – и ее переименуют в какую-нибудь Клару Цеткин или Розу Люксембург, известных прихожанок публичного дома. Между прочим, Клара Цеткин очень хотела устроиться инспектриссой домов терпимости у себя в Германии. Не вышло – стала революционеркой.
– Пусть забавляются? – бодро откликнулся Якушев. – Лишь бы нас не трогали. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Лед тронулся, и за это стоит выпить!..
– Какой лед? – удивился Шульгин. – Какое заседание?
– Это у нас, в Наркомате водного транспорта, такая присказка. Лед тронулся, значит, дело пошло, заседание продолжается.
– Будете сидеть тихо на своих заседаниях, так никто и не тронет. Может, еще и наградят... к десятой ричнице седьмого жовтня.
С этими ядовитыми словами Шульгин поднялся, намереваясь откланяться, однако, взглянув на поскучневшее лицо хозяина дома, счел нужным смягчить реплику.
– Не обижайтесь, я пошутил не к месту, но и не со зла... Смотрите, у вас дырка на лацкане. Неужто моль? Да еще на таком видном месте...
–Да, действительно... – Якушев растерялся. – Хозяйки у меня нет, вот и терплю ущерб.
Вышло скверно. Гость видел в квартире домработницу. Но не мог же Якушев сказать, что это сам Калинин провертел ему лацкан, когда вручал первый орден за операцию «Синдикат-2», завершившуюся арестом Савинкова.
– Ничего, – молвил он, – мы эту моль перевоспитаем. Будем считать, что лед тронулся. Заседание продолжается...
Комментарий к несущественному
Присказка Якушева, ставшая коронной репликой Остапа Бендера, пришла к Ильфу и Петрову с Лубянки. Как и политический заказ на злободневную сатиру, полученный ими от Валентина Катаева, который имел культурные связи с НКВД помимо творческих.
Лед тронулся, потому что вечерний звон был не в головах, а на самом деле.

Расписные Стеньки Разина челны плывут и плывут к нам из прошлого, и нет им начала, не видно и конца им, оглашенным. И снова кого-то выбрасывают за борт в набежавшую оппозиционную волну, и все происходит совсем не там, где происходит, но почти так же, как было когда-то. Только намного хуже.
Похоже, двадцать первый век, оставив безответные задачи в двадцатом, взялся писать на старом холсте новую политическую картину. Однако сквозь свежие мазки явственно проступают очертания мифической организации «Либеральные демократы» образца 1925-1927 годов столь же циничной, продажной, сколь и бесплодной, если не считать плодами ее бессмысленных жертв.
Угадать, что спустя почти век мы увидим на сцене бытия тех же Кислярских, Берлаг и Лапидусов, не могли даже вдохновенные сатирики Ильф и Петров. Вот и своего героя они по наивности пытались отправить в небытие в конце первого романа, но технический директор концессии О. Бендер не считал свою личную жизнь чьим-то капризом. Он выжил наперекор литературной судьбе, и теперь уже никто не волен казнить его или миловать.
Теперь он сам раскручивает финал затянувшейся драмы, вынужденный додумать его за Ильфа и Петрова, стараясь, чтобы вышло не так глупо, как начиналось. Хотя это и трудно. Не те герои. «Это же просто смешно, -сказал бы профессиональный слепой и гусекрад Паниковский. – Жалкие, ничтожные люди».
И был бы прав как никогда в своей противоречивой жизни. Пожалуй, даже Паша Эмильевич Гайдар, не обладавший государственным чутьем, понял бы неумолимую пагубу исторических параллелей для потомков гей-славян, не говоря уже о его рыжем соратнике, которого с прошлого века заждались господа присяжные заседатели.
Членом профсоюза Остап Бендер не состоял, уголовный кодекс чтил, политикой не забавлялся, стяжателей не любил и на мизерные шансы никогда не ловил, поэтому последний акт драмы начнется, вероятно, с того момента, как лед опять тронулся, увлекая за собой бутафорский реквизит эпохи перезревшего рыночного капитализма, и господа либеральные демократы впервые по-настоящему осознают, что парадом командуют не они.
Казначей «Треста»
Знал бы Андрей Мартынов, что играет в телесериале не чекиста Федорова, а троцкиста Якушева, наверно, усомнился бы – стоит ли этот персонаж его актерского дарования, блистательно раскрывшегося в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие»? Но это так, между прочим. Откуда актеру знать, как все было на самом деле.
Глава «Треста», под вывеской коего действовала троцкистская организация «Либеральных демократов», Александр Якушев был убежден, что британского разведчика Сиднея Рейли выдал ОГПУ Василий Шульгин. Оттого ему и позволено было беспрепятственно вернуться домой в Сремские Карловицы, что в Сербии, где боевые кутеповские офицеры зарабатывали на пропитание строительством дорог. Наплевать было Якушеву на весь кутеповский корпус, но за капитана Рейли он отвечал перед Лондоном персонально.
Пока теплилась надежда на высылку англичанина, Якушев не искал возможности ликвидировать Шульгина. Когда же стало известно, что Сидней Рейли убит выстрелом в затылок во время прогулки с чекистами Ягоды на Воробьевых горах, Якушев понял, что сам завис на волоске. Некстати возник казначей «Треста» и второе лицо в подпольной иерархии заговорщиков
– Оскар Оттович Опперпут-Сгауниц, настоятельно требовавший санкции на перевод в Ригу значительной суммы денег на имя некой Анны Упелниеце, проживающей на улице Кришьяна Барона.
– С каких щедрот? – раздраженно осведомился Якушев. – Мы так разбогатели на спекуляциях царскими червонцами?
Что-то ему не понравилось в нагловатом напоре рыжего Сгауница, смотревшего на него пронзительно вызывающе.
– Деньги там нужны для организации конспиративной базы и нового «окна» на границе, – сказал казначей. – Вы не хуже меня знаете, что польское «окно» раскрыто большевиками. А наши мотыльки все еще слетаются на свет приграничной корчмы.
– Но мы в ЦК обсуждаем финляндский вариант «окна»...
– Заседание продолжается не так ли, Александр Александрович? А время не терпит. Люди наши гибнут. Народ из-за кордона дуром прет на московские пироги с грибами, не зная, что у нас эти пироги с некоторых пор с глазами и ушами. Готов выслушать ваши возражения, но останусь при своем убеждении. Латвийское «окно» жизненно необходимо. Кроме того, в Риге существует прекрасная возможность создать отделение «Либеральных демократов». Люди там ждут. Дела ждут.
Странно все эго выглядело. Оскар Оттович распоряжался казной «Треста» фактически бесконтрольно, ибо сам же ее и пополнял за счет малоинтересных для Якушева коммерческих махинаций, а тут вдруг нужна ему санкция. Спорить не стал, санкцию на перевод в Ригу десяти тысяч червонцев дал, но проявил при этом несвойственную ему педантичность, велев Стауницу составить подробный финансовый отчет для ЦК.
Вскоре Якушев собрался в служебную командировку на советскую выставку в Берлине, откуда намеревался съездить дня на два в Париж и поставить вопрос о доверии Шульгину. Объявив, что поедет через Минск и Варшаву, взял билет до Риги. Там разыскал нужный дом на улице Кришьяна Барона и встретился с его владелицей Анной Упелниеце. Ей он сказал, что хотел бы снять квартиру с обстановкой. Надолго. Для хозяйки это показалось неслыханной удачей. Солидный жилец со средствами, без капризных запросов. Сразу видно – старинного воспитания господин.
Разговор продолжился в гостиной. Чай торговой марки «Высоцкий» располагал ко взаимному сближению интересов. А интересы у Ивана Ивановича Артамонова из Берлина, кем представился Якушев, простирались в сторону рижского фарфора бывшего поставщика двора его императорского величества фабриканта Кузнецова. Достойная коммерция, возразить нечего. Впрочем, Анна Оттовна Упелниеце возражать не собиралась в любом случае.
Господин Артамонов с искренним вниманием рассматривал фотографические портреты, коими были увешаны стены гостиной. Медленно переходил от одного родственного соцветия к другому, степенно кивал головой, о чем-то спрашивал, вежливо выслушивал пояснения растроганной хозяйки и приговаривал: «Подумать только, как интересно!»
Печально задумался гость над портретом молодого человека с усами и бородкой клинышком в форме жандармского ротмистра. Хорошо, не увидела хозяйка побледневшего, в испарине, лица господина Артамонова. Со стены на него вызывающе глядел казначей «Треста» Оскар Опперпут-Сгауниц, служивший для пользы дела в контрразведывательном отделе ОГПУ.
– Муж? – справившись с волнением, игриво спросил госта.
– О, нет!.. – натужно улыбнулась Анна Упелниеце. – Это... мой родной брат Александр Упелниньш. С 1920 года не имею никаких известий о его судьбе. Слышала, будто бы арестован в Петрограде... Наверное, расстреляли, иначе давно бы дал знать о себе. Господи, спаси и сохрани его душу!..
– У меня в Москве наладились недурные связи э-э... в сферах, – Якушев сделал неопределенный жест, сверкнув золотой запонкой на манжете. – Могу составить запрос, если имеются точные биографические сведения о вашем брате.
– Не трудитесь, господин Артамонов, прошу вас... – голос хозяйки завибрировал легким испугом. – Я уверена, что Александр... что его нет на свете. Не стоит обременять людей напрасными поисками... Вы когда рассчитываете вселиться? Я бы распорядилась насчет косметического ремонта...
– Сейчас я в Берлин, а недели через две встречайте...
Вернувшись из командировки после заезда в Париж, Якушев уже почти определенно знал, что Сиднея Рейли выдал ОГПУ Стауниц-Упелниньш. Он же Опперпут, он же Селянинов, он же еще и Касаткин. Сын зажиточного латышского землевладельца Александр Упелниньш окончил Рижский политехникум, затем поступил в Алексеевское военное училище. Выпущен подпоручиком, но в армии не служил, подав прошение о переводе в корпус жандармов, где и сделал карьеру на поприще политического сыска. В «Тресте» играл роль Азефа, провалив около сорока операций ОГПУ и не меньше диверсионных акций, предпринятых агентурой Кутепова и Врангеля. Это все было настолько скверно, что хуже и не бывает, но особенно непереносимым для Якушева стал факт провала капитана Рейли, поскольку тот являлся ключевым звеном в цепи Москва – Париж – Лондон. На том конце ее сходились все надежды Якушева. Сталина он боялся, в Троцкого верить перестал, а у Черчилля готов был служить камердинером.
В Москве выяснилось, что провалилась долго готовившаяся операция по взрыву общежития ответственных сотрудников ОГПУ на Малой Лубянке. Там был установлен замаскированный под водогрейный котел мощный меленитовый заряд, а под плинтусами заложены в большом количестве зажигательные бомбы. Подрыв должны были обеспечить Мария Захарченко-Шульц и боевик по фамилии Петерс в ночь с 9 на 10 июня 1927 года. Сгауниц указал террористам совсем другой дом, где ожидала чекистская засада. Они бежали, отстреливаясь. Загнанные погоней на военный полигон, застрелились.
В ту же ночь исчез Сгауниц. Якушев полагал, что он будет прорываться в Ригу, и ошибся. Казначей позвонил из Смоленска и сказал, что малейшая попытка преследовать его станет для Якушева роковой.
– Зачем мне преследовать вас, а вам от меня скрываться, если мы служим одному делу? – сказал Якушев. – Нам просто надо встретиться и обсудить ситуацию, одинаково угрожающую для нас обоих. Вы давно искали возможность установить связь с Интеллидженс Сервис, но Сидней Рейли отказал вам. По-другому он не мог поступить, потому что такого рода контакты осуществляются только через меня. Понимаю, вы не могли этого знать. Испугались провала и сыграли в другую игру. Ставку сделали на черное, а выигрыш решили получить с красного. Напрасно, Оскар Оттович. Англичане найдут вас и под землей. Рейли они вам не простят. Если, конечно, узнают от меня, кто повинен в его гибели. А я все еще раздумываю, как мне поступить. Потому и предлагаю обсудить мнения сторон. Что скажете? Заседание продолжается?..
– Приезжайте, – глухо произнес Стауниц. – Я вам все объясню. Когда вас ждать?
– Завтра к восьми вечера, раньше я не успею. А пока ответьте на один только вопрос. Зачем вам понадобилась моя санкция на перевод денег в Ригу? Чтобы привязать мое имя к резиденту германской разведки Анне Упелниеце и сообщить Артузову, что я завербован?..
– Ну, раз вы все знаете... Поговорим при встрече.
Люди Якушева прибыли в Смоленск на рассвете, имея адрес и строгий приказ живым Стауница не брать. «Дом заминирован, – пояснил начальник, – и при малейшем подозрении взлетит на воздух. Установите наблюдение, дождитесь, когда зверь покинет свое логово, и действуйте наверняка...»