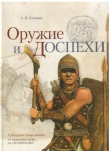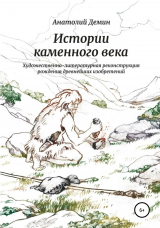
Текст книги "Истории каменного века. Художественно-литературная реконструкция рождения древнейших изобретений"
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
История пятая – о том, как человек нашёл нашел способ изготовления сыромятной кожи (сыромяти)

История эта произошла в те времена, когда люди ещё не освоили приёмы по выделке кож и шкур. Перед пошивом же одежды шкуры надевали врастяжку на деревянную рогатину и счищали скребками мездру[2]2
Мездра – остатки жира, мышечной и соединительной тканей на внутренней стороне шкуры животного.
[Закрыть], довольствуясь только этим. Одежду шили или из шкуры с мехом для тепла, или без меха, и тогда уж его срезали, называя в этом случае «срезью», которая в дальнейшем получила название «шерсть». Понятно, такая одежда была весьма жёсткая, поэтому складками и швами натирала кожу человека, принося немалые страдания, пока не придумал он сыромятное дело. Итак, вот эта история.
В роду Бурого Медведя все люди были будто по Прародителю своему, как медведи: крупные телом, с руками непомерной силы, степенные, неторопливые в мирных делах и так же, как и медведи, наполнялись лютой яростью в битвах. И мало кому из врагов выходила удача уйти невредимым от их копейных, а то и просто кулачных ударов.
Среди же всех родовичей особо приметен был молодой силач-удалец прозваньем Рудый. И звали его Рудым не напрасно! Рудый – значит рыжий. Огненно-рыжим волосом был крыт наш силач от головы до ног. Густые волосы короткими плотными завитками, спускаясь с головы по бычиной шее, вольно расселились на спине, груди и ногах. Усеянное конопушками лицо покрывала рыжая с красным отливом поросль, оставившая голыми только широкий лоб, подглазья да лоснящийся, вздёрнутый, с большими ноздрями нос. А бело-розовая кожа Рудого в гневе обильно наливалась пунцовыми пятнами, налезавшими от тесноты друг на друга.
Вот таков был могучий муж рода Бурого Медведя – Рудый. Ближних сродников у сего рыжего удальца не было уж давно, и жил он в своей тёплой, под бревенчатой кровлей землянке[3]3
Люди каменного века, в течение длительного периода жившие в пещерах, со временем научились строить различного рода жилища, начиная с шалашей из веток и травы, простейших землянок, когда устраивалась только кровля над подходящим естественным углублением в земле. Постепенно жилища усложнялись и совершенствовались. В их конструкциях люди стали широко использовать камни, глину для скрепления камней, стволы деревьев, а позже и доски – после того, как научились их делать, раскалывая брёвна клиньями.
[Закрыть] со своей единственной единоутробной сестрою именем Рыжуха.
Про землянки же вот что интересно. Некоторые из них сходствовали с медвежьей берлогой. Коли находилось поваленное ветром дерево с вывороченным из земли большим корневищем, то устроение такой землянки проходило так. Поначалу вырубались все корни, которые приходились на середину корневища. Нетронутыми же оставались только те корни, что вроде рёбер торчали по краям. Далее поверх корней-рёбер полагалось наложить веток погуще, и потом уж ветки укрывались дерниной. Такие землянки считались попроще и похуже. Землянки подобротней делались иначе, и для них требовались подходящие углубления в земле. Найти же такие углубления было нетрудно в овражистых местах или по речным высоким берегам. Затем надо было, заготовив в достатке брёвен подходящей длины, уложить их плотно одно к другому над углублением, заполнить зазоры между брёвнами болотным или озёрно-речным илом и, дождавшись, пока ил подсохнет, но так, чтоб не пошёл трещинами, укрыть бревенчатый настил дерниной.
В землянки стародавние люди не входили – вползали на четвереньках. В них могли разместиться сидя либо лёжа два-четыре взрослых человека с малыми детьми. Землянка укрывала от дождя, в летние знойные дни она давала тень и прохладу, в зимние холода с малым костерком внутри помогала дожить до весеннего тепла. В землянке почти ничего не угрожало ночлегу.
…Рудый возвращался с удачной охоты. На его плече, поматывая под мерный шаг охотника рогатой головкой, лежала добыча – тушка косули. Подойдя к своей землянке, Рудый снял с плеча и передал косулю Рыжухе, на светло-румяном лице которой выделялись белые, будто выгоревшие на солнце, брови с ресницами. Злобно ощерясь, Рудый снял-стащил с себя кожаную рубаху-малицу, оголив кровоточащие полосы на руках, спине и бугристом животе, и присел на лежащее рядом с землянкой бревно, подставив, к своему удовольствию, саднящее, израненное тело под освежающие воздушные струи, хоть и веяло уж предосенним холодком.
– Всё, Рыжуха, терпежу моему конец пришёл! Невмочь мне боле надевать сю малицу! – промолвил одним духом Рудый и далее уж, по манере своей, произнёс врастяжку: – Иль она меня до конца умучит, иль я с ней учинить чего-то должон.
– Жалко мне тя, братец! У меня-то кожа тож саднит, хоша до крови дело не доходит. Не разумею токмо, как же ты малицу умягчишь, ведь в рот не положишь, зубами кожу не пожуёшь, не разнежишь.
– А я её руками спробою умять-приручить. Токмо допреж, сестра, распори-ка малицу по швам, потом уж наново сошьёшь. а шило доброе, с чёрного камню, я намедни у Кривоглаза на кунью шкурку выменял. Да ты, поди, давеча видела ново шило-то.[4]4
К началу эпохи позднего каменного века (неолита), когда, как считается, были изобретены прядение и ткачество, человек в течение многих тысячелетий придумал и довёл до совершенства доступные ему по тем временам технологии выделки шкур и кожи, из которых изготавливалась разнообразная одежда, остававшаяся практически ничем не заменимой вплоть до появления тканей. Для зимней одежды выделывалась шкура, и на ней оставался мех, для летней – мех перед выделкой срезался ножами. Срезанный мех в этом случае называли шерстью и за ненадобностью выбрасывали. Сам же процесс изготовления одежды осуществлялся методом ШИТЬЯ с использованием ШИЛА. Кстати, интересно заметить, что отглагольное существительное ШИЛО, означающее и в современном русском языке простейший инструмент, предназначенный для прокалывания отверстий, ассоциируется не со швейным делом, где требуется игла, а с обувным ремеслом, точнее, с ручной починкой обуви, где зачастую без шила ещё не обойтись. Из последнего замечания логично сделать следующие любопытные выводы: слова «шило» и «шить» в русском языке появились задолго до неолита, русский язык, вполне вероятно, по возрасту – один из древнейших языков на планете.
Как же шили наши далёкие предки? Ответ на этот вопрос представляется очевидным.
Прежде чем приступить к шитью, надо было позаботиться о достаточном количестве шовного материала, в качестве которого, в отсутствие ниток, служили либо подходящие жилы (сухожилия), специально для этого особым способом подготовленные, либо узкие и как можно более длинные нарезанные из мягкой кожи полоски-шнурки. Заготовив же припас жил и шнурков, можно было начинать и сам пошив, для чего древний швец брал в руки, разумеется, заранее выкроенные из выделанной кожи или шкуры детали, складывал-соединял их определённым образом, прокалывал шилом три-четыре отверстия, протягивал через них жилку либо кожаный шнурок, стягивал в этом месте сшиваемые детали кроя, затем дальше по шву снова прокалывал отверстия, и всё повторялось, пока эти детали не оказывались полностью сшитыми. Соединение деталей кроя при этом могло быть двух типов: с плоским швом, когда края деталей просто накладывались друг на друга с небольшим нахлёстом или швом-складкой, когда края подгибались и сшивались, образуя как бы складку, обращённую наружу. Именно шов-складку было накладывать проще, потому скорее всего его и использовали швецы каменного века везде, кроме тех мест одежды, где предпочтительней оказывался плоский шов. Последнее, о чём, пожалуй, стоит упомянуть, это то, что именно модельерами и конструкторами одежды каменного века скорее всего была придумана ШНУРОВКА как способ подвижного соединения деталей одежды.
[Закрыть]
– Видала. Ладно, давай малицу, а сам-то поешь да отдохни.
Пока брат ел запечённое сестрой мясо, заедая его зелёными перьями лугового лука, росшего тут и там по всей округе, Рыжуха принялась распарывать малицу ножом с коротким, острым, удобным для порки лезвием.
Подкрепившись, Рудый влез в землянку и, ожидая завершенья сестриного занятья, растянулся на подстилке из душистого, загодя наготовленного сена и, поддавшись блаженной истоме, тут же уснул, сопя, всхрапывая и, как малое дитя, пуская между выпяченных губ пузырчатые слюни.
Спал, однако, не долго. Проснулся рыжеволосый детинушка, вылез из землянки обратно на свет божий, а Рыжуха уж куски кожи, бывшие ещё недавно малицей, отдаёт: «Ну, вот, на. Делай теперь, чо удумал!» Что ж, взял Рудый кожаные куски, сел верхом на бревно – на то самое – и давай приручать один кусок за другим. И как только не мучил их, вроде как в отместку: мял, скручивал то в одну, то в другую сторону, свивал-развивал вдоль и поперёк. Пот прошиб уж кожемяку, а он всё не унимается. Вдруг замер, поискал глазами сестру, будто спросить чего хотел, а той уж и след простыл – хлопот-забот-то у неё кабы не побольше, чем у брата.
Сидит Рудый на бревне. В задумчивости мятые маличные кожаные куски на ощупь проверяет, хмурится в недовольстве – нет нужной мягкости-то. «Как Рыжуха-то давеча сказывала, – мысленно спросил он себя и, вспомнив слова сестры, произнёс их вслух: "Малицу в рот не положишь, зубами не пожуёшь, не разнежишь». И дальше, уж опять молча, продолжил рассужденье: «А ведь, должно быть, права сестрица – не умягчить, не разнежить, как желатно, кожу посуху. Во рту-то зубам слюна дюжая помощница. Вот, стало быть, и надобно чередовать мятьё с моченьем, а моченье с мятьём».
И вот прихватил наш добрый молодец с собой все уже изрядно промятые куски кожи, не забыв (мало ли чего) тяжёлое, по деснице своей могучей, копьё, и длинным, вразвалку, шагом направился в сторону реки, которая сейчас, под закат лета, обмелев, больше на ручей походила. А вёснами-то, беременная половодьем, широко разливалась, наполняя мутными бурливыми потоками всю пойму и, перехлестнув через её края, вольно растекалась окрест. Недолго так буйствуя, река умиряла свой весенний норов, успокаивалась, входила в свои обычные берега, оставляя по всей пойме, будто свой речной приплод, множество наполненных рыбой и раками бочагов и старых, когда-то ею прорезанных и затем отчего-то брошенных русел – стариц. Вода в старицах, прикрытая зелёными блинами листьев кувшинки, стоялая, тёплая, недвижимая – падёт в неё лист с набережного дерева и останется на месте, разве только ветерок, коли случится, толкнёт самую малость.
К одной из таких стариц и держал недальний путь Рудый – кожемяка. Пришёл, опустил в пахнущую тиной, кувшинками и рыбой воду намученные сильными руками куски распоротой малицы – пущай, мол, намокают. Огляделся, увидел недалече упавшую сосну. «Се дюже кстати, – подумал, – будет где способней с кожей дело завершить».
Вот тут, на берегу старицы, до трёх раз чередовал кожемяка моченье-отмоку с мятьём и добился-таки своего – размягчил, разнежил, приручил маличную кожу. Только поздним вечером вернулся он к землянке, очень уставший, но довольный.
«Накось вот, Рыжуха, – вымолвил как выдавил из своего утомлённого нутра Рудый, – теперь наново сшей малицу. Дотемна-то уж не успеть, так ты поутру продолжь, а я нынче дюже устал и спать буду до полудня. С шитьём аккурат поспеешь».
Вот так, при таких обстоятельствах могло явиться начало ремесла выделки сыромятной кожи – сыромяти. Это был, конечно же, ещё только самый первый шаг на предстоящем долгом пути совершенствования сыромятного дела. Ещё только предстояло для повышения качества сыромятной кожи древним кожевенникам постепенно, шаг за шагом, придумать дополнительные технологические операции и специальные приспособления, открыть и применить полезные вещества. Всё это, безусловно, так!
Но всё-таки самым важным является первый шаг в нужном направлении.
История шестая – о том, как была придумана и сделана первая лодка долблёнка-однодерёвка

Два брата-погодки – Гудой и Вышата, оба помощники и выученики знатного умельца-копейщика Дрёма, копья которого высоко ценились далеко за пределами не только их старейшего рода, но и всего многочисленного племени вранцев, – были на рыбалке. Ну что тут сказать, водилась за братьями такая слабость. Хоть и считали их молодцами сметливыми и сноровистыми, тяжёлую руку Дрёма, выбивавшую из своих учеников, как он говорил, «дурь и нерадение», знали очень хорошо. Ну не лежали, видно, их души к этому уважаемому, но скучному ремеслу. Любили же в свободное от скучного копейного дела время добыть рыбки острожным боем, а необходимую для этого хорошую острогу сделать для братьев было и вовсе вроде забавы. Ведь чем острога отличается от обычного копья – да только наконечником. У копья он должен быть увесистым, с ровными гладкими гранями, одинаково сбегающими в обе стороны, чтобы копьё могло легко пробивать звериные туши или, случись, тела врагов и так же легко выдёргиваться обратно. Наконечник же остроги обязательно должен иметь зацеп-бородку, а лучше два зацепа, чтобы рыба не могла соскользнуть, когда поднимаешь её острогой из воды, и делали острожные наконечники поэтому не из камня, а из крупных рыбьих костей.
Сегодня рыбалка не удавалась, хотя всё было как обычно. Когда один из братьев брал в руки длинный шест и, упираясь им в речное дно, медленно проталкивал плот вдоль берега, другой в это время стоял на краю плота и, пристально вглядываясь в прозрачную воду, держал острогу в поднятой руке в готовности в любой момент сделать прицельный бросок. Но желаемой добычи всё не было видно. Так продолжалось уже довольно долго, а в центре плота лежали, уже не трепыхаясь, всего-то две небольшие стерлядки да один линёк. «Да что ж такая невезуха нынче? – утомившись первым, запальчиво произнёс Гудой. – Всё, хватит, шабаш!» «Ну, коли так, то и ладно», – отозвался всегда невозмутимый Вышата.
Завершив неудачную рыбалку, Вышата причалил плот, и, прежде чем возвращаться в копейню Дрёма, братья решили посидеть немного в тенёчке под раскидистой ивой.
А мы воспользуемся этим моментом, пока братья отдыхают, и поясним, что вранцы, широко расселившиеся в озёрно-речном крае, с незапамятных времён стали делать плоты, связывая брёвна сыромятными кожаными ремнями. И много пользы приносили эти плоты.
Как же приятно вот так тёплым летним днём растянуться на траве-мураве в тенистой прохладе у воды.
– Слушай, Гудой, – обратился Вышата к младшему брату, – а вот плот не так уж и хорош!
– Это почему же? – отозвался Гудой.
– Ну, вот сам посуди, – продолжал старший, – на большую глубину на нём не пойдёшь, шестом дна не достанешь, так? Так! Ежели что перевозить, то много не положишь – тонет! Немало и того, чего на плот и вовсе положить нельзя – промокнет! Сам знаешь! А скажем, задумай мы перетащить плот в соседнее озеро, то ведь не смогли бы – слишком тяжёл, так? Так!
– Я согласен с тобой, брат. Ты верно всё толкуешь, но к чему клонишь, а?
– Я и сам, Гудой, покуда не ведаю, – ответил Вышата и улыбнулся широкой белозубой улыбкой, потешно сморщивая свой курносый нос.
Братья замолчали и, покусывая соломины, просто смотрели на поблёскивающую в солнечных лучах водную гладь медленно текущей реки, по которой сейчас тихо плыло толстое бревно с большим дуплом, а в дупле на дрожащих лапах стоял волчонок и жалобно скулил, глядя в их сторону. Братья, не сговариваясь, бросились в воду, быстро доплыли до бревна и подталкивали его к берегу, пока оно не воткнулось в береговую песчаную отмель. Волчонок же выпрыгнул из дупла и дал стрекача. Ну а помощники Дрёма, выйдя на берег, остановились и молча долго пристально глядели на это самое бревно и наконец, оторвав свои взгляды от бревна, устремили их друг на друга.
– Брат, а я, кажись, смекнул, куда ты клонил давеча, когда плоты хаял, – сказал Гудой.
– Я и сам, брат, только сейчас это понял. Сделаем, Гудой, мы с тобой то, чего до нас никто не делал, – промолвил Вышата, а Гудой тут же продолжил мысль брата.
– И сделаем мы это, брат, из этого бревна.
– Выдолбив такое большое, во всё бревно, дупло, – подхватил Вышата, – чтоб в него смогли бы забраться мы оба.
– Да положить кое-какого скарбу, – добавил Гудой.
– И будет это называться «однодерёвка», – сказал один брат.
– И будет это называться однодерёвка-долблёнка, – уточнил другой, и, вскинув руки, братья пустились в пляс.
Проплясав до испарины на лбах, они решили вытащить то, что должно стать их первой однодерёвкой-долблёнкой на берег, и немедля пойти к Дрёму, чтобы известить его о том, что отныне они займутся другим ремеслом.
Чуть свет поутру следующего дня братья снова были у реки, но на этот раз не для острожного боя, а ради задуманного вчера. Выложив на траву из заплечных мешков приготовленные с вечера ещё топоры, запасные рукоятки-топорища, ремни-перевязи, Гудой с Вышатой встали на колени и, как принято было у вранцев перед началом всякого важного действа, подняли глаза к небу и, скрестив на груди руки, вместе, врастяжку произнесли такие слова: «О боги, восседающие в небесных чертогах и воззривающие на сотворённый вами мир сей, окажите нам – детям вашим – помощение в добрых наших починах богов же во славу».
Да, дорогой читатель, это была молитва, слова которой, разумеется, лишь вероятно могли быть такими. Одной из первых после осознания людьми каменного века идеи богов как сверхъестественных сущностей.
Встав с колен, братья взяли в руки топоры и решительно направились к лежащему кверху дуплом бревну. Прежде всего они отсекли торчащие сучки и отрубили комлевую часть бревна с остатками корней. Затем, расположившись по разные стороны бревна, приступили к вырубке-выдолбке большого дупла, но тут дело стало продвигаться гораздо медленнее. Оказалось, что обычные топоры плохо годились для выборки древесины из глубины дупла. Братья уже изрядно утомились. «Однако тяжеленько! – сказал Вышата, отирая пот с лица. – Давай-ка отдохнём, брат, посидим малость, поедим, да подумаем, как выборку пошибче делать».
Трапеза ещё продолжалась, а Гудой вдруг перестал есть и замер, глядя неморгающими глазами в одну точку. «Эй, ты чего?» – испугался за брата Вышата.
Наконец Гудой, вздрогнув, посмотрел на Вышату и изрёк:
– Слушай, брат, а что, если топор закрепить не так, как обычно, а поперёк рукоятки?
– Это как же?
– А вот так!
И с этими словами Гудой взял один из припасённых топоров, перерезал ножом ремень-перевязь, которым топор крепится к топорищу, взял новую перевязь и стал крепить к топорищу топор так, что лезвие топора стало располагаться не вдоль топорища, а поперёк его. Сделав последний оборот перевязью вокруг рукоятки и закрепив её особым узлом, Гудой со словами: «Вот и всё», подошёл к будущей долблёнке-однодерёвке, опустил свой переиначенный топор в дупло, до его ещё не глубокого, неровно изрезанного донца, и, поначалу как-то робко, приноравливаясь к непривычному новому инструменту, но чуть погодя уверенно и ловко, стал делать то, что плохо получалось раньше. «Ну-ка, подойди, посмотри». – Позвал старшего брата младший.
Вышата, не торопясь, дожевал остаток вяленого мяса с кусочком хлеба, сделал несколько глотков холодной родниковой водицы из кожаного бурдючка, встал, стряхнул с себя широкой ладонью приставшие хлебные крошки, подошёл к Гудою, остановился рядом и стал рассматривать, что у него получается. А получалось вот что: после каждого короткого взмаха и удара этим новым топором его лезвие, проходя плашмя вдоль донца, врезалось в древесину, подрезало и отрывало тонкую, но довольно крупную щепу, оставляя за собой ровную и гладкую поверхность. Одним словом, получалась отёска, какую можно делать обычным топором, но только в доступных местах. «Ну, что, брат, ты молодец – толково придумал! С таким поперечным топором теперь тесать-выдалбливать будет много сподручнее, а коли так, давай назовём его “тесло”».
Теперь дело у братьев пошло куда быстрее, и до сумерек дупло было готово уже более чем на треть.
…Через два дня, когда работа была уже близка к своему завершению, Вышате пришла в голову мысль, которой он сразу же поделился с напарником:
– Вот я о чём подумал, брат. Делаем мы с тобой однодерёвку-долблёнку, так? Это ведь не плот! Значит, должны у неё иметься передок с задком. А коли так, то ведь должны они различаться. Что скажешь?
Гудой запустил пальцы обеих рук в густые, цвета воронова крыла, волосы на лобастой голове и по своей привычке, взъерошив их, после небольшой паузы ответил:
– Что скажешь? Ты, Вышата, как всегда, зришь в корень! Должны быть и передок, и задок – это верно! А насчёт различья мыслю, что это просто: тот конец, коим наша долблёнка будет двигаться вперёд, стало быть, передок, закосить надобно так, чтобы не тупо в воду врезался, а плавно в неё входил. Ну а другой конец, стало быть, задок, пущай как есть останется, как бы родительский унаследует от бревна. А ещё, брат, вот чего я надумал: донце-то у нашей долблёнки получилось толстовато к серёдке. А чтобы не была она слишком вёрткой на воде надо сделать ровный протёс вдоль всего дна снаружи. Согласен?
– Согласен! Это все твои мысли, брат?
– Все.
– Ну, коли так, то и ладно! Давай завершать.
– Давай.
Закончив работу, братья решили сразу же свою однодерёвку-долблёнку испытать. Подняв её на руки, они обнаружили, что она гораздо легче бревна, из которого была сделана. Они без труда занесли долблёнку в реку, опустили на воду и уселись в неё сами. Долблёнка сначала довольно сильно кренилась из стороны в сторону, затем успокоилась и лишь слегка покачивалась на плавной волне, поднятой самими братьями, которые в этот момент глядели друг на друга и, довольные собой, улыбались. Посидев так немного, Гудой посерьёзнел лицом и спросил:
– Мы, конечно, с тобой молодцы, а как долблёнку двигать-то будем? Может, шест принести?
– Скажешь тоже. Какой шест? Мы для чего всё дело-то затевали? Чтоб без шеста плавать!
– Ну и как же?
– Пока я и сам в толк не возьму – как. Погоди-ка, погоди, Гудой. А вот ведь, чтоб плот двигать вперёд, что мы шестом-то делаем? Упираемся им в дно и как бы отталкиваем дно шестом назад, так?
– Ну, так! Только опять к чему ты клонишь, не смекаю я. Шеста же нам не надобно!
– А вот к чему, брат. Ежели мы не можем отталкиваться от дна, то давай попробуем оттолкнуться от воды.
– Чем же мы будем отталкиваться?
Вышата хитро посмотрел на брата, сморщил, улыбнувшись, нос и сказал: «Да вот этим».
Старший поднял ладони и покрутил ими перед лицом Гудоя, затем развёл руки в стороны и, опустив ладони в воду, стал ими отталкивать воду себе за спину к задку долблёнки, которая сначала медленно, потом чуть быстрее поплыла вперёд. «Давай, брат, делай, как я», – сказал Вышата. Гудой также стал ладонями отталкивать воду себе за спину, и долблёнка-однодерёвка, почему-то остановилась. Братья переглянулись, всё поняли и рассмеялись молодецким гоготом. Отсмеявшись вволю, Гудой осторожно, так, чтоб не опрокинуться, развернулся спиной к Вышате, и братья продолжили своё первое плавание на сделанном ими судёнышке, проталкивая воду к его задку одновременно, в четыре ладони. Дойдя до середины реки, решили возвращаться, и тут им в головы неожиданно пришла догадка, что для поворота надо продолжать грести ладонями только с одной стороны. Благополучно завершив испытание, братья вытащили лодку на берег и отправились уведомить старейшин рода о том, что ими было задумано и сделано.
Вот так могла быть изобретена первая лодка, которую поначалу называли однодерёвка-долблёнка, позже у неё появилось имя – плоскодонка, и была она сначала безвёсельной. А вот почему и как было придумано весло, я расскажу в следующей истории.
История седьмая – о том, почему и как было изобретено весло

Вождь племени вранцев именем Ярый имел прозвище, данное ему уже в зрелые годы за силу, храбрость и лютость к врагам, Тур, но среди соплеменников, да и в иных племенах больше известный как Яр-Тур, был к тому же удивительно умён и дальновиден. Узнав от своих ближних людей о невиданной придумке братьев Вышаты с Гудоем, пожелал увидеть своими глазами как братьев, так и их придумку. Увидев же, немало подивился, нарёк братьев умельцами, объявил им, что берёт их на племенной кошт и поручает «взять помощников в выучку да сделать столько сих однодерёвок-долблёнок, сколь смогут за три лета».
Обрадованные и воодушевлённые таким интересом к их придумке вождя братья с большим куражом взялись за исполнение его поручения: они спешно нашли себе помощников, подыскали в лесу поближе к реке подходящие деревья, пометили их для последующей валки. В общем, пошло дело ходом!
К закату осени, к началу холодов на берегу под кроной той самой ивы рядком лежали с десяток однодерёвок-долблёнок, похожих друг на друга, как родные сёстры, когда сразу видно – одних отца с матерью дети, но всё-таки, если присмотреться, разглядишь и разницу. Лодки не случайно там лежали. Ещё когда стояли жаркие дни, один смышлёный помощник заметил на готовой долблёнке кое-где трещины и, сообразив, что появились они от солнца, пересушившего древесину, предложил братьям держать готовые долблёнки в тени. Но прежде чем каждая из лодок занимала своё место в ряду готовых, Вышата с Гудоем проверяли их на воде, проплывая на них по большому кругу.
Вот и сегодня предстояло очередное испытание. Новая лодка уже была отнесена помощниками к реке и опущена на воду таким образом, чтобы нос, а именно так братья стали называть передок своих лодок, оставался на береговой песчаной отмели. Гудой первым залез в лодочное дупло, Вышата же, столкнув однодерёвку с отмели, легко впрыгнул за братом, и они привычно вместе стали загребать ладонями.
– Да чего холодна вода-то нынче, – сказал старший брат.
– Да, студёна водица, – подхватил младший, – аж пальцы заломило.
– Так и простыть недолго, – продолжил невесёлый разговор Вышата, – давай-ка, брат, поворачивать назад к берегу. Тут надобно опять думать.
Сказано – сделано! Братья развернулись, причалили к берегу и, приказав своим помощникам заканчивать на сегодня работу, направились к своей хижине. Впереди, как всегда, шёл Вышата, шагая вразвалку и сильно отмахивая руками. Гудой же, уступавший брату ростом, поспешая за ним, мерил дорогу длинными, с лёгким подскоком, шагами. Шли они таким обычным манером и думали каждый о своём, хотя нет! Сейчас их заботило одно и то же. Родная хижина, где их ждала-дожидалась матушка, была уже близка. «Постой-ка», – окликнул брата Гудой. Вышата остановился и, полуобернувшись к брату, спросил:
– Чего тебе?
– Да вот тут у меня сейчас кой-какая мыслишка промелькнула.
– А, мыслишка – это хорошо, давай огласи.
Гудой же, вместо того чтобы приступить к оглашению мысли, подошёл вплотную, потом зачем-то обхватил своими пальцами братово запястье. Вышата невольно напрягся.
– Да не боись ты, брат, руку-то расслабь, расслабь, говорю.
И глядя на предплечье руки брата, Гудой стал ею двигать, не отпуская запястья, взад-вперёд, взад-вперёд. Всё это, конечно, не могло не показаться странным Вышате. Он всё-таки вырвал свою руку и спросил: «Э, да ты, братуха, случаем, не того?», красноречиво покрутив пальцем у виска.
– Нет, Вышата, у меня всё ладом!
– Ладом, говоришь. Ну, коли так… А мыслишкой-то своей будешь делиться?
– Нет, брат, сейчас не буду. Потерпи до утра. Утром, давай утром.
– Ну, коли так, то и ладно!
…Поутру, когда Вышата досматривал последний и самый сладкий сон, его разбудил улыбающийся во весь рот Гудой.
– Ну, чего те? – недовольно буркнул Вышата.
– Просыпайся, брат. Мне же надо выполнить своё обещанье.
– Аааа, – протянул, зевая, старшой, – коли так, слушаю тебя.
Гудой же, не говоря ни слова, вытащил из-за спины и протянул брату две вырезанные из дерева раскрытые ладони, переходящие в запястья с узкими предплечьями.
– Вот тебе, брат, моя обещанная мыслишка. Будем теперь деревянными ладонями воду толкать – руки не застудим!
Вот таким образом могло быть изобретено то, что в дальнейшем получило название «весло».