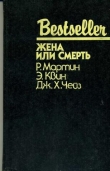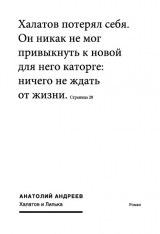
Текст книги "Халатов и Лилька"
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
4. Теперь ближе к раю
Халатов продолжал гостить у Тамары, и в душе его укреплялось ощущение неестественности и в то же время фатальности происходящего.
Он чувствовал, что поневоле оказался втянутым в какой-то нечистый духовный эксперимент, смысл которого был еще не вполне ему ясен, но роль, ему предназначенная, никак не могла его устроить. Тамара ни в чем не ограничивала его свободу, никак не стесняла его, но день за днем и час за часом врастала в него так, что он со страхом ощущал: если он ее бросит – Тамару может ждать финал Подвижника. Она гениально умела растворяться в другом.
Позиция Халатова – не говорить ни да, ни нет – все более и более угнетала его. «Черт знает что», – крутилось у него в мыслях, когда она подавала ему утром славно заваренный и в меру настоявшийся чай. Цейлонский среднелистовой засыпался в пол-литровый фарфоровый чайник, предварительно ошпаренный крутейшим кипятком (полторы средних размеров чайной ложки на чайник, с некоторым тонко прочувствованным недоливом), укрывался специально скроенным пушистым колпаком (роль такого колпака выполняла кошечка, забавно становящаяся беременной всякий раз, когда ее бархатистая шкурка облегала чайник) – и минут через 8-10 вы мирно наслаждаетесь великолепным напитком. Завтрак должен длиться не менее получаса – только тогда незамысловатая чайная церемония доставит вам удовольствие, от которого вы не сможете отказаться потом всю жизнь. При этом выпиваете все до капли, постоянно подливая в полупорожнюю чашку (размер которой – 150–200 граммов) чай, вкус которого становится все более крепко выраженным.
С бутербродами проще. Поджариваете в тостере два-три ломтика (не очень толстых) пышного батона, испеченного из твердых сортов пшеницы, масло (не маргарин, боже вас упаси, и без растительных добавок), сыр сычужный типа «Российский», сырокопченая колбаска на коньяке «Советская», мед или, на худой конец, джем с кислинкой. Вот, пожалуй, и все.
Строго говоря, Халатов не рассматривал свой рецепт маленького утреннего счастья как универсальный, как, скажем, пробежку или вегетарианскую диету, и ему явно недоставало глупости и самоуверенности, чтобы рекомендовать его абсолютно всем с чистым сердцем, однако его не слишком элитный цейлонский вызывал неизменный восторг у редких друзей и случавшихся подруг, среди которых Халатовский чай пользовался репутацией неподражаемого. Хозяин пожимал плечами и считал про себя, что весь секрет заварки чая в том лишь и состоит, чтобы вложить в процесс немного души. А душа в данном случае имеет вполне материальные параметры: это исключительное внимание к скрупулезным технологическим мелочам.
Какая разница, казалось бы, обдали вы крутым кипятком фарфор или нет? Если тщательно обдали – чай «задышит», если нет – будете наслаждаться бурого цвета пойлом, как в лучших домах.
Полторы ложки или чуть больше?
Большая чайная ложка или маленькая?
Разница ощутимая. Вкус на выходе не тот. Не тот – и все. Маленькое утреннее счастье, как и счастье вообще, – это вопрос ощущений.
Каково же было изумление Халатова, когда вдова Подвижника, пившего по утрам исключительно крепкий кофе и помешанного на яйцах всмятку (умело сварить которые – тоже целая наука), освоила его «неподражаемое» искусство за два-три сеанса, ни о чем ни спрашивая и ничего не уточняя, просто внимательно наблюдая за неторопливыми манипуляциями Владимира Андреевича. Переселение душ, да и только.
Халатов пил свой чай с бутербродами и тоскливо думал о том, что ему предлагали, по всей вероятности, на выбор две роли: благодетеля, великодушного и многотерпеливого, или палача. Быть лучше, чем ты есть, или быть собой. Даже еще проще: жертвы или палача. Чья-то проблема странным образом трансформировалась в проблему Халатова: оставаться самим собой (что означало de facto исполнить функции палача) или превратиться в жертву, бездарно издохнуть самому. «Черт знает что», – стонало в душе, пока он прихлебывал свой бесподобный чай, безупречно заваренный палачом Тамарой. Его интимнейший продукт перестал быть его, он все делил с этой женщиной, которая готова была умереть ради него – или без него.
Халатов, как все те из людей, кому от природы дано было горькое счастье с годами совершенствоваться, то есть уметь обходиться без иллюзий и не становиться при этом подлее, – Халатов знал уже, что назначение всех пышных фраз на земле – скрывать пустоту или глупость. А от безобидной глупости до иезуитской подлости – рукой подать. Вот гуляет по миру чьей-то, якобы, легкой рукой пущенное: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. И все вокруг готовы прослезиться.
Утрите слезы умиления, господа, и вдумайтесь: для человека с достоинством здесь нет выбора. Это ложная альтернатива. Тот, кто привык жить стоя, с высоко поднятой головой, просто не может жить на коленях; а тот, кто может жить на коленях, просто никогда не жил в полный рост.
Осушите сопли и примите реальность такой, какая она есть. «Лучше жить с Тамарой, чем позволить ей угаснуть без меня». Ничего себе императивчик. Хороша шутка. Или я – или она. Позвольте: но с чего вы взяли, что ей не жить без меня? И что я, навоз какой-нибудь, чтобы мною удобрять почву, на которой должны выживать какие-то другие?
«К черту!» – девизом высекалось у него в мозгу. Выживет и без меня, а я никогда не был и не собираюсь становиться добрым навозом! Бросаю все и ухожу ко всем чертям. По крайней мере, готов уйти. Вон из избы!
Стоп, коллега. Но однажды ты уже бросил трубку. И я не уверен, что это было сделано слишком удачно. Не навреди.
И круг замыкался.
Честно говоря, и это была еще не вся правда. Подленькая сторона правды заключалась в том, что и уходить-то не очень хотелось. Он мало ценил Тамару по одной-единственной причине, если уж на то пошло: она была всегда под рукой. Алмазы, которых много, перестают быть сокровищем; нежность и заботу перестаешь ценить, если они постоянно окружают тебя. С Тамарой было хорошо. Но душа томилась по чему-то другому.
Ладно, мы, люди чести и совести, воспользуемся средством слабых, которого, впрочем, не чураются и мудрые: пойдем на компромисс. На разумный компромисс, допустимый в границах здравого смысла. Я не Подвижник. Я остаюсь.
Но!
Не спешите радоваться. Но, говорю я, остаюсь на время, господа. Только на время. Это мое последнее слово. На сегодня – последнее.
Глядя на свежее, тез тени морщин лицо Тамары, Халатов терзался мыслью, что вся его копеечная внутренняя борьба – открытая книга для ее наблюдательных очей. Сам факт борьбы – выгоден для Тамары, и временный компромисс – выгоден для нее. Это ее победа и его поражение. Клиент созревает, доходит, не так ли, клиент?
И еще его мучила грязненькая мысль, что ее позицию по отношению к себе он истолковывает как заведомо подлую, коварную и предельно опасную для него. Он ни на секунду не допускал простую мысль, что она, живя его бытовыми и душевными потребностями, может жить и его жизненно важными интересами.
Получалось, что его интересы – не в ее интересах. Получалось, что она – враг его, однако она была – хоть к ране прикладывай.
Вот почему утреннее чаепитие завершалось благодарным и немного лицемерным поцелуем: это была и форма извинения за свою, мнилось, оскорбительную недоверчивость.
Может быть, все было еще проще: обретя достаток и покой, Халатов потерял себя. Он никак не мог привыкнуть к новой для него каторге: ничего не ждать от жизни.
Может быть, и так.
Кто знает?
5. Гектор Соломка приступает к делу
Однажды нежарким августовским утром в Тамарину крепость, служившую ей домом, позвонил странного, прямо сказать, подозрительного вида мужчина средних лет в клетчатой кепчонке, делавшей его похожим то ли на преступника, то ли на детектива. У него было настолько простодушное лицо, что людям, мало-мальски знакомым с жизнью, невольно закрадывалась в душу мысль: «Э-э, ну и хитрющая же ты бестия, братец!» Впрочем, многие принимали эту простоту за чистую монету.
– Одну секундочку! – заверещал незнакомец в кепке, привлекая внимание свежей молодой женщины без косметики на лице, в которой читатель без особого труда узнал бы хозяйку дома. В ее взгляде и осанке присутствовала та ненаигранная уверенность, которая отличает состоявшихся в жизни людей, а также людей отчаявшихся. Неторопливой походкой, которой нельзя было не залюбоваться, она подошла к прочной решетчатой калитке и вежливо сделала внимательное лицо.
– Гектор Аристархович Соломка, – интимно представился мужчина, приподнимая кепку жестом, которым обычно снимают шляпы голливудские джентльмены и, еще более понизив голос, добавил:
– По особо важным делам, следователь.
Правая рука его нырнула во внутренний карман кожаной курточки и замерла, ожидая, понадобится ли соответствующий документ. Тамара повела бровями – и рука взлетела у нее на уровне глаз. Бордовая книжица щелкнула и скрылась в ладони. Все было исполнено очень эффектно и могло обескуражить кого угодно. Во всяком случае, самому Гектору Соломке весьма понравилось начало знакомства с дамой, которую хотелось ощупывать взглядом.
– Честно говоря, я ничего не разобрала. Но это неважно. Проходите в покои. Можно на террасу, если не боитесь свежести.
– Крохотную секундочку! – заинтонировал Гектор. – Потеря бдительности – это уже почти преступление. Я показываю удостоверение еще раз, – протянул он тоном магистра черной магии.
– Уверяю вас, в этом нет необходимости. Вы ведь по делу, гм, да, по делу Подвижника, не так ли? Ну, разумеется. Я – Тамара Божо. Чем могу быть полезна? Зачем я вам нужна? Присаживайтесь.
– Вы вдова? – уточнил Гектор, закидывая ногу на ногу и располагаясь в плетеном кресле.
– В каком-то смысле. Мы не были женаты. Точнее, мы не регистрировали наш брак.
– Понимаю, – многозначительно обронил Соломка, пронзая даму взглядом. – Ваш брак был гражданским.
– Вот именно.
У Гектора Соломки было круглое кошачье лицо с усами несколько длинноватыми для его жесткой щетины. Усы непримиримо торчали, придавая физиономии воинственный и одновременно, увы, глуповатый вид. Гектор пытался смотреть на собеседника сверху вниз, что при его скромном росте было весьма непросто. «Одну секундочку!» – двигал ощетинившимися усами «важняк» Соломка, откидывая голову назад и округляя глаза. Собеседник словно бы съеживался, и Гектор получал необходимое психологическое, и даже физическое превосходство. Наполеонистая осанка полнеющей фигуры вкупе с уверенным выражением кошачьего лица были главным козырем детектива. Он считал, что, будто громовержец, пронзает своего визави испепеляющим взором и не давал тому ни единого шанса сокрыть хотя бы тень правды. Он был убежден, что все читает на лицах шельмецов и прохиндеев, хотя читал почему-то всегда одно и то же: виноватую улыбку и опущенные, скрывающие что-то глубоко личное глаза. Короче, у мошенников бывало такое выражение, какое набегало на физиономию самого Соломки, когда он пытался заговорить с понравившимися ему женщинами, не находящимися под следствием и вполне невиновными.
Вот и сейчас улыбка явно смягчала взор, но тут на террасу явился Халатов в шлепанцах и с яблоком в руке.
– Одну секундочку! – насторожился Соломка, и за этим последовала минутная пауза. Он, очевидно, состоял из противоречий и давал понять, что вовсе не так прост, каким хотел казаться.
– Добрый день, – вяло отреагировал Халатов, стараясь понять и ощутить, что же вкладывают поэты в смутную метафору «осенью повеяло». – Уж реже солнышко блистало, вы не находите?
– Вы кто? – перехватил инициативу Соломка, откидывая голову, и рука его потянулась во внутренний карман. Халатов не глядя ткнул указательным пальцем в сторону Тамары, словно произвел беззвучный выстрел. Гектор перевел на нее глаза.
– Пока мы не расписаны, – сказала она, явно любуясь своим сожителем. – Владимир Андреич Халатов, писатель.
– Который отчего-то перестал писать… – невежливо, жуя яблоко, сообщил Халатов.
– Майор Соломка, – также неучтиво пробурчал детектив и, не дав опомниться, четко с расстановками произнес:
– В деле вскрылись новые обстоятельства.
И хлопнул ладонью по столу.
В возникшей паузе было слышно лишь, как с треском надкусывает яблоко писатель. Соломка встал, прошелся к перилам террасы и, стоя спиной к незарегистрированной паре, доложил:
– Показания, которые вы, Тамара Георгиевна, в свое время дали капитану Волчкову Ж.Д., следователю Московского РОВД столицы Беларуси, оказались неполными. Одну секундочку: а может, и неверными.
Тут Соломка, словно матадор, лихо развернулся через левое плечо и округлил глаза.
– Вот как, – лениво произнес Халатов. – Что же там случилось: Подвижник промахнулся или убили вовсе не его? Что это за новые обстоятельства, позвольте полюбопытствовать?
Соломка максимально закинул голову назад и произнес поучительным тоном на манер «лошадь должна кушать свое сено», напоминающим тон ректора милицейской Академии:
– Писатель должен писать, а не рассуждать. Раскрыть преступление – это вам не историю души выдумывать. Тут факты, а не вымысел, решают все. Факты – чрезвычайно упрямая вещь. Исключительно упрямая, упрямее логики и веселее остроумия, – напирал Гектор.
– Какие, к лешему, факты? – тоном, уважающим работу следователя по особо важным делам, вопросил Халатов. – Мы просто обескуражены, майор. Легкий шок, знаете ли.
– Факты таковы. Одну секундочку! (Минутная пауза.) В ночь, когда произошло, гм-гм, са-мо-у-бий-ство, а именно: в ночь с 13 на 14 июля 2001 года, последним человеком, видевшим покойного гражданина Подвижника, была… были вы, Тамара Георгиевна.
– С чего это вы взяли, Гектор Аристархович?
– Факты-с. Показания свидетельницы.
– А именно?
– Гражданки Обольцовой Лилии… запамятовал отчество, проходящей также свидетельницей по делу об убийстве гражданина Греции Левона Бабаяна. Лилия Андреевна, 1976 года рождения. Рост…
– И что эта гражданка показала?
– В ночь, когда произошло, гм-гм, са-мо-у-бий-ство, а именно…
– Гектор Аристархович!
– Точность в деталях превыше всего. Издержки профессионализма… Подвижник был у Обольцовой в этот злополучный вечер. Потом ушел. И его встретили вы, гражданка Божо!
– ???
– Обольцова видела, как вы его встретили на неосвещенной стороне улицы.
– Сторона ведь была не-ос-ве-щен-ная…
– Вы схватили гражданина Подвижника за рукав, а он, цитирую по памяти, «вышвырнул ее на свет и опять затащил в темень». Обольцова вас узнала. Она видела вас. Потом, вы, Тамара Георгиевна, удалились вместе с Подвижником, ныне покойным, быстрыми шагами. В направлении Троицкого предместья.
– Какой ужас… Вы просто ледените мне душу. Ну и что?
– В показаниях, записанных с ваших слов капитаном Волчковым Ж.Д., сказано, что вы весь вечер были у подруги…
– Я и была у подруги. У подруги покойного Подвижника ныне здравствующей Обольцовой, опознавшей меня в тот злополучный вечер.
– Одну неторопливую секундочку! Тут указана другая подруга…
– Гектор Аристархович! Гражданин Соломка! Отважный следователь! Это все невнятные опечатки. Разве могут они изменить суть дела? Разве вернут они Подвижника? Нет, не вернут они нам Вольдемара. К чему теперь рыданья?
– Но это еще не все упрямые факты.
Соломка определенно преуспел в искусстве привлекать к себе внимание. Его выпученные глаза и ощетинившиеся усы буквально заворожили Халатова с Тамарой. Они напряженно ждали сенсации.
– Об остальном мы поговорим в другой раз. И в другом месте, Тамара Георгиевна. Жду вас к себе в гости, в мой кабинет, так сказать, с ответным визитом. Одну секундочку! Моя визитка. Завтра к десяти, будьте любезны. Всего наилучшего. Творческого, кипучего вдохновения, господин прозаик.
Походка и осанка майора не оставляли никакого сомнения в том, за кем осталось поле боя после первого раунда.
Тамара с Халатовым переглянулись. Что ожидало их завтра?
Кто знает.
6. Лилька, дорогая…
Дважды приятный женский голос вежливо отвечал, что абонент временно недоступен, а в третий раз еще более впечатляющий грудной тембр произнес чудную фразу:
– Я вас слушаю.
У Халатова пересохло во рту, он замялся с ответом, и его поторопили:
– Алло-о! – Вежливо и мелодично.
– Добрый день, Лилия Андреевна!
– Так меня называет только Гектор Соломка. Вы мне от него привет хотите передать?
– Не совсем. Это Владимир Халатов.
– И что же? Мне ваше имя ни о чем не говорит.
– Да, да, я понимаю. Я писатель, подходил к вам на кладбище… Помните?
– Ах, тот интересный мужчина с голубыми глазами… Мне показалось, что вы слегка близоруки.
– Совершенно верно. То есть не то верно, что я интересный мужчина, хотя мне лестно это слышать, а то, что я слегка близорук. Но ваши васильковые глаза я успел разглядеть.
– Перестаньте скромничать, Владимир Халатов. Вы пялились на меня так, что брат Левона, Тигран, устроил мне сцену ревности.
– Виноват, но глазам, зеркалу души, не прикажешь.
– А теперь хватит словоблудить. Верю, что вы писатель. Что вам от меня нужно, воплощение скромности и, надеюсь, бескорыстности?
– Вы знаете, я подумал и решил, что вы, пожалуй, правы: я действительно интересный мужчина. Какой такт, как любезно с вашей стороны было обратить на это внимание. А мне почему-то удаются только сомнительные комплименты.
– О, примите мой комплимент за блистательный афоризм. Браво, коллега!
– Спасибо. Я окончательно убежден, что у вас хороший вкус. Только вот «коллегой» вы меня несколько озадачили.
– Дело в том, что я сейчас тоже пишу. Завещание. Нахожусь в процессе. Муки творчества и все такое…
– Я вас понимаю. Все мои романы тоже в каком-то смысле завещание…
– И вам есть что завещать? «Памятник нерукотворный»?
– А вам?
– Два дома, яхта…
– О-о, тогда я срочно перехожу к делу, поскольку ничтожная цена высоких слов вам хорошо известна. К тому же мне позарез необходимо переговорить с вами до того, как завещание вступит в законную силу.
– Переходите, коллега, типун вам на язык.
– Поймите меня правильно: нехорошо так говорить, но мне кажется, что только вы можете меня спасти. Фу, черт. Представляю, как это глупо звучит в трубке. Из уст писателя.
– Вы что же, о любви меня просите? Резвость какова!
– Нет-нет, не смею. Только о встрече. О любви просить бессмысленно. И добиваться ее глупо, как мне подсказывает печальный опыт. Ни то, ни другое вам не грозит. Выпрошенная у вас любовь меня не интересует.
– Да, с комплиментами у вас туговато. Не разгонитесь. Тема нашей беседы во время предполагаемой встречи?
– Любовь Вольдемара Подвижника к вам. Только не бросайте трубку! Мне без вас не разобраться в одном щепетильном деле… Очень важном для меня. Пожалуйста.
После паузы – ровный деловой голос:
– Завтра в десять вас устроит?
– Где?
– У памятника Пушкину, где ж еще?
– У вас просто изумительный вкус.
– Это уже не вкус, а чувство юмора. Боюсь, черного.
– Согласен. У вас по-прежнему пепельный цвет волос?
– Вообще-то в Европе это называется платиновая блондинка. Спасибо за комплимент. Но вы где-то правы. Угадали с оттенком. Первый раз слышу о себе такое. Все считают меня обычной блондинкой.
– Как можно! Вы совершенно особенная! А у южан ведь все, что светлее вороньего крыла, – уже блондинки.
– Согласна, ха-ха! А вы занятный господин. Придется спасать вам жизнь. А то пропадете ни за грош со своим остроумием. К тому же совесть моя не отягощена пока еще ни одним благодеянием.
– Спешите делать добро, Лилия Андреевна. Вы ведь вдова, насколько я понимаю?
– Вдова. Соломенная. Впрочем, и жена я была тоже соломенная. Ненастоящая. С пепельным оттенком.
– Это только подчеркивает прелесть ваших васильковых глаз.
– До завтра, писатель. А то вас не унять. Ну, надо же: обозвать даму пепельной. Мерзость какая. Словно старуху.
– Я имел в виду нечто соломенное…
– Если вам удаются только сомнительные комплименты – значит, вы не уважаете людей. Чем вы меня и заинтересовали. Принесите мне что-нибудь из вашей захватывающей завещательной прозы.
– Готов сделать это сегодня же вечером. В неповторимом авторском исполнении…
– Лучше завтра утром. Утро вечера мудренее.
– Утро светлее и пепельнее…
На следующее утро на набережной Свислочи, неподалеку от того места, где взволнованный Халатов изо всех сил ждал Обольцову, стоял такой отчаянный и бессмысленный шум, какой даже и не всегда бывает на похоронах Далай Ламы: то юные суворовцы-кадеты слаженно выбивали души из барабанов и гремели медью литавров и фанфар. Никто не знал, что происходит: то ли очередной государственный праздник, то ли репетиция какого-нибудь юбилейного парада. И то, и другое время от времени случалось в городе с какой-то неуловимой ритмичностью.
– Что все это значит? – прокричала в ухо взбудораженному Халатову Лилия, которая выросла перед ним будто из-под земли ровно в десять ноль-ноль, как и положено на деловом свидании. Халатова обдало волной нежных духов с горчинкой. Запах непостижимым образом гармонировал с точеной фигурой в белых брюках и светло-сером жакете.
– Ого! – сказал Халатов, глядя на Обольцову и вознося руки к небу. В левой руке был зажат уже известный читателю роман «Для кого восходит Солнце?»
– Это что, опять ваши странные комплименты?
– Скорее всего – да. Крик души.
– Какая-то душа у вас нечленораздельная, мычащая. Му-му, ого…
– Так ведь душе и положено слегка темнить. Кто знает, чего она хочет, эта душа, женского рода и единственного числа? Потемки, однако. Какая же вы все-таки леди! Лили! Ой-люли! Чокнуться можно. Одно слово: Обольцова!
– Каскад и фонтан. Остыньте. Вернитесь на землю. Думаете, для вас старалась?
– Хотелось бы надеяться. Но я вам вот что скажу: если особенно стараться не для кого, и вы станете утверждать, что старались для себя – не поверю. Вот хоть режьте меня на семнадцать, нет, на все восемнадцать кусков – а я вам не поверю. Ваши прелестные глаза соврут.
– Выходит, для вас старалась?
– Выходит – так. Не отпирайтесь, я прочел. Да вы не расстраивайтесь, я вас не разочарую.
После топота и грохота наступила обвальная тишина, которую они не сразу заметили.
– Это нас приветствовали медные трубы. В честь нашего знакомства гремел оркестр и орали архангелы. Куда это они испарились? Я еще не вполне насладился.
– Ну, познакомились мы, положим, еще на кладбище…
– А вы верите в эти дурацкие символы? Кладбище, оркестр…
– Я такая дура, что верю только в то, что приносит несчастье.
– Есть такой синдром. Называется «не замечать солнце». Редкий талант превращать все во тьму. Придется и мне спасать вас, тогда мы будем квиты.
– Но сначала моя очередь. Я готова помочь вам. Излагайте свою просьбу.
Халатов почтительно поцеловал ей руку, а потом, словно на исповеди, рассказал ей все без утайки, все, что он знал и думал о Вольдемаре Подвижнике и Тамаре Божо. Ему самому эта история стала казаться дикой и нелепой. Роль, которую он в ней играл, казалась ему теперь недостойной, чтобы не сказать унизительной. Остался при бабе, надеясь на неземное вдохновение и везение…
Короче говоря, все стало представляться ему в новом свете.
Он делал паузы, ловил ее взгляд и не находил в нем насмешки.
Говорил он долго. Когда монолог был закончен, он вдруг ощутил на своей руке ладонь Обольцовой.
– Я тоже выбрала то, чего не выбирала. Я понимаю тебя. То, что она подсыпала тебе в вино, называется… В общем, это особого рода пилюли, которые вызывают галлюцинации, гипнотическое воздействие, потерю памяти, провалы в памяти или, наоборот, обретение давно забытых ощущений, аккумуляцию творческой энергии…
– И не только творческой…
– И не только творческой. Все это атрибутика спецслужб или шаманов-шарлатанов. Чудеса в каждый дом. Меня мой Левон пичкал какой-то дрянью, чтобы я рассказала ему, с кем я изменяю или собираюсь изменять. Даже свои ощущения, возникающие при мастурбации, я ему выкладывала, даже как ненавижу его, боюсь и потому, мне казалось, люблю. Все мои ощущения представлялись Левончику верхом разврата. Смех один. Я и сейчас еще зеленая девчонка…
Я думаю, что Тамара сама прошла через эту… терапию. У Вольдемара была идея фикс: с помощью таблеток попытаться прививать особое мировоззрение, формировать особый склад ума, корректировать взгляд на мир. Понимаешь, он искал способ улучшения человеческой породы на химическом, генетическом, духовном – любом – уровне. Нынешнюю популяцию людей он считал вырождающейся, стремительно деградирующей. Люди, как ему казалось, перестали быть достойны тех идеалов, которые сами же и породили. Целые расы он считал планктоном, не способным жить в человеческом, то есть духовном, идеальном измерении. Вот он и поставил эксперимент на себе. Хотел стать идейным реформатором, человеком, прокладывающим трассы в будущее. А превратился в лишнего. И Тамарку пытался втянуть. Не знаю, что у него из этого получилось.
– По-моему, ничего не получилось. Людей, мне кажется, не переделаешь.
– А знаешь, что подкосило этого монстра? – в ее глазах впервые за время их знакомства запрыгали милые чертики.
– Знаешь? Любовь!
И она звонко рассмеялась.
– Столько бреда, всякой чуши – и вдруг все разлетелось в пух и прах. И это я внушила такую любовь, представляешь? Умора!
Она смеялась, закрыв лицо руками.
– Грустно как-то все, – подытожила Лилия, бережно вытирая слезы под глазами. – Один меня любил – и трясся надо мной, как над любимой драгоценной вещью. «Будыш имэт все, што захочыш…» Сейчас я знаю, чего хочу: я хочу свободы. Ты не представляешь себе, как я стала ценить свободу. Другой во мне какие-то смыслы жизни искал. А я как была несчастной бабой, так и осталась.
– Зачем же ты уехала с Левоном?
– Да он мне проходу не давал. Мне казалось, грех не оценить такую самоотверженную любовь. Со временем, я думала, сама полюблю. А через год серым волком завыла. Да было поздно. Я была княжной, только жила в клетке. Чижик-пыжик, а не княжна.
Раздались мелодичные трели мобильного телефона.
– Слушаю вас, – сказала совершенно ровным, другим тоном Обольцова. – Алло-о!
На монолог того, кто звонил, она ответила искренне и устало:
– Тигранчик, я свободная женщина, я никому ничего не должна, и не надо меня опекать.
Потом она выслушала возражения и отстрелялась простыми репликами:
– У меня свидание. Конечно, с мужчиной. Да, он мне нравится. Что-то в нем есть. Не знаю. Не думаю. Поживем – увидим. Я тебе сама позвоню.
Они сидели на том самом месте, на котором Халатов сидел когда-то с Вольдемаром. Читатель избавит меня от необходимости еще раз описывать это удивительное место нашего славного города, хотя я сделал бы это с большим удовольствием. Даже один и тот же стог сена мог быть сюжетом для разных картин импрессиониста Монэ; отчего бы великолепной панораме не побыть хотя бы разным фоном? Пейзажи нынче не в моде, а со временем, в которое живешь, приходится считаться. Изымем пейзаж. Не будем отвлекаться от действия. Хотелось бы только добавить, что дымчатые краски августа делали описанную в начале романа картину еще более поэтичной, почему-то грустной, в воздухе словно витала вялая паутинка пронзительной печали. Дело, напомним, клонилось к осени.
Халатов и сам не мог бы объяснить, как так получилось, что он, поддаваясь грустному очарованию, уверенно привлек к себе Обольцову и нежно, очень продолжительно поцеловал.
– Тут же люди, – сказала его дама, распрямляя складки жакета.
– Ты же знаешь, мне на них наплевать.
– Ужас какой-то, – ничуть не испугалась Обольцова и с какой-то тревогой заглянула ему в глаза:
– Халатов, что происходит? Играют оркестры, ты меня целуешь, мне это до безобразия нравится… У меня голова кругом.
– Спокойно, княжна, это любовь, чувство, которое убивает дураков и возвращает к жизни людей приличных, симпатичных и пепельных…
– Мне…
– Одну секундочку! – выкатил глаза Халатов и тут же припал к губам Обольцовой. Пока они целовались, верхняя пуговица жакета оказалась расстегнутой.
– А меня ты уважаешь, Владимир Халатов?
– Само собой, миледи. Но если бы ты знала, какая у тебя грудь, ты бы меня легко простила.
– Ну и?
– Ты о чем?
– Какая у меня грудь, Халатов?
– Мне чуть-чуть мешал бюстгальтер, но ощущения самые благоприятные. Это же надо, чтобы такая упругость сочеталась с потрясающей формой… Похоже на Пик Коммунизма. Есть такая вершина на Памире, крыше мира.
– Большая что ли?
– Как тебе сказать… Ого! Пиковая дама! Ты не поймешь, но поверь мне: я всю жизнь искал тебя. Ты лучше, чем те блеклые иконы, которые я до сих пор видел или выдумывал в своих замечательных романах.
– Мне страшно, Халатов. По крайней мере, не смешно.
– Знаешь что? Мне хочется называть тебя Лилька. Халатов и Лилька – здорово сочетается. Как лед и пламень.
– Ужас какой-то. То пепельная, то Лилька, то лед, то пиковая ведьма… Вы большой мастер комплиментов, мсьё Халатов. Но вам пора к царице Тамарке. Кстати, у нее, полагаю, грудь не хуже.
– Хуже, значительно хуже. Несколько дюймов перебор. Вот почему я к ней не вернусь. И не проси.
– Ты меня сравниваешь с какой-то Тамаркой. Фи! Как тебе не стыдно, писатель. Тебе не стыдно?
– Стыдно, еще как стыдно, – шептал Халатов, поглаживая и обнимая неизвестно откуда свалившееся на него светлое сокровище. Он не мог от нее оторваться.
– А хочешь посмотреть мою грудь?
Сами понимаете, такое можно было сказать только темной ночью и только вдали от набережной, где медленно и нескончаемо тянулись пара за парой.
Халатов с Лилькой оказались в самом конце парка, где круто загнутый берег Свислочи не освещался уже фонарями, имеющими особо прочное стекло – антиварварскую защиту от бородатых молодых людей интеллигентного вида, больших любителей пива. Страстной парочке светили только звезды и большая грустная луна.
В сырой и влажной траве было прохладно, но они согревали друг друга горячими телами. Влюбленные совершали уже второй или третий круг любви, и все никак не могли утолить свою жажду. Халатов сразу поверил в то, что у него произошло с Тамарой, но отказывался верить в то, что происходило у них с Лилькой. Он то и дело поворачивал лицо своей возлюбленной к свету луны, и ему казалось, что Обольцова вот-вот станет бесплотной и исчезнет из его объятий. Халатов и не подозревал, что в нем скопилось столько нежности. Лилька лежала, обессиленно закинув руки за голову, а он все никак не мог насладиться ею.
– Я вся измазалась в зелени – это раз; и мы с тобой не предохранялись – это два. Диагноз: сошли с ума, – шевелила Лилька припухшими губами и не отрывала глаз от Халатова, которого мягкий свет луны превращал в какой-то романтический персонаж. – Лечение: полосатые пижамы и бочку брома.
– Нет, Лилька, все не так: я люблю тебя – это раз, и никуда не отпущу тебя – это два. А зелень – это цвет жизни. Диагноз: мы молодцы. Лечение: так держать.