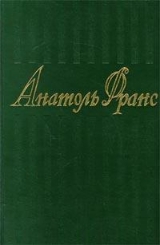
Текст книги "Рубашка"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Глава XI
Сигизмунд Дукс
На следующий день, проходя пешком по улице Конституции в поисках целебной рубашки, Катрфей и Сен-Сильвен встретили выходившую из музыкального магазина графиню де Сесиль. Они проводили ее до экипажа.
– Господин де Катрфей, почему вас не было видно вчера в клинике профессора Кийбефа? И вас также, господин де Сен-Сильвен? Напрасно вы не пришли, было очень интересно. На пятичасовую операцию, прелестное удаление яичника, профессор Кийбеф пригласил элегантнейшее общество, целую толпу и в то же время только самых изысканных людей. Были цветы, красивые туалеты, музыка; подавали мороженое. Профессор был на редкость изящен и грациозен. Он велел сделать снимки для кинематографа.
Катрфей не был особенно удивлен этим описанием. Он знал, что профессор Кийбеф совершает операции в обстановке роскоши и удовольствия. Он попросил бы у него рубашку, если бы за несколько дней перед этим не застал прославленного профессора в неутешном горе из-за того, что ему не пришлось оперировать двух модных знаменитостей: германского императора, которому профессор Хильмахер только что вырезал кисту, и карлицу из Фоли-Бержер, которая проглотила сотню гвоздей, но не хотела, чтобы ей вскрывали желудок, а отпивалась касторкой.
Остановившись у витрины музыкального магазина, Сен-Сильвен предался созерцанию бюста Сигизмунда Дукса и громко воскликнул:
– Вот тот, кого мы ищем! Вот он – счастливый человек!
С бюста, очень похожего, глядели правильные и благородные черты, – одно из тех гармонических и полных лиц, которые напоминают земной шар. Хотя и облысевший и уже старый, великий композитор имел столь же обворожительный, сколь и величественный вид. Его голова округлялась наподобие церковного купола, но несколько грузный нос был посажен с любовной и отнюдь не духовной устойчивостью; подстриженная борода не скрывала мясистых губ и похотливого вакхического рта. Это было совершенно точное изображение гения, создававшего самые благочестивые оратории и самую страстную, самую чувственную оперную музыку.
– Как могли мы не вспомнить про Сигизмунда Дукса? – продолжал Сен-Сильвен. – Он с такой полнотой наслаждается своей славой, что сумел из нее извлечь все преимущества, и он ровно настолько безумен, что не чувствует стеснительности и скуки высокого положения. Как могли мы забыть о самом одухотворенном и чувственном из гениев, счастливом, как бог, спокойном, как животное, сочетающем в своих бесчисленных любовных похождениях изысканнейшую деликатность с самым грубым цинизмом?
– Да, – согласился Катрфей, – это богатый темперамент. Его рубашка может быть весьма полезна его величеству. Идемте же за ней.
Их ввели в зал, обширный и гулкий, как зал кафешантана. Орган, приподнятый на высоту трех ступеней, закрывал часть стены своим корпусом с бесчисленными трубами. Сигизмунд Дукс, в шапочке дожа [28]28
Шапочка дожа – головной убор, какой носили выборные правители купеческих республик Венеции и Генуи в средние века.
[Закрыть]и в парчовой мантии на плечах, был занят импровизацией, и звуки, рождавшиеся из-под его пальцев, волновали души присутствующих и расплавляли их сердца, На трех ступенях, затянутых темно-красной материей, корчилось у его ног множество распростертых женщин. Иные роскошные, иные очаровательные – длинные, тонкие, гибкие, как змеи, или полные, с могучими формами, массивно-пышные, все одинаково прекрасные от любви и желания, все пламенные и разомлевшие. А в зале, составляя одну сплошную трепещущую толпу, колыхалось сборище молодых американок, финансистов-евреев, дипломатов, танцовщиц, певиц, католических, англиканских и буддийских священников, чернокожих принцев, фортепьянных настройщиков, газетных репортеров, лирических поэтов, театральных антрепренеров, фотографов, мужчин, переодетых женщинами, и женщин, переодетых мужчинами, – сдавленных, перемешанных, сплющенных в одно обожающее целое, поверх которого, забравшись на колонны, сидя верхом на канделябрах, подвесившись к люстрам, трепыхались молодые, юркие, благоговеющие поклонники. Вся эта толпа пребывала в упоении; это называлось закрытым утренним концертом.
Орган умолк. Туча женщин окутала маэстро; иногда он полувыступал из нее, как яркое небесное светило, потом снова окунался в нее. Он был ласков, кокетливо-вкрадчив, сладострастен и скользок. Любезный, в меру фатоватый, великий, как мир, и крошечный, как амурчик, он при каждой улыбке обнажал ряд младенческих зубов, скрытых за седой бородой, и говорил всем женщинам простые, изящные вещи, от которых они приходили в восторг, тут же забывая сказанное, – до того оно было легко: поэтому обаяние его слов, усиленное таинственностью, сохранялось во всей своей полноте. Так же приветлив и ласков был он и с мужчинами и, увидав Сен-Сильвена, трижды с ним облобызался и сказал ему, что горячо его любит. Начальник канцелярии не стал терять времени попусту: он от имени короля попросил у маэстро две минуты для секретного разговора и, объяснив в общих чертах, какое важное поручение возложено на него, сказал:
– Маэстро, дайте мне вашу руб...
Он тут же запнулся, видя, как внезапно исказились черты Сигизмунда Дукса.
Шарманка замолола на улице польку «Жонкиль». И с первых же ее тактов лицо великого человека покрылось бледностью. Эта полька «Жонкиль», пользовавшаяся в тот год огромным успехом, была сочинена жалким, полуграмотным, бездарным трактирным скрипачом по фамилии Букен. А маэстро, увенчанный сорока годами славы и любви, не мог допустить, чтобы малая толика похвал перепала на долю Букена; он это принимал как нестерпимое оскорбление. Сам бог ведь ревнив и огорчается человеческой неблагодарностью. Стоило Сигизмунду Дуксу услышать несколько тактов польки «Жонкиль», и ему становилось дурно. Он резко покинул Сен-Сильвена, толпу обожателей и великолепное стадо разомлевших женщин, бросился к себе в уборную и извергнул полный таз желчи.
– Он достоин жалости, – вздохнул Сен-Сильвен.
И, потянув Катрфея за фалды, вышел из дома несчастного музыканта.
Глава XII
Является ли порок добродетелью?
Целых четырнадцать месяцев, с утра до вечера и с вечера до утра сновали они по городу и его окрестностям, безуспешно наблюдая, высматривая и опрашивая. Король, с каждым днем терявший силы и имевший теперь представление о трудности предпринятых розысков, приказал министру внутренних дел учредить чрезвычайную комиссию, возглавляемую господами Катрфеем, Шодзэгом, Сен-Сильвеном и Фруадефоном, и, снабдив эту комиссию неограниченными полномочиями, обязать ее приступить к тайному дознанию о счастливых людях, живущих в королевстве. Следуя указанию министра, начальник полиции предоставил в распоряжение членов комиссии своих наиболее расторопных агентов, и в скором времени счастливые люди стали разыскиваться в столице с таким же рвением и горячностью, как разыскиваются в других странах преступники и анархисты. Стоило только какому-нибудь гражданину прослыть счастливым, как о нем немедленно доносили, и он попадал под негласное наблюдение полиции. По два полицейских агента ночью и днем шаркали грузными, подбитыми железом башмаками под окнами всех лиц, заподозренных в благополучии. За светским человеком, взявшим себе ложу в театр, тотчас же начинали присматривать. Владелец скаковой конюшни, у которого лошадь выигрывала приз, брался на заметку. Полицейский чиновник, сидевший в конторе каждого дома свиданий, отмечал посетителей. Вследствие сделанного господином начальником полиции наблюдения, что добродетель приносит людям счастье, все крупные благотворители, основатели богоугодных учреждений, щедрые жертвователи, покинутые и верные жены, граждане, отличившиеся самоотверженными поступками, герои и мученики – все были тоже переписаны и подвергнуты самому тщательному допросу.
Этот надзор тяготел над всем городом, но решительно никто не знал его причины. Катрфей и Сен-Сильвен никому не рассказывали о поисках благодетельной рубашки вследствие уже упомянутого опасения, как бы честолюбивые и корыстные люди, прикинувшись вполне благополучными, не подсунули королю рубашки, якобы счастливой, а на самом деле насквозь пропитанной горестями, печалями и заботами. Чрезвычайные меры, принятые полицией, вызывали тревогу среди высших классов общества, и в городе отмечалось некоторое брожение. Несколько весьма уважаемых дам оказались скомпрометированными, вследствие чего последовал ряд скандалов.
Комиссия собиралась каждое утро в королевской библиотеке под председательством г-на Катрфея, в соприсутствии государственных советников для особых поручений гг. Тру и Бонкаси. Она рассматривала в каждом заседании в среднем до полутора тысяч дел. Проработав в течение четырех месяцев, комиссия не уловила даже признака счастливого человека.
– Увы! – воскликнул г-н Бонкаси в ответ на сетования председателя Катрфея. – Пороки вызывают страдания, а у всех есть пороки.
– У меня их нет, – вздохнул г-н Шодзэг, – и это ввергает меня в отчаяние. Жизнь без пороков – сплошное томление, уныние и тоска. Порок – единственное развлечение, доступное нам в этом мире: порок расцвечивает существование, это соль души, это искра ума. Да что я говорю, порок – единственное своеобразие, единственная творческая сила человека: это – попытка вооружить природу против природы, возвеличить царство человека над царством животных, дать место человеческому созиданию взамен созидания безыменного, выделить мир сознательный из всеобщей бессознательности. Порок – единственное достояние, действительно принадлежащее человеку, его естественное наследие, его истинное мужество и добродетель в буквальном смысле слова, ибо латинское «virtus» – доблесть, добродетель – производное от слова «vir» – человек, муж.
Я пробовал обзавестись пороками: из этого ничего не вышло; тут требуется особое дарование, особая природная склонность. Напускной порок – уже не порок.
– Постойте! А что вы называете пороком? – спросил Катрфей.
– Я называю пороком привычное предрасположение к тому, что большинство людей признает за нечто ненормальное и дурное, то есть индивидуальную нравственность, индивидуальную силу, индивидуальную добродетель, красоту, мощь, дарование.
– Ну вот и прекрасно! – воскликнул советник Тру. – Главное – между собой договориться.
Но Сен-Сильвен стал горячо опровергать точку зрения библиотекаря.
– Не говорите о пороках, раз у вас их нет, – сказал он. – Вы не знаете, что это такое. У меня они есть, у меня их несколько. И я вас уверяю, что получаю от них значительно меньше удовлетворения, чем неприятностей. Нет ничего тягостнее порока. Волнуешься, горячишься, выбиваешься из сил, чтобы как-нибудь его удовлетворить, а как только он удовлетворен, испытываешь безграничное отвращение.
– Вы так не говорили бы, – возразил Шодзэг, – если бы у вас были красивые пороки, – благородные, гордые, властные, возвышенные, в самом деле доблестные. У вас же только маленькие, трусливые пороки, чванливые и смешные. Нет, сударь, вас никак не причислишь к великим хулителям богов.
Сначала Сен-Сильвен почувствовал себя обиженным такими словами, но библиотекарь доказал ему, что в них нет ничего оскорбительного. Сен-Сильвен милостиво с этим согласился и спокойно и твердо высказал следующее соображение:
– Увы, порок, как добродетель, и добродетель, как и порок, связаны с усилием, принуждением, борьбой, трудом, работой, истощением. Поэтому-то мы все и несчастны.
Но председатель Катрфей стал жаловаться, что у него скоро лопнет голова.
– Не будем вдаваться в рассуждения, господа, – сказал он, – мы к этому не приспособлены.
И закрыл заседание.
Из этой комиссии счастья вышло то же самое, что выходит из всех парламентских и внепарламентских комиссий, назначаемых во все времена и во всех государствах: она ничего не решила и, прозаседав пять лет, распалась, не приведя ни к каким результатам.
Король не поправлялся. Чтобы окончательно его доконать, неврастения принимала, как Старец Морей, разные обличья – один ужаснее другого. Король жаловался, что все его органы блуждают, непрестанно передвигаются в его теле и переносятся на несвойственные им места: почка – в гортань, сердце – в икру, кишки – в нос, печень – в горло, мозг – в живот.
– Вы не можете себе представить, как тягостны эти ощущения и какую путаницу вносят они в мои мысли, – пояснил он.
– Государь, – отвечал Катрфей, – мне это тем легче понять, что в дни молодости живот мой нередко поднимался до самых мозгов, и нетрудно себе представить, какой оборот это придавало моим мыслям. Мои математические занятия немало от этого пострадали.
Чем хуже чувствовал себя Христофор, тем настойчивее требовал он прописанную ему рубашку.
Глава XIII
Кюре Митон
– Я снова начинаю думать, что мы только потому ничего не нашли, что плохо искали, – оказал Сен-Сильвен Катрфею. – Я решительно верю в добродетель и верю в счастье. Они неразделимы. Они редки и прячутся от нас. Мы их разыщем под скромными кровлями, в глуши деревень. Я, со своей стороны, стал бы их в первую очередь искать в той горной суровой местности, которую мы считаем нашей Савойей и нашим Тиролем.
В следующие дни недели они объездили шестьдесят горных деревень, не повстречав ни одного счастливого человека. Все бедствия, терзающие города, наблюдались и в этих деревушках, а грубость и невежество жителей придавали им еще большую остроту. Два главных бича, которыми располагает природа – голод и любовь, – обрушивались здесь на несчастные человеческие существа еще сильнее и чаще. Перед их глазами прошли хозяева-скупцы, мужья-ревнивцы, жены-обманщицы, служанки-отравительницы, работники-убийцы, отцы-кровосмесители и дети, опрокидывающие квашню на голову деда, задремавшего возле очага. Крестьяне находили удовольствие в одном только пьянстве; и даже радости их были грубы, игры их жестоки. Праздники заканчивались кровавыми драками.
Чем больше Катрфей и Сен-Сильвен наблюдали народ, тем больше убеждались они, что нравы его не могут быть ни лучше, ни чище, что скупая земля делает его скупым, что черствая жизнь вызывает в нем черствость и к чужим и к собственным страданиям и что завистливость, жадность, двоедушие, лживость и постоянный взаимный обман являются естественным следствием нищеты и невзгод.
– И как я только мог хоть на одно мгновение поверить, что счастье ютится под соломенной кровлей? – спрашивал себя Сен-Сильвен. – Это только может быть плодом полученного мною классического образования. В своей административной поэме, названной «Георгики», Вергилий говорит, что земледельцы были бы счастливы, если бы знали о своем счастье. Он, следовательно, признает, что они об этом счастье не знают. На самом же деле Вергилий писал по приказанию Августа, прекрасного управляющего государством, который беспокоился, как бы Рим не остался без хлеба, и поэтому всеми силами стремился как можно гуще заселить деревню. Вергилий знал не хуже всякого другого, что жизнь крестьянина тяжела. Гесиод обрисовал ее в ужасных картинах.
– Можно не сомневаться, что нет такой местности, где бы деревенские парни и девушки не лелеяли мечты устроиться в городе, – сказал Катрфей. – В приморских местностях девушки мечтают о поступлении на консервную фабрику. В каменноугольных районах у парней одно помышление: поскорее спуститься в шахту.
Был в тех горах один человек, выделявшийся среди озабоченных лбов и насупленных лиц своею простодушною улыбкой. Этот человек не умел ни обрабатывать землю, ни управляться со скотиной; он ничего не знал из того, что знают прочие люди, он вел бессмысленные разговоры и с утра до вечера распевал одну и ту же песенку, которую никогда не доводил до конца. Он всем восторгался. Он всегда был вне себя от радости. Его одежда была сшита из разноцветных, причудливо подобранных лоскутков. Ребятишки бегали за ним, преследуя его насмешками; но так как считалось, что он приносит счастье, ему не причиняли зла и подавали ему те пустяки, в которых он нуждался. Это был дурачок Юртепуа. Он кормился у подворотен заодно с собаками и ночевал в сараях.
Видя, что он счастлив, и полагая, что местные жители недаром почитают его носителем счастья, Сен-Сильвен, основательно поразмыслив, разыскал его, чтобы взять у него рубашку. Он застал его в горьких слезах, распростертым на церковной паперти. Юртепуа только что узнал о смерти Иисуса Христа, распятого ради спасения человечества.
Королевские чиновники, спустившись в деревню, где мэр был кабатчиком, пригласили его выпить с ними и спросили, не знает ли он счастливого человека.
– Господа, – ответил им мэр, – поезжайте вон в ту деревню, белые домики которой, прилепившиеся к склону горы, виднеются на той стороне долины, и зайдите к кюре Митону; он примет вас как нельзя лучше, и вы окажетесь в обществе счастливого человека, к тому же вполне достойного своего благополучия. Дорога займет у вас часа два.
Мэр предложил им внаймы лошадей, и после завтрака они тронулись в путь.
На первом перегоне их нагнал молодой человек, ехавший в одном направлении с ними верхом на лучшей, чем у них, лошади. У него было открытое лицо, веселый и довольный вид. Они разговорились.
Узнав, что они направляются к кюре Митону, молодой человек сказал:
– Передайте ему от меня поклон. Сам я еду несколько выше, в Сизере, где живу среди прекрасных пастбищ. Мне не терпится поскорее туда попасть.
Он рассказал, что женат на приятнейшей, лучшей в мире женщине, подарившей ему двух детей, красивых, как день, – мальчика и девочку.
– Я еду из нашего города, – весело продолжал он, – и везу с собой оттуда отличных материй на платья, с выкройками и модными картинками, по которым можно судить о готовых нарядах. Алиса (так зовут мою жену) не подозревает о приготовленных ей подарках. Я отдам ей покупки не развертывая и буду наслаждаться зрелищем, как ее быстрые пальчики станут нетерпеливо развязывать бечевку. До чего она будет рада! Она поднимет на меня восторженные, полные свежей ясности глаза и поцелует меня. Мы очень счастливы. За четыре года, что мы женаты, мы с каждым днем все сильнее любим друг друга. У нас самые сочные луга во всей окрестности. И рабочие наши тоже счастливы; они молодцы и косить и плясать. Приезжайте к нам, господа, как-нибудь в воскресенье: попробуете нашего белого винца и полюбуетесь, как танцуют наши ловкие девушки и сильные парни, которым ничего не стоит подхватить девушку и подбросить ее в воздух, как перышко. Наш дом – в получасе езды отсюда. Надо свернуть направо между вон теми двумя скалами, что видны в пятидесяти шагах впереди и известны под названием «Ноги серны». Надо миновать деревянный мост, переброшенный через горную речку, и пересечь сосновый лесок, оберегающий нас от северного ветра. Не пройдет и получаса, как я уже буду в кругу своей милой семьи, и мы все четверо порадуемся нашему общему благополучию.
– Надо попросить у него рубашку, – прошептал Катрфей Сен-Сильвену, – я думаю, что она не уступит рубашке кюре Митона.
– И я тоже так думаю, – отвечал Сен-Сильвен.
В то время как они обменивались этими словами, между скалами показался всадник, остановившийся перед путниками в сумрачном молчании.
– Что случилось, Ульрих? – спросил молодой человек, узнав в нем одного из своих арендаторов.
Ульрих ничего не ответил.
– Несчастье? Да говори же!
– Сударь, ваша супруга, спеша поскорее вас увидеть, решила отправиться вам навстречу. Мост провалился, и она утонула в потоке вместе с детьми.
Расставшись с обезумевшим от горя молодым горцем, они прибыли к кюре Митону и были введены в комнату, одновременно служившую приемной и библиотекой. На полках из еловых досок стояло до тысячи томов разных книг, а на выбеленных известью стенах были развешаны гравюры с пейзажей Клода Лоррена и Пуссена. [29]29
Клод Лоррен (1600 – 1682), Пуссен Никола (1594-1665) – выдающиеся французские живописцы, создатели особого жанра пейзажей-картин, характерных для французского классицизма.
[Закрыть]Все здесь говорило о культурных и умственных запросах хозяина, мало обычных для дома сельского священника. У кюре Митона, человека средних лет, было умное, доброе лицо.
Он расхвалил посетителям, якобы желающим поселиться в этой местности, климат, плодородие и красоту долины. Он угостил их белым хлебом, фруктами, сыром и молоком, после чего повел в очаровательный по свежести и чистоте огород. Шпалерные деревья с геометрической точностью простирали своя ветви по стене, обращенной к солнцу; безукоризненно правильные и богато увешанные плодами кроны фруктовых деревьев стояли на одинаковом друг от друга расстоянии.
– Вам никогда не бывает скучно, господин кюре? – спросил Катрфей.
– Время между занятиями в библиотеке и саду кажется мне коротким, – ответил кюре. – Как бы спокойно и безмятежно ни протекала моя жизнь, она все же деятельна и трудолюбива. Я справляю службы, навещаю больных и неимущих, исповедую прихожан и прихожанок. У бедных созданий не слишком длинный перечень грехов; не жаловаться же мне на это? Но перечисляют они их подолгу. Мне нужно приберечь немного времени на подготовку к проповедям и урокам закона божьего: уроки даются мне особенно трудно, хотя я и веду их уже более двадцати лет. Так страшно говорить с детьми: они верят всему, что им ни скажешь. У меня имеются и часы развлечения. Я много гуляю. Прогулки у меня всегда те же, и вместе с тем они бесконечно разнообразны. Вид природы меняется с каждым временем года, с каждым днем, каждым часом, каждой минутой; он всегда различен, всегда нов. Я с приятностью провожу долгие осенние вечера в обществе старых друзей – аптекаря, сборщика податей и мирового судьи. Мы музицируем. Моя служанка Морина замечательно жарит каштаны; мы лакомимся ими. Что может быть вкуснее каштанов со стаканом белого вина?
– Сударь, – обратился Катрфей к славному кюре, – мы на службе у его величества. Мы надеемся услышать от вас признание, имеющее огромное значение и для нашей страны и для всего мира. От этого зависит здоровье, а может быть и жизнь, нашего монарха. Вот почему мы просим простить нас за вопрос и, не считаясь с его необычайностью я нескромностью, ответить на него совершенно откровенно и без всяких недомолвок. Вы счастливы, господин кюре?
Господин Митон взял Катрфея за руку, крепко ее сжал и едва слышно проговорил:
– Моя жизнь – сплошная пытка. Я живу в непрерывном обмане. Я не верую.
И две слезы скатились по его щекам.



