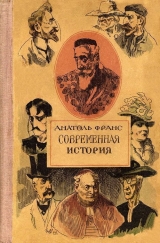
Текст книги "Аметистовый перстень"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
XII
В этот вечер г-н Летерье зашел к г-ну Бержере. Только лишь раздался звонок ректора, Рике соскочил с кресла, которое разделял с хозяином, и, глядя на дверь, свирепо залаял. А когда г-н Летёрье вошел в кабинет, пес встретил его враждебным рычаньем. Эта объемистая фигура, это серьезное полное лицо, окаймленное седой бородой, были ему незнакомы.
– И ты, пес! – кротко пробормотал ректор.
– Извините его, – сказал г-н Бержере. – Рике домашнее животное. Когда люди, воспитывая эту звериную породу, формировали ее характер, они сами считали, что чужой – это враг. Они не внушали собакам человеколюбия. Идея вселенского братства не проникла в душу Рике. Он представитель древней стадии социального строя.
– О! очень древней, – заметил ректор. – Потому что теперь, как всякому очевидно, среди людей царят мир, согласие и справедливость.
Так иронизировал ректор. Этот тон не был свойственен его уму. Но с некоторых пор у него появились новые мысли и новые слова.
Тем временем Рике продолжал лаять и рычать. Он явно старался остановить пришельца грозным взглядом и голосом. Тем не менее он пятился по мере того, как противник наступал. Он с преданностью сторожил дом, но все же соблюдал осторожность.
Потеряв терпение, хозяин приподнял его с земли за загривок и щелкнул раза два в мордочку.
Рике тотчас же перестал лаять, ласково заюлил и, высунув завиток язычка, лизнул карающую руку. Теперь его прекрасные глаза излучали грусть и кротость.
– Бедняжка Рике! – вздохнул г-н Летерье. – Вот награда за усердие.
– Надо вникнуть в его мысли, – ответил г-н Бержере, загнав Рике за кресло. – Теперь уж он знает, что не должен был встречать вас таким образом. Ему понятен только один вид зла – страдание, и только один вид добра – отсутствие страдания. Он до такой степени отождествляет преступление с наказанием, что для него дурной поступок это тот, за который наказывают. Когда я по неосторожности наступаю ему на лапу, он признает себя виновным и просит у меня прощения. Вопрос о справедливости и несправедливости не смущает его непогрешимого ума.
– Эта философия избавляет его от тревог, которые мы сейчас переживаем, – сказал г-н Летерье.
С тех пор как г-н Летерье подписался под так называемым «протестом интеллигентов», он жил в постоянном недоумении. Он изложил свои взгляды в письме, адресованном в местные газеты. Ему была непонятна точка зрения противников, ругавших его жидом, пруссаком, интеллигентом и продажной душонкой. Его удивляло также и то, что Эзеб Буле, редактор «Маяка», ежедневно называл его дурным гражданином и врагом армии.
– Поверите ли? – воскликнул он. – В «Маяке» осмелились напечатать, что я оскорбляю армию! Оскорбляю армию! Я, у которого сын под знаменами!
Оба профессора долго толковали о «Деле». И г-н Летерье, обладавший кристальной душой, добавил:
– Не могу понять, почему к этому вопросу пристегивают политические соображения и борьбу партий. Он стоит выше и тех и других, потому что это вопрос морали.
– Несомненно, – отвечал г-н Бержере. – Но вы бы не удивлялись и не поражались, если бы подумали о том, что толпе присущи лишь сильные и простые страсти; рассуждение ей недоступно; очень немногие люди способны в сложных случаях руководствоваться разумом, а для обнаружения истины в этом деле нам с вами понадобилось напряженное внимание, упорство изощренного ума, привычка рассматривать факты методически и проницательно. Из-за этих преимуществ и из-за удовольствия познать истину стоит, право же, вытерпеть несколько жалких оскорблений!
– Когда это кончится? – спросил г-н Летерье.
– Может быть, через полгода, может быть, через двадцать лет, а может быть, никогда, – ответил г-н Бержере.
– Как далеко они зайдут? – продолжал спрашивать г-н Летерье. – Scelere velandum est seel us. [48]48
Прикрывать злодейство – есть злодейство (лат.).
[Закрыть]Это уморит меня, друг мой, это меня уморит.
И он говорил правду. Крепкий организм этого высоконравственного существа был подточен. У него была лихорадка и боли в печени. В сотый раз он изложил доказательства, которые собирал так тщательно и ревностно. Он установил причины ошибки, которая отныне явственно проглядывала сквозь ворох наброшенных на нее туманных покровов. И зная свою правоту, убежденно воскликнул:
– Что можно на это возразить!
В этот момент их беседы оба профессора услышали сильный шум, доносившийся с площади.
Рике поднял голову и огляделся с тревогой.
– Что там еще? – спросил г-н Летерье.
– Ничего, – отвечал г-н Бержере, – это Пекус. [49]49
Скот (лат.).
[Закрыть]
И действительно, это была толпа обывателей, издававшая громкий рев.
– Кажется, они кричат: «Долой Летерье!» – сказал ректор. – Они, вероятно, узнали, что я у вас.
– Вероятно, – подтвердил г-н Бержере, – и я полагаю, они скоро начнут кричать: «Долой Бержере!» Пекус вскормлен вековой ложью. Его способность заблуждаться доходит до огромных размеров. Не умея рассеять разумом наследственные предрассудки, он бережно хранит басни, доставшиеся ему от предков. Этот вид мудрости предохраняет от оплошностей, которые могут оказаться для него слишком вредными. Он придерживается проверенных заблуждений. Он подражатель: это проявлялось бы еще отчетливее, если бы он невольно не искажал того, что копирует. Такие искажения и принято называть прогрессом. Пекус не размышляет. Поэтому нельзя говорить, что он обманывается. Но все его обманывают, и он несчастен. Он никогда не сомневается, ибо сомнение – это плод размышлений. А все-таки идеи его постоянно меняются. И он иногда переходит от отупения к ярости. В нем нет ничего выдающегося, так как все выдающееся немедленно от него отделяется и перестает ему принадлежать. Но он мечется, он томится, он страдает. Он достоин глубокой и скорбной симпатии. Надлежит даже его почитать, потому что от него исходит всяческая добродетель, всяческая красота, всяческая человеческая доблесть. Бедный Пекус!
Так говорил г-н Бержере. Вдруг камень, брошенный с силой, пробил стекло и упал на пол.
– Вот вам и аргумент, – сказал ректор, поднимая камень.
– Он ромбоидальный, – отозвался г-н Бержере.
– На камне нет никакой надписи, – заметил ректор.
– Жаль, – отвечал г-н Бержере. – Командор Аспертини нашел в Модене камни для пращей, которые в сорок третьем году до нашей эры солдаты Гирция и Пансы метали в сторонников Октавия. [50]50
Консул Авл Гирций,друг Цицерона, и консул Гай Вибий Пансакомандовали в 43 г. до н. в. войсками, сражавшимися при Мутине (ныне Модена, город в Северной Италии) вместе с легионами Октавиана (Гая Октавия), против Марка Антония.
[Закрыть]На этих камнях имелись надписи, указывавшие, в кого надо попасть. Господин Аспертини показал мне один, предназначенный для Ливии. [51]51
ЛивияДрузилла (род. ок. 56 г. до и. э.) – третья жена Октавиана.
[Закрыть]Предоставляю вам догадываться по духу этих воинов, в каких выражениях было составлено их послание.
Тут голос его был заглушён криками: «Долой Бержере!» «Смерть жидам!» – доносившимися с площади.
Господин Бержере взял камень из рук ректора и положил его на стол, как пресс-папье. Затем, как только можно было снова расслышать его голос, он продолжал нить своих рассуждений:
– После поражения обоих консулов Антония под Моденой имели место ужасные жестокости. Нельзя отрицать, что с тех пор нравы сильно смягчились.
Между тем толпа ревела, и Рике отвечал ей героическим лаем.
XIII
Юный Бонмон, находясь в Париже в отпуску по болезни, посетил автомобильную выставку, устроенную в углу Тюильрийского сада вдоль террасы Фельянов. Проходя по одной из боковых галерей, отведенной под детали и разные принадлежности, он безучастным, уже заранее пресыщенным взором рассматривал карбюратор «Плутон», мотор «Пчелу» и автоматическую масленку «Альфонс» для смазывания подшипников и шатунов. Он то и дело отвечал отрывистым кивком или приветственным движением руки на поклоны робких молодых людей и заискивающих старцев. Отнюдь не гордый, не заносчивый, простой в обращении и даже несколько вульгарный, он был силен только выражением ровной и спокойной злости, так помогавшей ему в обращении с людьми. Приземистый, плотный, еще крепкий, хотя уже подточенный болезнью, он, слегка сгорбившись, шел по террасе. Сойдя со ступенек и ознакомившись с марками различных масел, служащих для очистки втулок, он наткнулся по дороге на садовую статую под холщовым навесом, окруженную загородкой из сурового полотна. Это было изваяние во французском классическом стиле: бронзовый герой, академическая нагота которого свидетельствовала о мастерстве ваятеля, разил палицей чудовище, стоя в позе, строго соответствовавшей канонам жанра. Введенный, вероятно, в заблуждение мнимым спортивным видом этой скульптуры и не думая о том, что статуя могла стоять в саду еще до открытия выставки, Бонмон инстинктивно попытался связать ее с автомобильным туризмом. Ему представлялось, что чудовище в виде змея, действительно походившее на пожарную кишку, изображает пневматическую шину. Но подумал он об этом очень неопределенно и смутно. И почти тотчас же отведя недоуменный взгляд, он прошел в огромный зал, где возвышавшиеся на стендах машины назойливо выставляли напоказ тяжеловесность и неуклюжесть своих рудиментарных форм, еще не достигших законченности, и в кичливом самодовольстве так и лезли в глаза посетителям.
Выставка не развлекала юного Бонмона, ибо ничто его не развлекало. Тем не менее он вдыхал бы без неудовольствия запах резины, жирных масел и разогретой смазки, носившийся в воздухе, и рассматривал бы без раздражения автомобили, автомобильчики и автомобилишки, но в этот момент мысли его были сосредоточены на одном. Он думал об охоте герцога де Бресе. Желание получить охотничью пуговицу завладело его душой. Он унаследовал от своего отца упорную волю. Жар, с которым он добивался охотничьей пуговицы де Бресе, соединялся в его жилах с лихорадочным жаром начинающейся чахотки и сжигал его. Он хотел пуговицу с нетерпением ребенка, – ибо сохранил много ребяческого, – и хотел ее с изворотливым упорством расчетливого честолюбца, – ибо знал людей, и хоть еще мало жил, но в жизни повидал немало.
Он знал, что, несмотря на свою французскую фамилию и римский титул, он оставался для герцога де Бресе евреем Гутенбергом. Он знал также силу своих миллионов и знал о власти денег побольше, чем когда-либо будут знать народы и их министры. А потому он не питал иллюзий и не приходил в уныние. Обладая ясным умом, он отчетливо представлял себе положение. Антисемитская кампания велась очень яростно в этом земледельческом департаменте, где, вообще говоря, евреев не было, но было много духовенства. Последние происшествия и газетные статьи сбили с толку слабую голову герцога де Бресе, лидера католической партии в этом департаменте. Конечно, Бонмоны придерживались таких же убеждений, как и потомки эмигрантов, и были пропитаны старинным вандейским благочестием, будучи такими же правоверными католиками, как и де Бресе. Но для герцога раса была главное. Он был прост и упрям. Юному Бонмону это было известно. Он снова обозрел всю ситуацию, пока разглядывал омнибусы Дюбуа-Лакий с керосиновым мотором, и пришел к убеждению, что верный способ получить охотничью пуговицу был только один – добиться епископского посоха для аббата Гитреля.
«Мне необходимо поставить его в епископы, – размышлял он, – это, вероятно, совсем не трудно, только бы знать, как это делается».
И он прибавил про себя, жалея, что уже нет в живых отца:
«Будь только жив папа, он знал бы, что мне посоветовать. Ему-то уж, конечно, приходилось выпекать епископов во времена Гамбетты».
Хотя он и не обладал даром обобщения, но все же пришел к мысли, что всего в этом мире можно достигнуть с помощью денег. Это наполнило его уверенностью в успехе предприятия. Додумавшись до этого, он поднял голову и увидал в нескольких шагах от себя юного Гюстава Делиона, стоявшего перед желтым автомобилем.
В то же мгновение и Делион заметил Бонмона. Он притворился, будто не видит его, и укрылся за кузов машины. Он уже давно занял деньги у Бонмона, а в этот момент совершенно не был в состоянии расплатиться.
От одного взора голубых глаз своего приятеля у Делиона стало сосать под ложечкой. Бонмон умел одними лишь взглядами и молчанием наводить трепет на задолжавших ему друзей. Делион знал эту повадку. А потому он был чрезвычайно удивлен, когда «бычок», как он его называл, последовал за ним в его убежище между желтым открытым автомобилем и холщовой перегородкой, дружески протянул ему руку и спросил с доброй улыбкой:
– Как здоровье? Недурной брэк? Немного длинен, но хорош, не правда ли? Как раз то, что вам нужно для Валькомба, дорогой Гюстав! Одно удовольствие колесить на этой пыхтелке от Валькомба до Монтиля.
Механик, стоявший на стенде рядом с автомобилем, счел нужным вмешаться в разговор и осведомить господина барона, что машину можно, смотря по надобности, превращать то в шестиместный брэк, то в четырехместный фаэтон. И заметив, что имеет дело со знатоками, он пустился в технические объяснения:
– Двигатель состоит из двух горизонтальных цилиндров; каждым поршнем приводится в движение мотыль, отклоненный на сто восемьдесят градусов от соседнего мотыля…
Он толково изложил преимущества этой конструкции. Затем, отвечая на вопрос Делиона, пояснил, что карбюратор автоматический и его налаживают один раз навсегда, перед пуском машины. Он умолк, и оба молодых человека, тоже молча, сосредоточили свое внимание на машине. Наконец Гюстав Делион, ткнув тростью между спицами колес, сказал:
– Видите, Бонмон, машиной управляют посредством ломаной оси.
– Мягкое управление, – вмешался механик.
Гюстав Делион любил автомобили, и любил их не так как Бонмон, уже заранее пресыщенной любовью. Он разглядывал машину, которая, несмотря на сухость современных форм походила на животное, и не на какое-либо необычайное чудовище, а на заурядное, обыденное чудовище, с зачатком головы, выпучившей два огромных глаза-фонаря.
– Неплохая пыхтелка, – тихо сказал юный Бонмон своему приятелю. – Купите ее.
– Купить? Разве можно что-либо себе позволить, когда у тебя, на несчастье, имеется папаша? – тихо возразил Гюстав. – Вы себе не представляете, сколько семья доставляет неприятностей… и затруднений.
Он прибавил с напускной самоуверенностью:
– Кстати, дорогой Бонмон, это напомнило мне, что я должен вам кое-какую мелочишку…
Ладонь дружеской руки опустилась ему на плечо и прервала его речь. Он с удивлением увидал подле себя русого человечка, с головой, втянутой в плечи, плотного, коренастого, слегка сутуловатого, совсем простого в обращении, который улыбался ему доброй улыбкой с необычайным выражением кротости в голубых глазах.
– Вздор! – заявил коротыш, походивший на славного молоденького бизона, который оставляет клочья шерсти на кустах.
Гюстав не узнавал своего Бонмона. Он был растроган и удивлен. А маленький барон, вскочив в брэк, принялся вертеть руль под благожелательными взорами механика.
– Бонмон! Вы правите машиной? – спросил почтительно Гюстав.
– Иногда, – отвечал юный Бонмон.
И держа руку на руле, рассказал об автомобильной поездке по Турени, во время одного из своих лечебных отпусков, после которых возвращался еще более больным. Он делал сорок километров в час. Правда, дорога была сухая и в хорошем состоянии. Но встречались коровы, дети и пугливые лошади, способные причинить неприятности. Нужно было зорко смотреть, а в особенности приходилось следить за тем, чтобы сосед не трогал руля. Он рассказал несколько случаев из своей поездки. Особенно забавным казалось ему приключение с молочницей.
– Вижу: впереди едет какая-то старуха и загораживает мне дорогу своей тележкой и лошадью, – рассказывал он. – Даю гудок, старуха не сторонится. Тогда я направляю машину прямо на нее. Она не знала этого трюка. Она сворачивает и так сильно дергает лошадь, что та падает на кучу камней: лошаденка, тележка, молочница, крынки с молоком – все летит вверх тормашками, а я несусь дальше.
И юный Бонмон, выскакивая из машины, закончил так:
– Несмотря на шум и пыль, автомобиль все же очень приятный способ передвижения. Испытайте, дорогой мой.
«А ведь он очень мил»! – подумал с восхищением Гюстав Делион. И его восторг еще усилился, когда Бонмон, увлекая его за руку к проходу, ведущему в большой зал, сказал ему:
– Вы правы. Не покупайте этой машины, я одолжу вам свою трясучку. Она мне сейчас не нужна. Мне пора вернуться на службу: отпуск кончается, – да и сам я тоже кончаюсь… Кстати, не знаете ли вы, госпожа де Громанс в Париже?
– Думаю, что здесь, но наверняка не скажу, – отвечал Гюстав – я давно ее не видел.
Это была рыцарственная ложь, так как накануне в семь часов десять минут вечера он расстался с г-жой де Громанс в номере гостиницы, где обычно происходили их свидания.
Бонмон ничего не ответил. Остановившись перед двуязычной надписью «Курить не разрешается», он устремил на нее задумчивый взгляд, который придавал еще больше значительности его молчанию. Гюстав, тоже умолкший, спохватился, что неосторожно обрывать разговор с таким собеседником, и потому добавил:
– Но мне, вероятно, скоро снова представится случай встретиться с ней… Если угодно, я могу даже узнать…
Маленький барон посмотрел ему в глаза и сказал;
– Хотите доставить мне удовольствие?
Гюстав ответил утвердительно с готовностью услужливой души и со смятением человека, внезапно втянутого в трудное предприятие. Он действительно мог доставить удовольствие Эрнесту де Бонмону, и тот не преминул указать ему способ:
– Если вы хотите доставить мне удовольствие, дорогой Гюстав, убедите госпожу де Громанс пойти к Луайе и попросить его, чтобы он назначил аббата Гитреля епископом.
И он добавил:
– Прошу вас об этом как о настоящей услуге.
На такую просьбу Гюстав ответил бессмысленным молчанием и растерянными взглядами, не потому, чтобы намеревался отказать, а потому, что ничего не понял. Бонмону пришлось еще дважды повторить те же слова и объяснить, что Луайе, как министр культов, назначает епископов. Бонмон был терпелив, и Гюстав мало-помалу освоился с его замыслом и даже безошибочно повторил то, что ему говорили:
– Вы хотите, чтобы госпожа де Громанс пошла к Луайе, министру культов, и попросила его назначить Гитреля епископом?
– Епископом в Туркуэне.
– Туркуэн… Это во Франции?…
– Разумеется.
– Гм… – буркнул Гюстав.
И он призадумался.
У него возникли довольно серьезные сомнения, и он изложил их, рискуя показаться недостаточно любезным. Но дело, невидимому, было не из пустячных, и он не хотел впутываться в него очертя голову. Робко, застенчиво он высказал первое, самое общее сомнение.
– А вы не шутите? – спросил он.
– Какие там шутки! – сухо ответил Бонмон.
– Правда? Вы в самом деле не дурачите меня? – повторил Гюстав свой вопрос.
Он все еще колебался. Но взгляд маленького блондина, взгляд, полный презрения, заставил его решиться.
Тогда он объявил уже совершенно твердо:
– Раз это всерьез, то можете рассчитывать на меня. В серьезных делах я серьезен.
Он умолк, но, как только умолк, в его душу опять проникли сомнения. Он спросил вкрадчиво и боязливо:
– Уверены ли вы, что госпожа де Громанс настолько близко знакома с министром, чтобы обращаться к нему… с просьбами о… о таком деле? Она, видите ли, никогда не говорила мне о Луайе.
– Вероятно потому, что у нее есть другие темы для беседы с вами, – возразил маленький барон. – Я не говорю, что она бредит этим Луайе, но она считает его добрым и неглупым старикашкой. Они познакомились три года тому назад на трибуне при освящении статуи Жанны д'Арк. Луайе старается быть приятным госпоже де Громанс. Уверяю вас, что он не так уж противен. Когда он облачается в новый сюртук, он похож на старого учителя фехтования, удалившегося на покой в деревню. Ей вполне удобно придти к нему: он будет с ней мил… и уж, конечно, он не опасен.
– Значит, – сказал Гюстав, – она должна попросить его, чтобы он назначил Гитреля епископом?
– Да.
– Епископом этого, как его?…
– Епископом Туркуэна, – ответил Эрнест де Бонмон. – Лучше я запишу вам на клочке бумаги.
И взяв с ближайшего столика карточку фабриканта машин «Королева лилипутов», он написал маленьким золотым карандашом: «Назначить Гитреля епископом туркуэнским».
Гюстав взял карточку. Поручение, казавшееся ему сперва таким странным и необычайным, он находил теперь простым и естественным. Он мысленно освоился с ним. И кладя карточку в карман, он сказал Бонмону самым непринужденным тоном:
– Гитреля – епископом туркуэнским, отлично. Можете рассчитывать на меня.
Таким образом оправдывались слова г-жи Делион, которая имела обыкновение отзываться о своем сыне так: «Гюстав заучивает с трудом, но то, что он заучил, он помнит. Это, пожалуй, даже преимущество».
– Будьте спокойны, – серьезно прибавил Эрнест, – я ручаюсь вам, что из Гитреля выйдет очень хороший епископ.
– Тем лучше, – отвечал Гюстав, – потому что…
Он не договорил своей мысли.
Тем временем они подошли к выходу.
– Я пробуду в Париже до конца недели, – сказал Бонмон. – Заходите ко мне и держите меня в курсе дела. Времени терять нельзя: назначения будут подписаны на днях. Нам еще надо потолковать об авто.
Под навесом подъезда, где торжественно развевались знамена, он пожал Гюставу руку и, удерживая ее в своей, произнес:
– Предупреждаю вас об одном, дорогой Делион, и это очень важно. Никто не должен – слышите? – никто не должен знать, что госпожа де Громанс обратится к Луайе по вашей просьбе. Ясно?
– Ясно, – отвечал Гюстав, усердно пожимая руку своего друга.
* * *
В тот же вечер, в восемь часов, зайдя не надолго к матери, с которой видался редко, но поддерживал хорошие отношения, Эрнест де Бонмон застал ее в будуаре, где она заканчивала туалет.
Пока горничная ее причесывала, она отвела глаза от зеркала и, взглянув на сына, сказала:
– У тебя плохой вид!
С некоторых пор здоровье Эрнеста тревожило ее. Papá был для нее причиной более тяжелых горестей, но и о сыне она тоже беспокоилась.
– А твое здоровье, мама?
– Превосходно.
– Вижу.
– Знаешь ли ты, что у твоего дяди Вальштейна был легкий удар?
– Что ж тут удивительного! Он кутит. В его возрасте это нездорово.
– Твой дядя еще не стар. Ему пятьдесят два года.
– Пятьдесят два года – это уже не отрочество. Кстати, как Бресо?
– Бресо? А что?
– Поблагодарили они тебя за дароносицу?
– Они прислали мне несколько строк на визитной карточке.
– Не густо.
– А чего ты собственно ждал, мой мальчик?
Она встала и, чтоб оправить в волосах бриллиантовую ветку, подняла над головой обнаженные руки, которые образовали как бы две ослепительные ручки у амфоры ее очаровательно округлого тела. Под гроздьями прозрачных плодов, пропускавших электрический свет, ее плечи сверкали, и по их золотистой белизне сбегали к груди тонкие голубые жилки. Щеки ее были нарумянены, губы подмазаны. Но лицо, отражавшее любовные вожделения и здоровье, сохраняло молодость, а пышность тела скрадывала складки на шее, которые могли бы выдать возраст.
Эрнест де Бонмон внимательно посмотрел на мать и вдруг сказал:
– А что, мама, если бы и ты тоже зашла к Луайе замолвить слово за аббата Гитреля?








