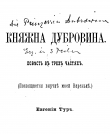Текст книги "Княжна-цыганка (Наша встреча роковая)"
Автор книги: Анастасия Туманова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Да что ты, дура, как по мертвому голосишь? Вернусь…
– Когда?!
– Не знаю. И хватит выть, иди лучше вправду воды принеси. – Сенька с силой оторвал от себя руки сестры. Глядя ей прямо в лицо, сумрачно предупредил: – И не дай бог кому скажешь, о чем мы тут толковали. Ты мне слово давала. Никому… а ей – тем боле. Ясно?
Дина, давясь рыданиями, навзничь упала на перину. Сенька встал и, не глядя больше на сестру, быстро вышел из шатра. Над степью уже разворачивался бледным сиянием рассвет, гасли звезды, таял, растворяясь в набежавших ранних облачках, поблекший лунный диск. От шатров слышались сонные голоса цыганок. Спины лошадей матово блестели от росы. Вороной, которого хозяин никогда не спутывал, подбежал и ткнулся в плечо Семена. Тот, зло оттолкнув коня, быстрым шагом пошел к реке. Вороной с минуту задумчиво смотрел себе под ноги; затем тряхнул головой и неспешно тронулся следом.
Через три дня обнаружилось, что ни красного командира, ни Сеньки в таборе нет. Пропали также и вороной, и гнедая кобыла деда Ильи, приблудившаяся к табору после боя под Безместным.
– Сманил-таки, черт, парня… – яростно плюнул в остывшие угли костра дед Илья. И ушел в шатер, не слушая ни тихих всхлипываний бабки, ни рыданий Дины.
Цыгане растерянно переглядывались. То, что красный гаджо, едва встав на ноги, умчался воевать, новостью ни для кого не казалось. Также никто особенно не удивился уходу Сеньки: некоторые даже недоумевали, как он выдержал в таборе два месяца – после того, что случилось весной. Да и с Динкой все это время они спали врозь и почти не разговаривали… Но никто не мог понять, отчего рыдает, как сумасшедшая, Дина, которая, по мнению цыган, от счастья должна была плясать и скакать вокруг табора без устали. Несколько любопытных девчонок подобрались к шатру Дины на разведку – и тут же кинулись прочь с испуганным писком: заплаканная бабка Настя замахнулась на них сковородкой.
– Чтоб духу вашего здесь не было, вороны безголовые, с вашими языками! Не до вас, трещотки! Поналезли, до всего им дело есть, всюду свои носы длинные просунут, пошли вон!!! Без вас тошно!
И никто не заметил, как Мери, прямая и тоненькая, не опуская головы, уходит прочь от палаток.
Она дошла спокойным, мерным шагом до берега реки, поднялась на обрыв… и тут силы оставили ее. Без единого слова, как подкошенная Мери упала на колени, затем – навзничь на теплую, еще сырую от росы траву, зарылась лицом в жесткие стебли. Сухие рыдания колом встали в горле, и девушка вдруг почувствовала, что кричит – кричит беззвучно, отчаянно, колотясь о землю головой, так, как не кричала она даже в день гибели матери. От безнадежной смертной тоски в глазах стояла тьма. Мери задыхалась от слез, и жуткое осознание того, что теперь она действительно одна, что рядом с ней – никого, надвигалось все ближе.
Солнце уже поднялось высоко над степью, когда Мери кое-как сумела оторвать от земли отяжелевшую, разламывающуюся от боли голову. Шатаясь и оскальзываясь, девушка спустилась к реке, зашла по пояс в воду – быструю, чуть слышно журчащую, водоворотами закручивающуюся вокруг ног и вздувшейся юбки. Под босыми ступнями катались, скользили камешки; юркие рыбки, с испугом разлетаясь в стороны, задевали колени. Наклонившись, Мери долго плескала воду себе в лицо. Наконец, убедившись, что это не помогает и слезы продолжают ползти по щекам, она глубоко вздохнула и погрузилась в воду с головой, не закрывая глаз. От холода захватило дух, перед глазами задрожала зеленоватая, стеклистая, высвеченная солнцем вода, Мери увидела рядом с собой собственные косы, превратившиеся в кусты колышущихся водорослей, бледное пятно солнца наверху. В груди закололо, и она с шумом, подняв столб брызг, выскочила на поверхность.
– Меришка, Меришка! Меришка-а-а! – донеслось от табора сразу несколько девичьих голосов. – Меришка, кай сан? Традаса! Традаса! [37]37
Меришка, где ты? Едем! Едем! (цыганск.)
[Закрыть]
Охнув, Мери кое-как отжала косы, протерла глаза и, путаясь в тяжелой, облепившей ноги юбке, помчалась к табору, где цыгане уже сворачивали шатры.
До Крыма добирались две недели, и все эти дни она прожила как во сне. Мимо проплывала цветущая голубыми и желтыми шарами, пестрая, будто цыганская шаль, бесконечная степь, опрокинутое над ней прозрачное небо, багровые с золотом закаты, розовые, ясные восходы, теплые вечера, седой туман над балками, костры, горящие перед палатками, низкие, дрожащие звезды над ними. Словно сквозь пуховую перину, доносились голоса цыган, смех девчонок, лошадиное ржание, скрип колес и звон посуды, песни по вечерам. Время от времени через эту перину пробивались вопросы, кто-то о чем-то спрашивал ее, Мери что-то отвечала, но что – не помнила уже мгновение спустя. Слез не было – даже по ночам, – но и сон не приходил тоже. Лежа на разостланной перине возле угасших углей и смотря в фиолетовое, в россыпи мерцающих искр небо над головой, Мери все думала: почему?.. Почему он ушел, почему ни слова не сказал ей, не захотел проститься, не предупредил даже взглядом?.. И надолго ли? И вернется ли? А если вернется, то к ней ли?.. И как же, боже мой, как тут она без него?..
Цыгане добрались до Ялты теплым, душноватым вечером, обещающим ночную грозу. Солнце село в тяжелые тучи, напоследок высветив все небо алыми тревожными полосами, в степи примолкли птицы, стихли кузнечики. За лиманом уже лениво погромыхивало, но ветра еще не было, и степной ковыль стоял неподвижно. Цыгане, озабоченно поглядывая на небо, торопились с ужином, прятали в шатры подушки и перины, цыганки снимали с колючих кустов выстиранное белье. Мери сидела у шатра деда Ильи, равнодушно наблюдая за тем, как в котелке бурлит варево, и изредка помешивала его ложкой, привязанной к длинной палке. Старая Настя возилась с подушками, вполголоса напевала. Мери машинально прислушивалась к сложной, смутно знакомой мелодии без слов, силясь вспомнить, что это за романс.
– Меришка! Меришка! Эй, Меришка, ты окаменела, что ль, милая моя?! Девки, вот, ей-богу, сейчас водой ее оболью!
– Нет… Что?.. – С трудом очнувшись от своих мыслей и сообразив, что ее уже давно зовут и дергают за рукав, Мери помотала головой. Подняв глаза, увидела, что перед ней стоят человек шесть девчонок – серьезных, нахмуренных.
– Чего вам, чаялэ?
– Да ничего. Мы – так… – запинаясь и почесывая одну босую ногу о другую, за всех ответила большеротая Брашка. – Мы знаешь чего? Вот…
В тот же миг что-то посыпалось на колени Мери. В первое мгновение она испугалась и чуть не вскочила, но тут же увидела, что Брашка трусит ей на юбку из своего подвязанного подола черешню. Ягод было много – крепких, темно-красных, лоснящихся. Две из них нырнули в котел, и Брашка отважно сунулась за ними голой рукой.
– Что это?.. – растерянно спросила Мери.
Но Брашка, от души чертыхаясь, изо всех сил дула на обожженные пальцы, и за нее ответила Сима:
– А вот тебе… ягодки. Мы сегодня в город бегали, дачу там нашли брошенную, а в саду черешни!.. Мамочка моя! Мы сами вот так объелись! – Симка провела испачканной ладонью по горлу. – И младших накормили до того, что вон икают сидят! А у Милки даже с пузом худо сделалось, из ковыля, несчастная, не вылазит! И тебе тоже принесли. Ты ешь, ешь, она такая сладкая!
Никакой черешни Мери не хотелось, но, чтобы не обижать подруг, она сунула в рот самую большую. Рот наполнил кисловатый терпкий сок. Девчонки стояли поодаль и сосредоточенно наблюдали за тем, как она ест. Доедая восьмую ягоду, Мери заметила, что подружки переглядываются и чуть заметно толкаются локтями. Брашка, поймав удивленный взгляд Мери, посмотрела на остальных, глубоко вздохнула и решительно уселась возле огня.
– Мы тут подумали – что ты убиваешься? Брось, родная, много чести ему… Да уехал – и черт с ним, скатертью дорога, не тут же ему оставаться было? И потом, в жизни-то всякое бывает, может, еще и перевидаетесь… ежели не убьют его.
– Кого?.. – одними губами спросила Мери, чувствуя, как плывет и дрожит перед глазами огонь костра.
– Да гаджа же! – вытаращила глаза Брашка. – Сенькиного комиссара! Ты ведь за ним страдаешь, правда? Ну его кобелю дохлому под хвост…
– Да с ума вы, что ли, посходили?! – завопила Мери так, что Брашка отпрянула, а Настина песня за шатром стихла на полуслове. – Я – за гаджом?! Да… да… ей-богу, вы… ополоумели совсем!
– Ну вот, а я что вам всем говорила, дурам?! – победоносно заявила Брашка, оборачиваясь к по-другам. – Что наша Меришка – вовсе безголовая, чтобы по комиссару пропасть? Других, получше, нет будто! Меришка, вот тебе крест истинный, это не я придумала, все они!
Мери, совершенно ошеломленная, могла только открывать и закрывать рот. А глазастая сумрачная Симка, резким движением откинув за спину спутанные волосы, села рядом, грубовато обняла Мери за плечи, свободной рукой подняла самую большую черешню, потерла ее о замызганный подол и сунула в рот княжне.
– Ешь, родимая… Глупые они. Ты, верно, мать вспомнила? Все это время на комиссара Сенькиного смотрела и, поди, вспоминала… Сердце-то болит? Ничего, милая, все проходит помаленьку. Вон, у нашей Милки тоже мамка запрошлогодь померла, Милка уж как плакала, а теперь успокоилась. Мы ж все там будем, обожди, жизнь проживешь – и увидишься у бога в доме с мамкой-то… Ага…
Тяжкий удар грома потряс степь, и испуганный девчоночий визг взлетел над табором. Мери запрокинула голову. Наверху сходились темно-синие страшные тучи с дымящимися краями, по которым то и дело пробегал короткий голубой проблеск молнии. Холодные капли замолотили по траве, по прибитой пыли, дождевая завеса, еще просвеченная последним низким лучом солнца, повисла между палатками. Стайка девушек с писком кинулась под полотнище шатра, Симка дернула за руку Мери, и та метнулась следом, на ходу вытирая мокрое от слез и дождевых капель лицо.
– Ты понимаешь, чего эти курицы-то так волнуются? – давясь смехом, шептала ей на ухо Симка, забираясь под старую Настину перину и увлекая за собой Мери. – Ты ведь им две недели назад начала сказку рассказывать… Ну, про то, как один цыган на ведьме женился, а у него еще дочка-красавица была… Помнишь? Ну, так им же интересно, что дальше-то сталось, а ты ходишь и молчишь! И к костру вечером не идешь, и купаться с нами не бегаешь! Грустная такая ходишь, теребить тебя даже совестно, и баба Настя ругается – отлезьте, кричит, от нее, кобылищи, не до вас ей… Ну, мы, сколь могли, терпели, а нынче Брашка наша говорит: давайте ей хоть черешни принесем, авось наестся, подобреет да дальше расскажет, что там было…
Договорить Симка не успела: Мери расхохоталась. Вместе с безудержным смехом из глаз брызнули новые слезы, и она долго не могла успокоиться, уткнувшись лицом в колени и содрогаясь всем телом. А снаружи уже гремело вовсю, и капли дождя шуршали, сбегая по полотнищу шатра, а внутри было сухо, и из-за каждой пестрой подушки, из-под каждой перины глядели выжидающие черные глаза.
– Ну, бог с вами, сейчас… – Мери вытерла нос, глубоко вздохнула и наморщила лоб, вспоминая гоголевскую «Утопленницу». – Слушайте дальше. Значит, сидит вечером цыганочка в шатре и дрожит, глядь – опять крадется к ней страшная кошка! Испугалась девушка, схватила со стены отцовскую саблю… то есть топор, – и ка-а-ак бросит в ту кошку! Лапу с когтями разом отрубила! Кошка завизжала человечьим голосом – и прочь из шатра, а цыганочка без чувств свалилась…
Солнечный луч снаружи погас, стало сумрачно. Между палатками шелестел, заливая шипящие угли костра, дождь. Ворча, старая Настя внесла в палатку дымящийся котелок, села у входа. Взглянула на Мери, сидящую в окружении девчонок с открытыми ртами и вытаращенными глазами. Глубоко вздохнула, перекрестилась. И, отвернувшись, тихо заплакала.
…Сзади зашуршали шаги, и Мери, вздрогнув, обернулась. За ее спиной стояла старая Настя, внимательно, встревоженно смотрела на нее. Только сейчас Мери заметила, что сидит на берегу лимана уже долго и вокруг давно стемнело.
– Мы тебя ужинать ждем, девочка, а тебя все нет, – помолчав, сказала старая цыганка. – Дед беспокоится. Уж половину папирос, какие ты притащила, скурил. Хорошие, говорит.
– Ну и слава богу. Я иду. Уже иду. – Мери поднялась. – Как там Юлька? Пирожные назад не пошли?
– Куда там! Как родные остались! – махнула рукой старуха. – Ты, если можешь, не сердись на нее. Она в тяжести сейчас, а у баб в это время голова вовсе дурная делается. Да она и до своего мужика больная. Вот клянусь тебе, девочка, как до Митьки дело доходит – Юлька словно отродясь никаких мозгов не имела! И отчего так получается?
– Она его любит, – вздохнула Мери, вытаскивая из воды полное ведро. – Тут уж ничего не поделаешь.
Старая Настя вздохнула в ответ. Пропустила Мери впереди себя и неспешно пошла за ней к табору.
* * *
Вечером постучали в дверь. Стук был коротким, крепким, спокойным, но все цыгане, сидевшие в нижнем зале Большого дома, подняли головы и встревоженно переглянулись. За окном спускались ясные, розовые летние сумерки, в разросшихся кустах сирени взахлеб, самозабвенно щелкали соловьи, и Нина, слушая их, чуть не по пояс высунулась в распахнутое окно. Она первая заметила высокую фигуру в шинели, поднявшуюся на крыльцо.
– Ромалэ, халадо кэ ямэ явэла… [38]38
Цыгане, к нам солдат идет… (цыганск.)
[Закрыть] – едва успела сказать она, а красноармеец уже входил в зал.
Цыгане как один поднялись навстречу незваному гостю. Разом умолкли игравшие на полу дети, украдкой перекрестилась старуха Стеша. Мишка Скворечико, младший Стешкин внук, этой весной вернувшийся с фронта, опустил газету и поднял худое, некрасивое лицо с длинным носом, за который еще в детстве и получил прозвище.
– Мишка, пучь… – тихо проговорила Нина. – Кон лэскэ чебинэ, мэ?.. [39]39
Мишка, спроси… Кто ему нужен, я?.. ( цыганск.)
[Закрыть]
– Ну, дылыны, палсо ту лэскэ… [40]40
Ну, дура, зачем ты ему… (цыганск.)
[Закрыть] – неуверенно шепнул Мишка, поднимаясь. – Здравствуйте, товарищ, что случилось?
– Так что бумага до вас, граждане цыгане, от Чрезвычайной комиссии, – сурово произнес очень молодой красноармеец, для солидности сдвинувший на глаза буденовку. – Примите пред… напи… сание.
Мишка взял в руки твердый желтый конверт. Цыгане сразу же окружили Скворечико и, вытянув шеи, становясь на цыпочки, старались взглянуть на бумагу. Несколько женщин бросились за солдатом.
– Миленький, драгоценный, а про что бумага-то? Что от нас хотят? Мы люди бедные, взять у нас нечего, мы супротив новой власти никогда и в мыслях не держали, что в бумаге твоей сказано?
– Знать не могем, – отрезал тот и, грохнув сапогами, вышел за дверь.
Нина, не сводя глаз с конверта, медленно перекрестилась. С того дня, как она была вызвана на допрос к следователю Наганову, прошел почти месяц, из ЧК за ней больше не приходили, и Нина понемногу начала успокаиваться. Но сейчас, едва увидев красноармейца, она почувствовала, что этот визит напрямую связан с ней, и сердце забухало тяжело, размеренно, громко, заглушая беспечный свист соловьев за окном. Машенька, волоча за ногу своего мишку, подошла к матери, вопросительно подергала ее за юбку. Нина машинально пригладила кудряшки дочери, вздохнула и решительно повернулась к столу.
Конверт уже был разорван, «преднаписание» разглажено на скатерти, и Мишка, склонившись над ним в окружении взволнованно сопящих цыган, читал:
– «Приглашение. Просьба к гражданке Нине Молдаванской и ее хору явиться на вечер в ЧК 25 июня в 21 час». Ниже стояла подпись Наркома внутренних дел.
– Вечер в ЧК?.. – растерянно переспросила Нина. – Но… почему?..
– Фу, слава богу! – облегченно выдохнул Мишка, отодвигая бумагу, и улыбнулся, показав белые, крупные, чуть выступающие вперед зубы. – Нинка, не пугайся, это они тебя петь зовут! Сама вот прочти, вечер у них!
– Меня?! А… почему меня?.. – Нина, недоверчиво взяв в руки бумагу, пробежала глазами неровные, отпечатанные на плохой машинке строчки. – Господи… только этого мне не хватало!
– Чьему-чьему хору?!! – вскинулась вдруг худенькая, остролицая певица Таня Трофимова по прозвищу Лиска. – Да что же это за светопреставление! Ромалэ, вы слышали?! У этой раскрасавицы, оказывается, хор свой имеется! Хоревод она у нас теперь! Чичас юбку сымет, штаны с казакином наденет и с гитарой впереди хора встанет! Усы только отрастить надо! Дэвла-дэвла, как родились и крестились, не слыхали такого! Нинка, бессовестная! Отвечай, что ты гаджам-начальникам в запрошлый раз наврала?!
– Господь с тобой, дура, – равнодушно, думая о другом, отозвалась Нина. – Какой такой мой хор? Гаджэ ведь – что они понимают…
– Не закипай, дочка, – добродушно произнес Танькин отец. – Ежу понятно, что им Нинка на праздник нужна, а про нас для приличия прописали. Ну, девочка, возьмешь-то «хор свой» с собой?
– Ай, дядя Петя, не до шуток сейчас, ей-богу… – досадливо отмахнулась Нина и повернулась к Скворечико, который, стоя у окна, озабоченно перечитывал бумагу. – Миша! Ну, скажи, что делать-то?
– И правда, Мишка, что ты там встал, как статуя? Что делать-то?! – вклинилась Танька.
– А что тут поделаешь, – пожал плечами Скворечико, кладя бумагу на подоконник и серьезно глядя на взволнованную Нину. – Первый раз, что ли? Одевайтесь, наряжайтесь, и – вперед, в атаку! А мы сзади подыграем…
– Бессовестный, голова твоя пустая, смеешься еще, ух!!! – рассвирепела Танька. – Это тебе не в клубе перед солдатней скакать! Это же Чека! Им не потрафишь – сейчас всем хором в подвале окажешься!
– Нужна ты им, дура… – неуверенно буркнул дядя Петя. – Там и без тебя найдется кем подвалы-то набивать.
Но цыган уже словно волной сняло с места – и шумное пестрое кольцо заволновалось, загалдело вокруг Мишки и Нины.
– Эй, вы, разученые, как будем-то? Сколько народу поедет, кого брать? Чего петь станем? Плясуний молодых – хоть реку ими пруди, а петь кто будет? Кроме Нинки-то – кто им нужен?
– Но как же, скажи, им петь романсы? – растерянно спросила Нина, глядя в черные блестящие глаза Мишки. – И я-то почему, господи?..
Мишка молчал.
Поздней ночью на столе горела оплывшая свеча. Из открытого окна тянуло сквозняком, пламя свечи билось, отпугивая суетящихся вокруг него мотыльков, но вздувавшаяся над подоконником кружевная занавеска опускалась, огонек выравнивался, и мотыльки возвращались, крутясь вокруг свечи бледным хороводом. Из сада пахло расцветающим жасмином, с крыши доносились утробные завывания кошек. Мишка Скворечико сидел за столом и ладонью пытался отогнать ночных бабочек от свечи. Нина, кутаясь, несмотря на теплую ночь, в огромную шаль с кистями, нервно ходила по залу. Ее тень металась по стене, то вырастая до огромных размеров, то съеживаясь в лохматое пятно.
– Мишка, я боюсь, понимаешь – боюсь, – шептала Нина, глядя в темный квадрат окна. – Вот животом чую – не к добру все… Да выкинь ты ее, ради господа, как ты можешь ЭТО в руки брать?!
– Пхэнори, ты дура, – спокойно отозвался Мишка, выпуская из ладони суматошно метнувшуюся к окну мохнатую бабочку. – Что тебе не к добру? Перед чекистами выступать? Тебя же не на допрос зовут…
– Лучше бы на допрос, – с сердцем произнесла Нина, остановившись у окна и судорожно скомкав в кулаке занавеску. – Ты понимаешь, что здесь, в Москве, меня не знает никто? Что я Ниной Молдаванской только в Питере стала, там и пела, там и известная была? Здесь, в Москве, другие певицы! И Танька, между прочим, правильно взвилась, она-то тут познаменитей меня будет!
– Ну и что? Может, кто-то из ЧК в Питере бывал. Видел тебя. Всякое же случается, а в Москве сейчас столько народу разного намешано… – Мишка задумался. – Как хочешь, сестренка, только, по-моему, зря у тебя хвост горит. Я вот считаю, что это даже и лучше.
– Дэ-э-эвлалэ… – зашлась горестным стоном Нина. – Да что тут лучше, что тут может быть лучше, я этих чекистов до смерти боюсь! Я с перепугу последний голос потеряю! И скажи на милость, как я с такой головой на люди выйду! Волос едва отрос, торчит, как у беспризорника!
– Сейчас у пол-Москвы так торчит…
– Я – не пол-Москвы! – взвилась Нина. – Я – артистка! Нина Молдаванская! Я не могу с таким гнездом вороньим на голове перед людьми выступать!
– Платком повяжешься. – Мишка встал, подошел к ней. Не оборачиваясь, Нина услышала чирканье спички, затем почувствовала перебивший аромат жасмина крепкий запах махры. – Нинка, да ты пойми, что это очень хорошо. Это нашим может сильно помочь. – По тому, что Скворечико начал чуть заметно заикаться, Нина поняла, что он волнуется, и удивленно повернулась к нему.
– Чем поможет, Миша? Мы и так теперь все такие насквозь советские стали, что плеваться хочется! Вспомни, отцовский хор еще в восемнадцатом по рабочим клубам пел! Сам нарком Луначарский его слушал и хвалил! Куда же больше?
– А потом здесь у нас убили комиссара и солдат, – в тон Нине со вздохом добавил Мишка. – И в ЧК до сих пор не знают, чьих это рук дело. Про Мардо никто из наших ведь не скажет.
– Ну и пусть думают, что мы тоже ничего не знаем!
– Нинка! Всю твою семью из дома в тот же вечер как ветром сдуло! Всех до единого! В доме одни покойники остались!
– Но что же маме было делать? И другим тоже?! – завопила, потеряв самообладание, Нина. – Сидеть на месте и дожидаться, пока всех в подвалы посажают? Конечно, они со страху убежали!
– Это мы с тобой понимаем, сестра. А в ЧК не понимают. Вспомни, сколько здесь на Живодерке арестов было, всех на Лубянку перетаскали! Тебя – и то поволокли, не успела ты в Москве показаться! Даже бабку Стешу – и ту вызвали!
Несмотря на серьезность разговора, Нина невольно улыбнулась: цыгане до сих пор в красках рассказывали друг другу, как бабка Стеша, в прошлом – знаменитая певица Степанида Трофимова, всю жизнь пропевшая жестокие романсы для московских аристократов, прикидывалась в ЧК выжившей из ума таборной бабкой: «Ась? Сой? А-а-а, не-е, миленько, по-русски не знаем… Мы – цыганка, не понимаем по-русски… Хде? Третьего дни?.. Ни-и, дома не были… А сой-то было – вясна али лето?.. Зима-а-а… Так спали ж… Закон у нас такой, зимой – спать… Сой? Мы? Ни-и, родненький, мы не медведи, мы цыгане, люди дикие, ты себе там все как следоваит пропиши…»
– Нинка, если этот вечер в ЧК хорошо отпоем – нам от Советов веры больше будет, – внушительно произнес Мишка. – Они знать должны – цыгане с властью дружат.
– Морэ, но что же им петь?! – Нина в отчаянии запустила пальцы во встопорщенные короткие кудри. – Что?! Это же все-таки не солдатня в казармах! «Валенками» не отделаешься!
– Все то же самое, – отмахнулся Мишка.
– Ты ведь сам говоришь – нужно, чтоб они поняли, что мы до пяток советские… – Нина задумалась, морщась от соловьиного щелканья, перебивающего ее мысли. – Может, «Интернационал» им спеть?
– Можно на всякий случай… только кто его знает, кроме нас с тобой? – усмехнулся Мишка.
– Научим, ничего! – Нина одним прыжком оказалась за столом. – Ты сколько куплетов помнишь? Я – только первый, да еще в середке немножко!
– А я весь конец напрочь забыл, – сознался Мишка. – Принеси бумажки, запишем, а завтра с цыганами сражаться пойдем.
Скворечико оказался прав: битва на следующий день состоялась такая, что Большой дом дрожал каждым своим бревнышком.
– Я?! «Тырцанал»? Для Чеки?! – верещала на всю Живодерку Танька Трофимова, воинственно уткнув в бока кулаки. – Да вы ума лишились, милые мои?! Я за всю жизнь слов не выучу, их там как блох у собаки, и ни одного человеческого! Скворечико, миленький, ты башку мою пожалей, а! Давай я лучше «ура» кричать буду после каждой песни! Громко! Так постараюсь – по всей Лубянке стекла вылетят!
– Слыхал? – тихо спросила Нина у Мишки, который стоял посреди комнаты с листочком бумаги в руках и, чтобы не смеяться, делал вид, что старательно изучает текст «Интернационала». – Слов она не выучит! «За жаркий миг, за шепот сладострастья…» всю жизнь учила как миленькая, а теперь – не выучит… Ох уж мне цыгане… Лень-матушка вперед их всех родилась!
Остальные хористы только переглядывались и, понимая, что не родился еще тот, кто перекричит Таньку Трофимову в минуту ее вдохновения, благоразумно молчали.
За столом сурово откашлялся Танькин отец, дядя Петя, который до этого всецело, казалось, был поглощен настройкой своей знаменитой гитары, которую цыгане называли «душедергалкой».
– Ты, сорока, помолчи, не голоси на всю улицу, – внушительно произнес он, посмотрев на взъерошенную дочь хмурым взглядом из-под бровей. – И вы послушайте, что я скажу. Скворечико дело говорит. Он с этими красными всю ихнюю войну проскакал, и коли жив да цел остался, значит, дураком не был. И «Интырцынал» тебя, дуру, учить заставляет не для собственной радости. Поди, в солдатах той песни до тошнотиков наслушался. А господа наши сгинули и уж не вернутся… Пора бы вам, дурням, это себе в башку вбить. И начать по-советски жить переучиваться, коли не хотите детей своих голодом уморить. Скворечико, как думаешь, на сколько аккордиков эта песня ляжет?
И Нина поняла, что они с Мишкой победили.
Посовещавшись, романсов решили не петь вовсе: «Чеке господское не нужно». В арсенале хора имелись веселые, абсолютно благонадежные «Валенки», «Серьги-кольца», «Заморозил-зазнобил». Знаменитый Танькин романс «Эй, ямщик, гони-ка к «Яру» Мишка, поколебавшись, решил все же оставить, но лишь после того, как буржуйское «к «Яру» заменили на народное «в табор». «Что ты, барин, щуришь глазки» и «Пара черных цыганских глаз» были отметены, несмотря на слезные причитания солисток, по причине старорежимности и упадничества.
– Ну, а ты пой, что всегда пела, – посоветовал Мишка взволнованной Нине. – Если они тут тебя знают и отдельной строкой приглашают, значит, им твои песни и нужны.
– Какие, господи?! – вскинулась Нина. – Сам же сказал – романсов не надо!
– Ну… тогда что велят, то им и споешь, – отмахнулся Мишка, которому в самое ухо визжала Танька, оскорбленная до глубины души тем, что ее лучшие романсы оказались ненужными.
Нина снова встревожилась. Не слушая больше, как буянит Танька, как басит, уговаривая дочь, дядя Петя, как шумят нестройным хором остальные цыгане, она подошла к открытому окну и посмотрела вниз. В палисаднике буйно цвели разросшиеся пионы, за которыми никто не ухаживал с семнадцатого года. «Ничего им не делается… – подумала Нина, глядя на махровые, упругие бело-розовые цветы. – Растут сами по себе, надо хоть крапиву вокруг них выдернуть… Дэвлалэ, какое же платье надеть? Атласное, верно, не надо, еще в ЧК подумают, что богато живем. А никакого другого же нет… И если плясать, так атласное не годится… Может, просто юбку с кофтой, и шаль сверху повязать какую попроще?..» Бестолковые, короткие мысли суетились в голове, и Нина сама не замечала, как старается спрятаться за ними от главного – от того, что иглой сидело в голове со вчерашнего дня, с той минуты, как красноармеец положил на стол желтый конверт. Перед глазами неотступно стоял тесный кабинет с заваленным бумагами столом, открытое окно, за которым сходились грозовые тучи, грубоватое, темное, усталое лицо со светлыми глазами, широкие плечи, серый выцветший френч… Она даже имени следователя не могла вспомнить, и только фамилия – Наганов – билась в висках весь этот месяц. И прикосновение горячей ладони, накрывшей ее руку на медном шарике дверного замка, тоже ощущалось всей кожей, и негромкий хрипловатый голос отчетливо звучал в ушах: «Не могли ли мы встречаться прежде?» Нина никому не говорила о том, что уже целый месяц ломает голову: где они виделись с этим человеком? Сама она ничего не вспомнила, но почему-то уверена была, что следователь не придумал, что – да, случилась когда-то встреча, которая в памяти у Нины не сохранилась, потому что мало ли лиц проплывало перед глазами в те дни, когда она пела в ресторане «Вилла Родэ» и ее знал весь Петроград. А этот Наганов почему-то запомнил, но… но кто же он? Уж такую фамилию она бы не забыла… Нина злилась на себя, не понимая, отчего этот пустяк так мучит ее уже столько дней, ведь вполне могло оказаться, что Наганов просто пытался ухаживать, кто их знает, чекистов, – может, тоже мужики… Ловя себя на столь крамольной мысли, Нина задыхалась от ужаса и бросалась к зеркалу: «Посмотри на себя, чучелище! Посмотри на свою морду черную! И на патлы стриженые! На кого ты похожа стала, у тебя же – вон, седина светится! Два волоса целых! Три! Четыре! Вообразила о себе невесть что! Как же, сейчас вся Чека тебе в ноги повалится и разум потеряет! Позабудь, милая, кончились деньки золотые, тебе теперь только о дочерях думать, чтоб они, бедные, с голоду не померли!» Однако, безжалостно выдирая у себя над виском четыре седых волоса, Нина знала, точно знала: она не ошибается.
Но время шло. Минула неделя, другая, на допросы ее больше не вызывали, обрадованные цыгане бурно поздравляли Нину с тем, что она «дешево отделалась». Та соглашалась, досадуя в глубине души, что разрешения на выезд из Москвы ей в ЧК наверняка не дадут, а как хотелось уехать поскорее в Смоленск, к дяде и братьям!.. Но Нина понимала, что об этом нечего и думать, по крайней мере до осени. А осенью… мало ли что может быть? Слухи до Москвы доходили смутные, но цыгане знали, что разбитая белая армия нынешней весной снова подняла голову, что вся Таврия подчинена барону Врангелю, которого вовсю поддерживают союзники, что, возможно, господа все же вернутся…
«Скворечико, как думаешь, правда это?» – осторожно спрашивала она Мишку.
«Навряд ли, – пожимал плечами тот. – Белые слабы сейчас, ничего у них не выйдет. Это так… временно. Скоро все закончится».
Нина только вздыхала, чувствуя, что Скворечико прав.
Прав Мишка был и сейчас, когда говорил, что после успешного концерта в ЧК положение хоровых цыган укрепится в глазах власти. Но предстоящее выступление пугало Нину отчаянно – тем более что она чувствовала: Наганов причастен к этому приглашению. И к тому, что приглашали именно Нину Молдаванскую, петербургскую певицу, а не просто хор с Живодерки, известный всей Москве, который старые москвичи по привычке называли «васильевским» – по фамилии Нининого прадеда. «Глупости, глупости, ты с ума сошла!» – в сотый раз ругала себя она, глядя в палисадник на подергивающиеся сумерками пионы. Но ругань не помогала, и как никогда хотелось прыгнуть в окно, бегом домчаться до вокзала и сесть в первый попавшийся поезд с первыми встречными цыганами. От липкого ужаса холодела спина, а главное – никому нельзя было рассказать об этом. Никому – ни Мишке, ни другим цыганам.
Вечером поднялся ветер. Похолодало. Небо покрылось рваными клочьями облаков, закатное солнце залило его багровым киселем, изрезанным на западе длинными полосами сизых туч. Глухо шумели, качаясь и стуча ветвями, старые ветлы, летели вдоль безлюдной Живодерки сорванные ветром листья. Окна в Большом доме были красны от отражения падающего за Страстной монастырь солнца. «Ох, плохой знак…» – обреченно подумала Нина, сидя за столом вместе с другими и теребя кисти шали. Но в эти дни она так устала волноваться, что беспокойство уже не давило камнем на сердце, а едва зудело, как притихшая зубная боль. Даже развернувшийся минуту назад и сейчас находящийся в апофеозе скандал, который закатила Танька, не раздражал ее: только от особенно оглушительных Лискиных фиоритур, когда закладывало уши, Нина слегка морщилась и продолжала смотреть в залитое красным светом окно. В висках стучало: «Дура, дура, какая же дура…» – причем касалось это и Таньки, и ее самой.