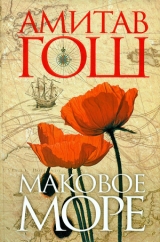
Текст книги "Маковое Море"
Автор книги: Амитав Гош
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Не выпуская веревки змея, Нил призвал своего камердинера – долговязого уроженца Бенареса по имени Паримал.
– Возьми шлюпку и сплавай на тот корабль, – приказал он. – Расспроси серангов, кто владелец и сколько на борту офицеров.
– Слушаюсь. – Паримал сложил ладони у груди и поклонился.
Затем он исчез внизу, а вскоре от плавучего дворца отвалила узкая лодка, толчками заскользившая к шхуне. Не прошло и получаса, как слуга доложил, что корабль принадлежит калькуттскому саибу Бернэму.
– Сколько офицеров? – спросил раджа.
– Тех, кто носит шляпы, всего двое.
– Кто они?
– Один – мистер Рейд из Второй Англии, – отвечал Паримал. – Другой – лоцман Дафти-саиб. Наверное, господин его помнит – прежде он частенько бывал в вашем доме. Сейчас шлет свое почтение.
Нил кивнул, хотя лоцмана совсем не помнил. Передав лакею веревку змея, он махнул камердинеру, чтобы тот следовал за ним. В своей каюте раджа заточил перо и на листе бумаги написал несколько строк, которые затем присыпал песком. Когда чернила высохли, он отдал письмо Парималу.
– Вот, доставь на корабль и передай лично Дафти-саибу. Скажи, он и мистер Рейд доставят радже удовольствие, если отобедают на его судне. Возвращайся скорее и сообщи ответ.
– Слушаюсь.
Паримал вновь отвесил поклон и попятился в коридор. Сложив пальцы домиком, в глубокой задумчивости Нил сидел за столом; таким его и застала Элокеши, когда впорхнула в каюту, звеня ножными браслетами и благоухая цветочным маслом. Она прыснула и ладошками закрыла радже глаза:
– Всегда ты один! Нехороший! Бяка! Вечно нет времени для твоей Элокеши!
Нил отвел ее руки и улыбнулся. Калькуттские ценители изящного не считали Элокеши прелестницей: слишком круглое лицо, излишне прямой нос и чрезмерно пухлые губы нарушали общепринятый стандарт красоты. Предметом ее гордости были густые и длинные черные волосы, которые она распускала по плечам, вплетая лишь пару-тройку золотых кисточек. Однако раджу больше привлекала ее душа, нежели внешность; искрометный нрав Элокеши контрастировал с его серьезностью: она была гораздо старше и весьма искушена в светской жизни, но оставалась такой же смешливой игруньей, как в те времена, когда потрясающе легконогой танцовщицей порхала в тукрах и тихаях. [15]15
Тукры и тихаи – индийские танцевальные композиции.
[Закрыть]
Элокеши вспрыгнула на большую кровать под балдахином, установленную в центре каюты; на скрытом шарфами лице виднелись только надутые губки.
– Десять дней на этом корыте! – простонала Элокеши. – Одна-одинешенька, скукота, а ты даже не взглянешь на меня!
– Почему одна? А подружки? – Нил рассмеялся и кивнул в коридор, где, дожидаясь хозяйку, на корточках сидели три девушки.
– Да ну… Это же мои танцовщицы, – прикрыв ладошкой рот, хихикнула Элокеши.
Дитя города, привыкшее к его столпотворению, она потребовала, чтобы в необычной поездке в деревню ее сопровождала свита: эти три девушки были ее служанками, ученицами и незаменимыми помощницами в оттачивании мастерства. Сейчас, по мановению руки хозяйки, они прикрыли дверь и удалились. Однако далеко не ушли и кучкой сели на палубе, дабы охранять свою госпожу от чьего-либо непрошеного вторжения; время от времени они украдкой заглядывали в каюту сквозь щели жалюзи на тиковой двери.
Оставшись с раджой наедине, Элокеши набросила ему на голову свой длинный шарф и потянула на кровать.
– Ну иди сюда, – капризно приговаривала она, – ты уж там засиделся.
Раджа подошел, и она повалила его на гору подушек.
– Теперь скажи, – несчастным голосом продолжила Элокеши, – зачем ты потащил меня в такую даль? Ведь так и не объяснил.
Позабавленный ее наигранным простодушием, Нил улыбнулся:
– Ты со мной уже семь лет, но так и не видела Расхали. Вполне естественно, что мне захотелось показать тебе свое поместье.
– Только показать? – Она воинственно тряхнула головой, прибегнув к арсеналу жестов из танца оскорбленной любовницы. – И все?
– А что еще? – Раджа потеребил ее локон. – Разве этого мало? Тебе не понравились окрестности?
– Конечно понравились, место совершенно роскошное. – Взгляд Элокеши затуманился, словно она припомнила украшенный колоннами дом на речном берегу, огороды и сады. – Столько людей, и так много земли! – прошептала она. – Вот я и подумала о том, как мало для тебя значу.
Нил взял ее за подбородок:
– В чем дело? Ну-ка, ну-ка… Что у тебя на уме?
– Даже не знаю, как сказать… – Пальчики Элокеши принялись расстегивать костяные запонки, наискось бежавшие по груди его курты. [16]16
Курта – в Индии длинная широкая рубаха.
[Закрыть] – Представляешь, что сказали мои девушки, увидев твое громадное поместье? Госпожа, попросите у раджи немного земли – вам же надо где-то поселить родственников… Да и о собственной старости нужно подумать.
– От твоих девушек одни неприятности, – раздраженно фыркнул раджа. – Лучше бы ты их прогнала.
– Они обо мне заботятся, только и всего, – промурлыкала Элокеши, заплетая косички из поросли на его груди. – Что дурного, если раджа даст землю своей содержанке? Твой отец всегда так поступал. Говорят, его женщинам стоило попросить, и они тотчас получали украшения, шали и службу для родичей…
– Ну да, – криво усмехнулся Нил. – И родичам платили жалованье, даже если их ловили на воровстве.
Пальчики пробежали по его губам.
– Видишь ли, он знал цену любви.
– Ясно, в отличие от меня.
Потомок рода Халдеров и впрямь жил весьма скромно: обходился единственной каретой с парой лошадей и умещался в одном непритязательном крыле семейного особняка. Не такой сладострастник, как отец, он не имел других любовниц, кроме Элокеши, однако на нее свою любовь расточал без остатка, а его отношения с женой не выходили за общепринятые рамки исполнения супружеского долга.
– Неужели ты не понимаешь, Элокеши? – грустно сказал Нил. – На жизнь, какую вел отец, денег требуется больше, чем может дать имение.
Любовница вдруг обеспокоилась, в глазах ее вспыхнул интерес:
– То есть? Всем известно, что твой отец был одним из богатейших людей города.
Раджа напрягся:
– Лотос растет и в мелком пруду.
Элокеши отдернула руку и выпрямилась.
– Что ты имеешь в виду? Объясни.
Нил понял, что и так уже сказал слишком много; он улыбнулся и скользнул рукой под блузу любовницы.
– Ничего, пустяки.
Иногда ужасно хотелось рассказать ей о проблемах, доставшихся от отца, но раджа слишком хорошо ее знал: если Элокеши проведает, насколько велики его затруднения, она предпримет кое-какие меры. И дело не в ее алчности, нет, просто она, несмотря на все свое жеманство, чувствует ответственность за тех, кто от нее зависит. В этом они похожи. Нил пожалел, что проговорился об отце и преждевременно дал повод для тревоги.
– Не бери в голову, Элокеши. Какая тебе разница?
– Нет, скажи. – Она вновь повалила раджу на подушки. Калькуттская гадалка уведомила ее о финансовых неприятностях заминдара. Тогда она не придала этому значения, но сейчас почувствовала: что-то и впрямь неладно; возможно, надо пересмотреть свои варианты. – Говори. Последнее время ты ужасно задумчивый. Что случилось?
– Тебе не о чем беспокоиться. – Раджа не лгал: при любом обороте дел он позаботится, чтобы она была обеспечена. – Тебе, твоим девушкам и твоему дому ничто не грозит…
Его перебил голос камердинера, яростно препиравшегося с девицами: Паримал требовал, чтобы его впустили, но преданные служанки грудью встали на его пути.
Нил поспешно укрыл Элокеши и крикнул:
– Пусть войдет!
Камердинер шагнул в каюту, старательно отводя взгляд от холма на кровати.
– Господин, саибы охотно придут. Они будут здесь сразу после заката.
– Превосходно. Устрой все как при отце, я хочу угостить их на славу.
Паримал испугался, ибо раньше хозяин таких приказов не отдавал.
– Но как устроить, господин? В столь короткий срок… Из чего?
– У нас есть шампанское и красное вино. Ты сам все знаешь.
Дождавшись, когда дверь закроется, Элокеши сбросила покрывало:
– Что такое? Кто придет? Что надо устроить?
Нил рассмеялся и притянул ее к себе:
– Ты задаешь слишком много вопросов. Бап-ре-бап! Пока довольно!
*
От неожиданного приглашения на обед мистер Дафти стал болтлив и пустился в воспоминания. Опершись на перила, они с Захарием стояли на палубе.
– Ох, мой мальчик! – вздохнул лоцман. – Уж я бы порассказал вам о старом радже, которого называл Шельма Роджер! – Он засмеялся и пристукнул тростью. – Видели б вы того черномазого барина! Вот уж классный абориген – знать ничего не хотел, кроме пьянки, девиц и гулянок! Никто не мог перещеголять его застолья. Сверкают зеркала, пылают свечи и лампы, орды носильщиков и лакеев, разливанное море французской бормотухи и ледяной шипучки! А закусон! У Роджера была лучшая в городе кухня. Тут вам не сунут пишпаш или коббилимаш. Жаркое и плов были весьма хороши, но мы, стреляные воробьи, ждали, когда подадут рыбу латес с карри и чички со шпинатом. [17]17
Пишпаш – рисовый суп, коббилимаш – блюдо из вяленой рыбы, чички – овощное рагу.
[Закрыть] Уж поверьте, снедь была первоклассной, но ужин – это лишь затравка, настоящий шурум-бурум начинался потом, в раздевалке танцовщиц. Там вас ждал еще один чакмак! Для господ и дам расставляют стулья. Туземцы умащиваются на ковриках и платках. Бабу [18]18
Бабу – здесь: индусы.
[Закрыть] пыхтят кальянами, саибы раскуривают сигары. Кружат танцовщицы, музыканты бьют в барабаны. О, старый развратник знал толк в веселье! Бывало, хитрый шайтан заметит, что вам приглянулась какая-нибудь бабешка, и подсылает слугу. Малый кланяется и приплясывает вокруг вас, будто ничего такого. Все вокруг думают, что вы обожрались сластей и вам срочно надо в какаториум. Но вас провожают не в гальюн, а в укромную комнатушку, чтобы вы потешили своего озорника. Никому и в голову не придет, что сейчас вы втыкаете индюка девице между баками и вкушаете черную ягодку. – Дафти ностальгически вздохнул. – Ох, славно баламутили на этих посиделках! Нынче уж нигде вам так не пощекочут шалуна.
Захарий кивал, будто все понял.
– Стало быть, вы хорошо знакомы с тем, кто приглашает нас отобедать?
– Не с ним, а с его отцом. Сынок схож с папашей не больше, чем нектандра с красным деревом. – Лоцман неодобрительно хрюкнул. – Чего я терпеть ненавижу, так это ученых туземцев. Старик знал свое место, его нипочем не увидишь с книжкой. А молокосос напускает на себя – ну прям тебе важная шишка. Вообще-то их род не шибко знатный, дворянство им пожаловали как бакшиш за верность Короне. – Теперь мистер Дафти презрительно фыркнул. – Нынче всякий бабу, разжившийся парой акров, корчит из себя невесть что. А этот молодой паршивец еще цедит через губу, будто персидский падишах. Услышите, как он чешет по-английски – ну точно макака, что вслух читает «Таймс». – Толстяк ухмыльнулся и крутанул трость. – Ну вот еще развлечение, кроме жратвы: ученая обезьяна.
Помолчав, лоцман хитро подмигнул:
– Ходят слухи, что скоро молодцу кердык. Говорят, казна его шибко оскудела.
Захарий больше не мог притворяться, что все понимает.
– Ке… кердык? – сморщился он. – Ну вот опять слово, которого я не знаю.
Ответом на честное признание стала суровая отповедь: дескать, хватит уже выставлять себя безмозглым гуддой.
– Гудда – это осел, если вас интересует, – пояснил лоцман. – Здесь Индия, и саибу негоже выглядеть набитым дураком. Если не врубиться что к чему, вам каюк, и ждать недолго. Это не Балтимор, тут джунгли, где в траве затаились кобры, а на деревьях макаки. Коли не угодно, чтобы вас надули как последнего олуха, ошарашьте аборигенов парой словечек на зуббен.
Поскольку выволочка была сделана строгим, но снисходительным тоном наставника, Захарий отважился уточнить значение слова «зуббен».
– Местный жаргон, голуба, – терпеливо вздохнул лоцман. – Освоить его легко, но пользоваться надо с умом. Просто слегка пересыпайте им свою речь, перемежайте с бранью. Упаси вас бог слишком чисто говорить на урду или хинди – примут за туземца. И не мямлите, а то решат, что вы чичи.
Захарий беспомощно помотал головой:
– Что такое чичи, мистер Дафти?
– Чурка… чучмек… – Лоцман укоризненно приподнял бровь. – Ну, цветной, понимаете? Такое здесь не катит, дорогуша, с дегтем ни один саиб за стол не сядет. Тут с этим строго. Надо оберегать наших биби, в смысле дамочек. Одно дело, когда сам изредка макнешь стило в чернильницу. Однако гиену нельзя пускать в курятник. Чуть что, и черномазого засекут кнутом.
Захарий уловил неприятно кольнувший намек. За два дня он успел полюбить толстяка лоцмана, под личиной крикуна и грубияна угадав добрую и благородную душу. Казалось, мистер Дафти обиняком его предупреждает.
Захарий побарабанил пальцами по перилам и отвернулся:
– Пожалуй, мне стоит переодеться.
– Да уж, надо предстать во всей красе, – кивнул лоцман. – Слава богу, я догадался прихватить чистые подштанники.
Вскоре боцман Али, которого вызвали из рубки, появился в каюте и разложил на койке одежду. Захария уже не прельщала возможность щеголять в чужих роскошных нарядах, и он испуганно воззрился на голубой китель из великолепной саржи, черные нансуковые панталоны, полотняную сорочку и белый шелковый галстук.
– Ну уж будет, – устало сказал. – Надоело выкобениваться.
Боцман вдруг стал неуступчив.
– Носить, – тихо, но твердо сказал он, встряхивая брюки. – Зикри-малум теперь важный саиб. Надо правильный одежда.
Захария удивила серьезность его тона.
– Вот еще! Тебе-то на кой черт это сдалось?
– Малум надо быть настоящий саиб. Ласкары хотеть он теперь быть капитан-мапитан.
– Чего?!
Захария вдруг осенило, почему боцману так важно его преобразить: ему надлежит стать командиром, «свободным мореплавателем», в которые ласкарам путь заказан. Боцман и команда считали его почти своим, но в то же время он мог принять немыслимый для них облик, и потому его успех станет их успехом.
Придавленный грузом ответственности, Захарий рухнул на койку и закрыл руками лицо.
– Ты не понимаешь, о чем просишь, – выдохнул он. – Полгода назад я был всего лишь корабельным плотником. Подфартило – стал вторым помощником. Но про капитана забудь – это не по мне. Ни теперь, ни потом.
– Суметь. – Боцман подал рубашку. – Теперь суметь. Зикри-малум очень хорош. Суметь быть благородный господин.
– С чего ты решил, что я справлюсь?
– Зикри-малум знать благородный разговор. Моя слышать, ты говорить мистер Дафти, как настоящий саиб.
– Что? – вскинулся Захарий.
Он был встревожен тем, что боцман подметил его способность к разным манерам. Да, если нужно, он умел болтать, что твой ученый законник, – не зря же мать заставляла его сидеть за столом, когда хозяин, от которого она родила, развлекал гостей. Однако матушка не жалела оплеух, заметив в нем спесь или чванство. Она бы перевернулась в гробу, если б узнала, что сынок разыгрывает из себя черт знает кого.
– Ты сам хотеть, ты стать настоящий господин.
– Нет! – Захарий долго терпел, но сейчас взбунтовался. – Хватит! Не хочу слушать этот вздор!
Он вытолкал боцмана из каюты, шмякнулся на койку и закрыл глаза. Впервые за долгое время мысли его унеслись к последнему дню на балтиморских верфях. Он вновь увидел залитое кровью темнокожее лицо, выпученные глаза и проломленный гандшпугом череп. Будто наяву, четверо белых плотников окружили Фреди Дугласа и вопили: «Кончай его! Уделай нигера! Вышиби ему мозги!», а Захарий и другие цветные (в отличие от Дугласа не рабы) одеревенели от страха. Он слышал голос Фреди, который не укорял их за трусость, но призывал бежать без оглядки: «Все из-за места… белые не станут работать с черным… не важно, свободный он или раб… они избавляются от нас, чтоб не отнимали их хлеб…» Вот тогда-то Захарий решил оставить верфи и завербоваться на корабль.
Он встал с койки и открыл дверь, за которой увидел ожидавшего боцмана.
– Ладно, входи, – уныло сказал Захарий. – Только давай мухой, пока я не передумал.
Едва он оделся, как услышал гулкие крики с берега и ответные вопли с корабля. Через пару минут в дверь постучал мистер Дафти:
– Вы не поверите, но к нам пожаловал не кто иной, как сам мистер Бернэм! Берра-саиб! Так не терпится увидеть шхуну, что прискакал верхом. Я выслал гичку, сейчас он будет здесь.
Лоцман смолк и, прищурившись, внимательно изучил наряд Захария. Потом стукнул тростью и вынес приговор:
– Высший класс, мой юный друг! Этакому одеянию позавидует и кизилбаш.
– Рад, что выдержал испытание, сэр, – мрачно ответил Захарий.
За его спиной боцман Али прошелестел:
– Что я говорить? Теперь Зикри-малум раджа-саиб.
3
Чамарс представлял собой хутор, где обитали одни кожемяки. Дити и Кабутри было негоже туда входить, но, к счастью, Калуа жил на отшибе, неподалеку от гхазипурского тракта. С дороги Дити частенько видела его колымагу и хижину, больше похожую на хлев. Сейчас она подошла чуть ближе и крикнула:
– Эй, Калуа! Чего делаешь?
Не получив ответа на три-четыре оклика, Дити запустила камушком в темноту бездверной халупы. Послышался звяк, возвестивший, что голыш угодил в кувшин или другую глиняную посудину.
– Калуа! – вновь позвала Дити.
В лачуге что-то зашевелилось, темнота дверного проема стала гуще, и из нее возник согнувшийся в три погибели возчик. Словно в подтверждение того, что он обитает в хлеву, следом высунулись морды двух белых бычков, возивших его тележку.
Непомерно высокий детина, на любой ярмарке Калуа возвышался над толпой, и даже ловкачи на ходулях уступали ему в росте. Однако свое прозвище (Калуа – черный) он получил из-за оттенка кожи, напоминавшей старое засаленное точило. Говорили, малый вырос в гиганта, потому что в детстве был страшным мясоедом, и родители-кожемяки удовлетворяли его ненасытный аппетит падалью – остатками со скелетов дохлых коров и быков. Еще болтали, что телом он вымахал за счет ума и остался доверчивым простодушным увальнем, какого облапошит даже ребенок. После смерти родителей братьям и другим родичам не составило труда лишить простофилю законной крохи наследства; он не роптал, даже когда его выжили из отчего дома и поселили в хлеву.
Удача явилась нежданно-негаданно в виде трех отпрысков зажиточного помещичьего рода – заядлых игроков, чьим любимым занятием было делать ставки в схватках борцов и силовых состязаниях. Прослышав об удальце гиганте, они отправили за ним повозку и приняли в своем доме на окраине города.
– О какой награде ты мечтаешь? – спросили помещики.
Калуа долго скреб голову, а потом ткнул пальцем в тележку:
– Малик, я бы хотел иметь такую повозку, чтобы зарабатывать на жизнь.
Троица кивнула – мол, он получит желаемое, если выиграет схватку и пару раз продемонстрирует свою силу.
Калуа победил во всех матчах, легко одолев местных борцов и силачей. Юные господа получили хороший навар, а великан – свою тележку. Ничего удивительного, что после этого робкий миролюбивый детина хотел закончить спортивную карьеру, ибо не имел других амбиций, кроме извозчичьих. Однако не тут-то было: слава о его молодецкой удали достигла августейших ушей его высочества магараджи Бенареса, и тот пожелал, чтобы гхазипурский силач сразился с его придворным чемпионом.
Поначалу Калуа отнекивался, но помещики его улещивали, а потом пригрозили, что отберут повозку и быков; тогда великан отправился в Бенарес, где на широкой площади перед дворцом Рамгарх потерпел свое первое поражение – уже на старте схватки его отправили в нокаут. Что ж, результат закономерен, сказал довольный магараджа, ведь борьба – состязание не только силы, но и ума, а в последнем Гхазипур вряд ли когда одолеет Бенарес. Родной город был унижен, Калуа вернулся с позором.
Однако вскоре пошли слухи, что причина его поражения в ином: мол, в развратном Бенаресе у помещиков родилась мысль случить гиганта с женщиной. Они позвали друзей и заключили пари: отыщется ли дамочка, которая впустит в себя этого двуногого зверя? Юные шалопаи наняли известную танцовщицу Хирабай и вместе с избранной публикой спрятались за ширмой. Неизвестно, чего ожидала красотка, но, увидев Калуа в одной лишь тряпице вкруг чресл, она якобы возопила: «Этому жеребцу под стать кобыла, а не женщина!»
Потому-то оскорбленный Калуа и проиграл схватку, говорили во всех уголках Гхазипура.
Так вышло, что Дити стала единственным человеком, который мог бы поручиться за верность этой истории. Как-то вечером, накормив мужа, она вдруг обнаружила, что в доме нет воды; оставлять посуду немытой было нельзя – накликаешь призраков, оборотней и упырей. Ничего, дело пустяковое: ночь светлая, лунная, до Ганга рукой подать. Пристроив кувшин на бедре, через маковое поле Дити пошла к серебрившейся реке. Она уже почти вышла на песчаный берег, когда услышала перестук копыт, а потом в лунном свете увидела четырех всадников, рысивших со стороны Гхазипура.
Встреча с конником не сулила одинокой женщине ничего, кроме неприятностей, а уж с четырьмя кавалеристами, скачущими бок о бок, и подавно. Не теряя времени, Дити нырнула в маки, доходившие ей до пояса. Всадники приблизились, и она поняла, что ошиблась: верховых было трое, четвертый передвигался на своих двоих. Дити сочла его конюхом, но вот кавалькада подъехала совсем близко, и она разглядела, что пешего тащат на аркане, точно лошадь. Исполин, которого Дити приняла за всадника, был не кто иной, как Калуа. Теперь она распознала и наездников, которых в Гхазипуре все знали в лицо, – троица помещиков-игроков. Один крикнул: «Давай здесь, место хорошее, вокруг ни души!»; по голосу было ясно, что он пьян. Едва не поравнявшись с Дити, всадники спешились; двух коней они связали вместе и отогнали пастись на маковом поле. Третью лошадь, огромную вороную кобылу, подвели к заарканенному Калуа. Великан всхлипнул, повалился на колени и стал хватать помещиков за ноги:
– Май-бап, хамке маф карелу… Простите, господа… я не виноват…
Ответом были пинки и брань:
– Ты ведь нарочно проиграл! Скажешь, нет, сволочь?..
– Знаешь, сколько мы потеряли?..
– Что там Хирабай говорила?..
Дернув за веревку, помещики заставили Калуа встать и подтолкнули его к кобыле, махавшей хвостом. Рукоятью хлыста с великана сдернули набедренную повязку. Один помещик держал кобылу под уздцы, а двое других принялись стегать Калуа по обнаженной спине, пока он не прижался пахом к лошадиному крупу. Гигант испустил вопль, не отличимый от лошадиного ржанья.
Помещики развеселились:
– Видал? И регочет, будто жеребец…
– Скрути ему яйца…
Внезапно кобыла вскинула хвост и испражнилась, изгваздав бедра и живот Калуа. Троица зашлась от смеха. Один помещик ткнул великана хлыстом в задницу:
– Давай, Калуа! И ты облегчись!
Видение надругательства над ней в брачную ночь до сих пор преследовало Дити, и теперь, сидя в маковом схроне, она закусила ладонь, чтобы не вскрикнуть. Значит, такое бывает и с мужчинами? Даже такого силача можно унизить и подвергнуть непереносимой муке?
Дити отвернулась и вдруг увидела двух коней, которые подошли к ней почти вплотную – еще шаг, и они коснутся ее боками. Понадобилась секунда, чтобы отыскать маковую коробочку без лепестков, но с венчиком острых колючек. Подкравшись к жеребцу, Дити зашипела и ткнула его колючей головкой в холку. Конь отпрянул, точно от змеиного укуса, и бросился прочь, увлекая за собой привязанного собрата. Паника мгновенно передалась вороной кобыле, та рванулась и лягнула великана в грудь. Помещики на миг оцепенели, а потом кинулись за лошадьми, оставив на берегу голого, измазанного навозом Калуа.
Дити понадобилась вся ее отвага, чтобы подойти к бесчувственному телу. Удостоверившись, что злодеи не вернутся, она выбралась из своего укрытия и присела на корточки перед распростертым великаном. Он лежал в тени, и было не понятно – дышит или нет. Дити хотела коснуться его груди, но отдернула руку: трогать голого мужчину само по себе тяжкий грех, а если он еще и беспомощен – кара будет немыслимой. Дити воровато огляделась и, бросив вызов незримому свету, опустила палец на грудь великана. Стук сердца уверил ее в том, что Калуа жив, и она скоренько убрала руку, готовая задать стрекача, если дрогнут его веки. Однако глаза его были закрыты, и сам он так недвижим, что Дити отважилась его рассмотреть. Теперь было видно, что, невзирая на колоссальные размеры, он всего-навсего парень, у которого над верхней губой пробивается пушок; сейчас это был не молчаливый чернокожий гигант, дважды в день появлявшийся возле ее дома, а поверженный юноша. Прицокнув языком, Дити наломала речного камыша, которым, как мочалкой, обтерла навоз с неподвижного тела. Потом аккуратно расправила белевшую на земле повязку, чтобы его прикрыть.
До сих пор ей как-то удавалось не замечать наготы великана, но сейчас взгляд ее задержался внизу его живота. Никогда еще она не видела эту мужскую часть так близко; ее снедали страх и любопытство, и опять возникло видение брачной ночи. Будто по собственной прихоти, рука ее скользнула вниз и накрыла штуковину, поразившую нежностью плоти, которая вдруг шевельнулась и чуть набухла. Возникло чувство, что сзади собралась вся деревня и родня наблюдает, как бесстыдница лапает самую неприкасаемую часть этого человека. Дити отпрянула и вновь укрылась в маках.
Казалось, прошла вечность, прежде чем Калуа с трудом встал и ошалело огляделся. Обмотавшись повязкой, он уковылял прочь, и вид его был настолько одурелый, что Дити почти уверилась – здоровяк не ведал о ее присутствии.
С тех пор минуло два года, однако память о событиях той ночи ничуть не потускнела, но обрела преступную яркость. Дити лежала рядом с одурманенным мужем, а мысли ее, вопреки усилиям направить их на что-нибудь иное, своевольно устремлялись к той сцене и четко высвечивали пикантные детали. Смятение было бы еще сильнее, если б вдруг оказалось, что память Калуа смакует те же картины, однако вид его утверждал, что он ничего не помнит. Червячок сомнения все же оставался, и при встречах с великаном Дити старательно избегала его взгляда и всегда закрывала лицо.
И вот теперь, сдерживая волнение, из-под складок истончившегося сари она опасливо наблюдала, как будет воспринят ее приход. Если в глазах Калуа мелькнет хоть искра воспоминания о ее роли в тех ночных событиях, не останется ничего другого, как развернуться и уйти. Возникнет неодолимое препятствие – ведь она не только была свидетелем измывательств (хотя одного этого позора довольно, чтобы сломить человека), но проявила бесстыдное любопытство, если не сказать иначе.
Слава богу, в унылом взгляде великана ничто не промелькнуло. Облаченный в выцветшую безрукавку и грязную повязку, из складок которой бычки тянули застрявшие соломины и травинки, он переминался на своих ногах толщиной с добрый столб.
– Что случилось? – спросил Калуа.
В его хриплом бесцветном голосе не слышалось никаких намеков, и Дити решила, что воспоминания о той ночи, если и были, уже давно покинули сей неповоротливый скудный ум.
– На фабрике мужу стало плохо, – сказала она. – Надо привезти его домой.
Великан немного подумал и кивнул:
– Ладно. Привезу.
Приободрившись, Дити вынула заготовленный сверточек:
– Заплатить могу только этим, другого не жди.
– Что это? – уставился Калуа.
– Опий, – буркнула Дити. – Об эту пору что еще в доме найдется?
Возчик неуклюже шагнул вперед; Дити положила сверточек на землю и, прижимая к себе дочку, тотчас отступила. Немыслимо средь бела дня общаться с представителем иной касты, даже если речь идет о передаче неодушевленной вещицы. Калуа поднял и понюхал сверток. «Может, и он опийный пристрастник?» – мелькнула мысль, которую Дити сразу прогнала. Какое ей дело? Он чужой, не муж. И все же она почему-то обрадовалась, когда возчик разломил кусок надвое и скормил бычкам, охотно сжевавшим угощение. Потом он запряг их в повозку, а Дити с дочкой, свесив ноги, уселись на задке. Вот так, разделенные бамбуковой тележкой, они двинулись в Гхазипур, не давая болтливым языкам повода для сплетни и упрека.
*
В тот же полдень в пятистах милях к востоку от Гхазипура Азад Наскар, более известный по прозвищу Джоду, готовился к путешествию, которое в результате приведет его на борт «Ибиса» и в святилище Дити. Утром он похоронил мать, истратив последние гроши на муллу, чтобы тот помолился над свежим холмиком. Деревенька Наскарпара расположилась в пятнадцати милях от Калькутты, умостившись на безликом пятачке по краю болотистого мангрового леса Сундарбанс. Горстка хижин окружала гробницу суфийского факира, который пару поколений назад обратил жителей в ислам. Если б не могила, деревня давно бы растворилась в болоте, поскольку ее жители не привыкли долго сидеть на одном месте и зарабатывали на жизнь трудом лодочников, паромщиков и рыбаков. Люди скромные, они не помышляли о службе на океанском корабле, но из тех немногих, кто мечтал о матросском жалованье, более всех к нему стремился Джоду. Он бы давно ушел из деревни, если б не хворая мать, которую было нельзя оставить без пригляда. Пока она болела, Джоду за ней ухаживал, переполняясь то раздражением, то нежностью, и сделал все возможное, чтобы скрасить ее последние дни. Теперь оставалось выполнить ее последний наказ, после чего он сможет отыскать боцманов, вербующих ласкаров на морские корабли.
Сын лодочника, Джоду полагал, что уже стал взрослым, поскольку на его подбородке вдруг стала пробиваться густая щетина, требовавшая еженедельных визитов к цирюльнику. Однако бурные физиологические перемены начались недавно, и он к ним еще не привык; казалось, его тело подобно дымящемуся кратеру, который только что возник из океана, но еще не готов извергнуться. Как память о несчастном случае в детстве, его левую бровь пересекал шрам, столь широкий, что издали казалось, будто у него три брови. Это уродство (если слово подходит) было его отличительной чертой, которая через много лет отразится в наброске, занявшем свое место в святилище Дити: три нежных угловатых штриха в овале.
Старая лодка, доставшаяся в наследство от отца, являла собой неуклюжее творение: выдолбленные стволы, связанные пеньковыми канатами. Сразу после похорон Джоду забросил в нее свои небогатые пожитки и был готов к отбытию в Калькутту. Подгоняемая течением, вскоре лодка оказалась у входа в канал, который вел к городским причалам; за право воспользоваться этой узкой артерией, недавно прокопанной предприимчивым английским инженером и известной под именем «канал Толли», Джоду отдал смотрителю последние монетки. Как всегда, здесь было полно судов, и часа два он продирался сквозь город, минуя храм Кали и мрачные стены тюрьмы Алипор. На шири Хугли было не менее людно, и Джоду вдруг очутился в скопище разнообразных судов: битком набитых сампанов и шустрых каноэ, громадин бригантин и крохотных баулия, юрких яликов и неповоротливых шаланд, яхт с ухарскими треугольными парусами и многопалубных катамаранов. В этаком столпотворении были неизбежны случайные столкновения, после которых боцманы и штурвальные матерились, один взбешенный вахтенный плеснул помоями, а похабник рулевой сделал непристойный жест. Подражая морским командирам, в ответ Джоду орал: «Куда прешь? Осади!», чем весьма удивлял ласкаров.








