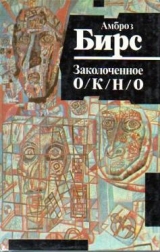
Текст книги "Заколоченное окно"
Автор книги: Амброз Бирс
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Мужчина молча опустился на каменную скамью, стоявшую у края дороги. Против них на востоке холмы горели багрянцем заката, и вокруг стояла та особая тишина, которая обычно предвещает вечер. Какая-то частица этой таинственной и многозначительной торжественности передалась и настроению мужчины. Как в материальном, так и в духовном мире существуют знаки и предвестия ночи. Изредка встречая взгляд женщины и всякий раз при этом чувствуя, что, несмотря на кошачью прелесть, глаза ее внушают ему безграничный ужас, Джиннер Брэдинг молча выслушал рассказ Айрин Марлоу. Из уважения к читателю, у которого бесхитростное повествование неопытного рассказчика может вызвать предубеждение, автор берет на себя смелость заменить ее рассказ собственной версией.
2. Комната может быть слишком тесной для троих, хотя один находится снаружи
В небольшой бревенчатой хижине, состоявшей из одной бедной и просто обставленной комнаты, на полу, у самой стены, скорчившись сидела женщина, прижимая к груди ребенка. На много миль вокруг тянулся густой непроходимый лес. Была ночь, и в комнате стояла полная темнота: человеческий глаз не мог бы различить женщину с ребенком. И все же за ними наблюдали, пристально, неусыпно, ни на секунду не ослабляя внимания: это и есть стержень нашего рассказа.
Чарлз Марлоу принадлежал к совершенно исчезнувшей в нашей стране категории людей: к пионерам лесов – людям, считавшим наиболее приемлемой для себя обстановкой лесные просторы, тянувшиеся вдоль восточных склонов долины
Миссисипи от Больших озер до Мексиканского залива. Более ста лет эти люди продвигались на запад, поколение за поколением, вооруженные ружьем и топором, они отвоевывали у природы и диких ее детей то там, то здесь уединенный участок земли под пашню и почти немедленно уступали его своим менее отважным, но более удачливым преемникам, В конце концов, они пробивались сквозь леса и исчезали в долинах, словно проваливались в пропасть. Пионеров лесов уже не существует, пионеры равнин – те, кому выпала более легкая задача за одно поколение покорить и занять две трети страны, -принадлежат к другому, менее ценному разряду людей. Опасность, труды и лишения этой непривычной, не сулившей выгод жизни в лесной глуши разделяли с Чарлзом Марлоу его жена и ребенок, к которым он, как это свойственно было людям его класса, свято чтившим семейные добродетели, питал страстную привязанность. Женщина была еще молода и поэтому – миловидна, еще не почувствовала всей тяжести одинокой жизни и поэтому – весела. Не наделив ее чрезмерными требованиями к счастью, удовлетворить которые вряд ли могла уединенная жизнь в лесу, небо поступило с ней милостиво. Несложные домашние обязанности, ребенок, муж и несколько пустых книжек целиком заполняли ее время.
Однажды летним утром Марлоу снял с деревянного крюка ружье и выразят намерение пойти на охоту. – У нас хватит мяса, – сказала жена. – Прошу тебя, не уходи сегодня из дома. Ночью мне приснился сон, ужасный сон! Сейчас я не могу припомнить, что это было, но почти уверена – если ты уйдешь, сон сбудется. Как это ни печально, следует признать, что Марлоу отнесся к этому мрачному заявлению не столь серьезно, как следовало бы отнестись к предвестию грядущей беды. По правде говоря, он даже рассмеялся. – Постарайся вспомнить, – сказал он. – Может быть тебе приснилось, что малютка лишилась дара речи?
Такое предположение было вызвано, очевидно, тем, что младенец, цепляясь всеми своими десятью пальчиками за край его охотничьей куртки, в эту минуту выражал свое понимание происходившего радостным гуканьем при виде енотовой шапки отца.
Женщина промолчала: не обладая чувством юмора, она не нашлась, что ответить на его веселое подшучивание. Итак, поцеловав жену и ребенка, он вышел и навсегда закрыл дверь за своим счастьем.
Настал вечер, а он не вернулся. Жена приготовила ужин и стала ждать. Потом она уложила девочку в постель и потихоньку убаюкивала ее, пока та не заснула. К этому времени огонь в очаге, где она варила ужин, погас, и теперь комнату освещала только одна свеча. Женщина поставила свечу на открытое окно, как путеводный знак и привет охотнику, если он появится с той стороны. О привычке хищников входить в дом без приглашения она не была осведомлена, хотя с истинно женской предусмотрительностью могла бы предположить, что они могут появиться даже через трубу. Она тщательно закрыла дверь и заперла ее на засов, для защиты от диких зверей, которые предпочли бы дверь открытому окну. Ночь тянулась медленно, и, хотя тревога ее не уменьшалась, сонливость все усиливалась, и, наконец, она облокотилась на кроватку ребенка и склонила голову на руки. Свеча на окне догорела, зашипела, на секунду вспыхнула и незаметно погасла; женщина спала, и ей снился сон.
Ей снилось, что она сидит у колыбели другого ребенка. Первый умер. Отец тоже умер. Дом в лесу исчез, и комната в которой она теперь находилась, была ей незнакома. Здесь были тяжелые, дубовые двери, всегда запертые, а в окнах – железные прутья, вделанные в толстые каменные стены, очевидно (так она думала), для защиты против индейцев. Все это она отметила, ощущая бесконечную жалость к самой себе, но без удивления -чувства, незнакомого во сне. Ребенок в колыбели был прикрыт одеялом, и что-то заставило женщину откинуть его. Она так и сделала – и увидела голову дикого зверя! Пораженная этим ужасным зрелищем, она проснулась, вся дрожа, в своей темной лесной хижине.
Когда к ней постепенно вернулось сознание окружающей ее действительности, она ощупала ребенка, теперь уже не во сне, а наяву, и по его дыханию уверилась, что все благополучно; она не могла также удержаться и слегка провела рукой по его лицу. Затем, повинуясь какому-то побуждению, в котором она, вероятно, не могла дать себе отчета, она встала и, взяв ребенка на руки, крепко прижала его к груди. Колыбелька стояла изголовьем к стене, и женщина встав с места, повернулась к стене спиной. Подняв глаза, она увидела две ярких точки, горевших в темноте красновато-зеленым светом. Она подумала, что это два уголька в очаге, но, когда к ней вернулось чувство ориентации, она с тревогой поняла, что светившиеся точки находятся в другой части комнаты, кроме того, слишком высоко, почти на уровне глаз – ее собственных глаз. Ибо это были глаза пантеры. Зверь, был за открытым окном, прямо против нее, не больше чем в пяти шагах. Не видно было ничего, кроме этих страшных глаз, однако, несмотря на смятение, охватившее ее при этом открытии, женщина все же поняла, что зверь стоит на задних лапах, опираясь передними на выступ окна. Это указывало на его злобное намерение, а не просто ленивое любопытство. Когда она это поняла, ее охватил еще больший ужас, усугубивший угрозу этих страшных глаз, неподвижный огонь которых испепелил всю ее силу и мужество. От их молчаливого вопроса она задрожала, и ей стало дурно. Колени подогнулись, и постепенно, инстинктивно, стараясь не делать резких движений, которые могли бы привлечь внимание зверя, она опустилась на пол, прижалась к стене, стараясь прикрыть ребенка всем своим дрожащим телом, не отводя в тоже время взгляда от светившихся зрачков, грозивших ей смертью. В эту мучительную минуту у нее не мелькнуло и мысли о муже – надежды на возможность спасения. Ее способность мыслить и чувствовать превратилась в один только страх перед прыжком пантеры, прикосновением ее тела, ударом ее сильных лап, ощущением на горле зубов зверя, терзающих ее ребенка. Неподвижно, в полной тишине ждала она свершения своей судьбы, минуты превращались в часы, в годы, в вечность, и злобные глаза были все также устремлены на нее.
Подойдя к хижине поздно вечером с оленем на спине, Чарлз Марлоу толкнул дверь. Она не поддалась. Он постучал – ответа не последовало. Он сбросил на землю оленя и пошел к окну. Когда он огибал угол дома, ему почудился звук осторожных шагов и шорох в лесной поросли, но даже для его опытного уха звук был слишком слаб, чтобы быть вероятным. Подойдя к окну и найдя его, к своему удивлению, открытым, он перекинул ногу через подоконник и влез в комнату. Мрак и тишина. Он ощупью дошел до очага, чиркнул спичкой и зажег свечу. Потом огляделся. Скорчившись на полу, у самой стены, сидела его жена, прижимая к груди ребенка. Когда он бросился к ней, она поднялась и разразилась хохотом, громким, протяжным и безжизненным, лишенным веселья, лишенным смысла, -хохотом, похожим на лязг цепей. Едва соображая, что он делает, он протянул руки. Она положила на них ребенка. Он был мертв
– задохнулся насмерть в материнских объятиях.
3. Теория, выдвинутая защитой
Вот что случилось однажды ночью в лесу, но Айрин Марлоу рассказала Джиннеру Брэдингу не все; да и не все было ей известно, Когда она закончила свой рассказ, солнце уже скрылось за горизонтом, и длинные летние сумерки начали сгущаться в лощинах. Несколько минут Брэдинг сидел молча, ожидая, что последует продолжение рассказа, которое как-то свяжет его с предшествующим разговором; но рассказчица, так же как и он, молчала, отвернувшись от него; руки ее, лежавшие на коленях, сами собой сжимались и разжимались, как бы внушая мысль о действиях, не зависящих от ее воли.
– Да, это печальная, ужасная история, – сказал наконец Брэдинг, – но я ничего не понимаю. Вы зовете Чарлза Марлоу отцом – это я знаю. Что он состарился преждевременно, под влиянием какого-то большого несчастья, это я заметил, или мне казалось, что заметил. Но вы сказали, простите, вы сказали, что вы, что вы...
– Что я безумна, – сказала девушка, не поворачивая головы и не двигаясь.
– Но вы же сказали, Айрин, я прошу вас, дорогая, не смотрите куда-то в сторону, – вы сказали, что ребенок умер, а не сошел с ума.
– Да, тот первый, а я второй ребенок. Я родилась через три месяца после той ночи. Небо смилостивилось над моей матерью и позволило ей умереть, дав жизнь мне.
Брэдинг снова умолк; он был ошеломлен и сразу не мог придумать, что сказать. Ее глаза по-прежнему смотрели куда-то в сторону. В замешательстве, он невольно потянулся к ее рукам, которые по-прежнему лежали на коленях, сжимаясь и разжимаясь, но что-то – он не мог сказать, что именно, -удержало его. Тут он смутно припомнил, что ему никогда не хотелось взять ее за руку.
– Может ли быть, – сказала она, – чтобы ребенок, родившийся при таких обстоятельствах, был таким же, как все,
– то, что называется в здравом уме.
Брэдинг не отвечал; его занимала новая мысль, возникшая в его мозгу, мысль, которую ученый назвал бы гипотезой, сыщик – ключом к разгадке. Она могла бы пролить новый свет, хотя и зловещий, на те сомнения в ее душевном здоровье, которых не рассеяли ее слова.
Поселки в этих местах возникли совсем недавно и были очень редки. Профессионал охотник был в те времена еще обычной фигурой, и среди его трофеев встречались головы и шкуры крупных хищников. Ходили более или менее достоверные рассказы о ночных встречах с дикими зверями на пустынных дорогах; рассказы эти претерпевали обычные стадии расцвета и упадка и затем забывались. За последнее время, вдобавок к этим апокрифическим сказаниям, во многих семействах, по-видимому, сама собой возникла легенда о пантере, напугавшей несколько человек, когда ночью она заглядывала к ним в окна. Рассказ этот вызвал у многих легкое волнение и даже удостоился внимания местной газеты; но Брэдинг не придал ему значения. Сходство с только что выслушанным рассказом навело его на мысль, что, возможно оно не случайно. Разве не могла одна история породить другую, и, найдя благоприятную почву в больном мозгу и богатом воображении, вырасти до пределов трагического повествования, которое он только что выслушал. Брэдинг припомнил некоторые обстоятельства жизни и особенности характера молодой девушки, которыми он со свойственным любви отсутствием любопытства до сих пор не интересовался, – как, например, их уединенную жизнь с отцом, и то, что, по-видимому, в их доме никто никогда не бывал, и ее необъяснимую боязнь темноты; этой боязнью люди, хорошо ее знавшие, объясняли то, что с наступлением ночи она нигде не показывалась. Вполне понятно, что запавшая в ее сознание искра могла разгореться в таком мозгу безудержным пламенем, охватывая все существо. В ее безумии, хотя эта мысль и причиняла ему острую боль, он больше не сомневался; она спутала последствия своего умственного расстройства с его причиной, связав свою собственную историю с выдумкой местных баснословов. С каким-то смутным намерением -проверить свою новую теорию – и не вполне ясно представляя себе, как за это взяться, он сказал серьезно, но с некоторой нерешительностью:
– Айрин, дорогая, скажите мне, прошу вас, только не сердитесь, скажите мне...
– Я сказала вам все, – прервала она с горячностью, которой он раньше за ней не замечал, – я сказала вам, что не могу быть вашей женой. Что мне еще сказать?
Прежде чем он успел задержать ее, она вскочила со скамьи и молча, не взглянув на него, крадучись, стала пробираться между деревьями, направляясь к своему дому. Брэдинг встал, чтобы остановить ее; он молча следил за нею, пока она не скрылась во мраке. Вдруг он пошатнулся, словно пораженный пулей; на его лице появилось выражение тревоги и изумления: во мраке, там, где она скрылась, он увидел быстро мелькнувшие сверкающие, глаза! Секунду он простоял растерянный, в оцепенении, затем бросился следом за ней в лес, с криком: «Айрин, Айрин, погодите! Пантера! Пантера!».
Он быстро выбежал на открытое пространство и увидел мелькнувшую в дверях серую юбку девушки. Пантеры нигде не было.
4. Апелляция к высшей справедливости
Джиннер Брэдинг, юрист, жил в коттедже на самой окраине города. Как раз за его домом начинался лес. Будучи холостяком и, следовательно, по существовавшему тогда в тех краях драконовскому кодексу морали, лишенный возможности пользоваться услугами горничной или кухарки – о мужской прислуге там и не слыхали, – Брэдинг столовался в гостинице, где помещалась и его контора. Примыкавший к лесу коттедж был выстроен, конечно, без особых затрат, являясь лишь очевидным доказательством его благосостояния и респектабельности. Едва ли удобно было тому, кого местная газета с гордостью называла «выдающимся юристом нашего времени», быть «бездомным», хотя он, возможно, и подозревал, что можно иметь дом и все-таки остаться бездомным. Из сознания этого различия логически вытекала потребность его сгладить, – ходили слухи, что вскоре после постройки дома владелец его предпринял тщетную попытку жениться, окончившуюся тем, что он получил отказ от красивой, но эксцентричной дочери затворника – старика Марлоу. Все считали это вполне достоверным, так как он сам говорил об этом, а она ничего не говорила – обычно бывает наоборот, так что в данном случае сомнений ни у кого не возникало.
Спальня Брэдинга была в задней части дома, и единственное окно выходило в лес. Однажды ночью его разбудил шорох у окна; трудно было определить, что это такое. Чувствуя легкую нервную дрожь, он сел в постели и взял в руки пистолет, который он положил под подушку с предусмотрительностью, далеко не лишней у человека, привыкшего спать с открытым окном. В комнате была совершенная темнота, но он не испытывал никакого страха и, зная в каком направлении надо смотреть, смотрел туда и молча ждал, что будет дальше. Теперь он смутно различал окно – менее темный квадрат. И вдруг над нижним его краем появилась пара горящих глаз, светившихся злобным, невыразимо страшным блеском! Сердце Брэдинга бешено заколотилось, потом словно замерло. По спине пробежал озноб. Он чувствовал, как от лица отлила вся кровь. Он не мог бы закричать даже ради спасения своей жизни; будучи, однако, человеком отважным, он не стал бы кричать ради спасения своей жизни, даже если бы и мог. Трусливое тело могло дрожать, но дух был крепок. Медленно поднимались сверкающие глаза, они, казалось, приближались, и медленно поднималась правая рука Брэдинга, державшая пистолет. Он выстрелил.
Ослепленный вспышкой и оглушенный отдачей, Брэдинг все же услышал, или ему только почудилось, что он услышал дикий, пронзительный крик пантеры, прозвучавший так по-человечески и полный такого зловещего смысла. Соскочив с постели, он поспешно оделся и с пистолетом в руке выскочил на улицу, навстречу подбегавшим к дому людям. Последовало краткое объяснение, и затем дом был тщательно обыскан. Трава была сырая от росы; под самым окном она была примята, извилистый след, который можно было различить при свете фонаря, вел в кусты. Один из мужчин споткнулся и упал на руки; когда он поднялся и начал вытирать их, они оказались липкими. При осмотре обнаружилось, что они были в крови.
Возможность встречи с раненой пантерой им -невооруженным – была не по вкусу; все, кроме Брэдинга, повернули обратно. Он же, захватив фонарь, отважно двинулся дальше в лес. Пробравшись сквозь густой кустарник, он вышел на небольшую луговину, и здесь его отвага была вознаграждена, ибо он настиг свою жертву. Но это была не пантера. О том, что это было, и сейчас еще говорит источенная непогодой плита на деревенском кладбище, и немало лет об этом повествовала склоненная фигура и изборожденное горем лицо старика Марлоу, да будет его душе и душе его безумной, несчастной дочери мир. Мир и воздаяние!
Из сборника «Может ли это быть»
Тайна долины Макарджера
Милях в девяти от Индийского холма, на северо-западе, лежит долина Макарджера. Это, собственно, даже и не долина, а просто ложбинка между двумя невысокими лесистыми склонами. Расстояние от устья до верховьев (ведь долины, как и реки, имеют свое определенное строение) не превышает двух миль, а ложе в самом широком месте чуть больше дюжины ярдов. Всю ширину долины занимает небольшой ручей, полноводный в зимнюю пору и высыхающий ранней весной; так что лишь водное русло отделяет друг от друга два пологих склона, заросших непроходимым колючим кустарником и толокнянкой. Ни одна живая душа не заглядывает в долину Макарджера, разве только случайно забредет сюда кто-нибудь из наиболее предприимчивых окрестных охотников. За пять миль от этого места даже название его никому не известно. Впрочем, в тех краях можно найти много безымянных географических достопримечательностей, гораздо более интересных, чем долина Макарджера, и вы напрасно стали бы расспрашивать местных жителей о происхождении именно этого названия.
Если двигаться от устья в глубь долины, то на полпути можно обнаружить еще одну долину с коротким сухим ложем, перерезывающую горный склон справа. Пересечение двух долин образует площадку в два-три акра. На ней несколько лет назад находился полуразвалившийся дощатый домик, состоявший всего из одной комнаты. Каким образом удалось построить хижину, пусть даже незатейливую и маленькую, в столь неприступном месте, – это загадка, разрешение которой утолило бы ваше любопытство, но едва ли принесло бы вам какую-либо пользу. Возможно, нынешнее ложе ручья было когда-то дорогой. Известно только, что в этой долине одно время велись довольно тщательные горные изыскания, а стало быть, сюда должны были каким-то образом добираться рудокопы и вьючные животные с инструментом и продовольствием. По всей вероятности, прибыль от разработок не оправдывала тех затрат, которые понадобились бы на то, чтобы соединить долину Макарджера с каким-нибудь центром цивилизации, знаменитым своим лесопильным заводом. Как бы там ни было, в долине сохранился домик, или, вернее, значительная часть его. В хижине отсутствовали дверь и окно, а сложенная из камней и глины труба превратилась в непривлекательную бесформенную груду, густо заросшую дерном. Скудная мебель, которая, вероятно, находилась когда-то в домике, пошла на топливо для охотничьих костров, так же как и большая часть нижних досок обшивки. Эта же судьба постигла, должно быть, и колодезный сруб, ибо в то время, о котором идет речь, от колодца оставалась лишь довольно широкая, но не слишком глубокая яма неподалеку от хижины.
Однажды летним днем 1874 года я проходил долину Макарджера, двигаясь по высохшему руслу ручья из другой, более узкой долины. Я охотился на перепелов, и в сумке у меня лежало уже около дюжины птиц, когда я достиг описываемой хижины, о существовании которой доселе и не подозревал. Бегло осмотрев разрушенный домик, я продолжал охоту, и так как мне на сей раз необыкновенно везло, я задержался и этой долине почти до заката солнца. Тут только я вспомнил, что ушел довольно далеко от человеческого жилья и не успею найти пристанище до наступления ночи. Но в моей охотничьей сумке было вдоволь еды, а старый дом мог вполне послужить мне приютом, если он вообще требуется в теплую и сухую ночь в горах Сьерра Невады, где можно без всяких одеял отлично выспаться на ложе из сосновой хвои. Я люблю одиночество, мне нравятся летние ночи, и потому я без особых колебаний решил разбить здесь лагерь. До наступления темноты у меня уже готова была в углу комнаты постель из веток и листьев, а на огне жарился перепел. Из разрушенного очага тянуло дымом, пламя мягко освещало комнату. Сидя за скромным ужином из дичи и допивая остатки вина, которым мне, за неимением воды, весь день пришлось утолять жажду, я наслаждался довольством и покоем, какие не всегда доставляет нам даже более изысканный стол и комфортабельное жилище.
И тем не менее что-то было не так. Я ощущал довольство и покой, но не чувствовал себя в безопасности. Я поймал себя на том, что чаще, чем нужно, посматриваю на пустые проемы окна и двери. Глядя в черноту ночи, я не мог избавиться от какой-то непонятной тревоги. Воображение мое наполняло мир, лежащий за пределами хижины, враждебными мне существами реальными и сверхъестественными. Самыми главными среди них были медведь гризли, который, как я знал, все еще встречается в тех местах и призраки которых, как я имел все основания думать, едва ли можно было здесь встретить. К сожалению, наши чувства не всегда считаются с теорией вероятности, и меня в этот вечер одинаково страшило как возможное, так и невозможное.
Каждый, кому приходилось когда-либо бывать в подобной обстановке, вероятно, замечал, что по ночам боязнь действительной и воображаемой опасности не так велика под открытым небом, как в доме с распахнутой дверью. Я понял это, когда лежал на постели из листьев в углу комнаты, следя за медленно догорающим огнем. И как только в очаге угасла последняя искра, я, схватив лежавшее рядом ружье, направил дуло на теперь уже совершенно невидимый дверной проем. Палец мой лежал на взведенном курке, дыхание замерло, каждый мускул во мне был напряжен. Спустя некоторое время я отложил ружье, испытывая стыд и унижение. Чего мне пугаться? И с какой стати? Мне, которому
Лик ночи более знаком,
Чем лик людской...
Мне, который, по своей врожденной склонности к суевериям, свойственной в той или иной степени любому из нас, всегда умел находить особую прелесть и очарование в одиночестве, мраке и безмолвии! Мой бессмысленный страх был для меня загадкой, и, размышляя над ней, я незаметно погрузился в дремоту. И тут я увидел сон.
Я находился в большом городе, в чужой стране. Люди здесь были какой-то родственной мне нации и лишь незначительно отличались по одежде и языку. И все же я не мог сказать, кто они такие. Я воспринимал их смутно, как сквозь туман. В центре города высился огромный замок. Я знал, как он называется, но не мог выговорить названия. Я шел какими-то улицами. Они были то широкие и прямые, с большими современными зданиями, то мрачные и извилистые, зажатые между островерхими старинными строениями. Нависающие верхние этажи, украшенные искусной резьбой по дереву и камню, почти сходились у меня над головой.
Я искал кого-то, кого никогда не видел, но тем не менее я был уверен, что, найдя, сразу же узнаю его. Поиски мои не были бесцельными или беспорядочными. В них была определенная методическая последовательность. Я без колебаний сворачивал с одной улицы на другую и, нисколько не боясь заблудиться, петлял по лабиринту узких переулков.
Наконец я остановился перед низенькой дверью скромного каменного домика, по всей вероятности, жилища какого-нибудь ремесленника из тех, что побогаче. Я вошел, не постучавшись. В комнате, довольно скудно обставленной и освещенной единственным окном из ромбовидных стекол, находились двое – мужчина и женщина. Они не обратили ни малейшего внимания на мое вторжение – во сне такие вещи кажутся вполне естественными. Мужчина и женщина не разговаривали между собою; они просто сидели, угрюмые и неподвижные, в разных углах комнаты.
Женщина была молодая и довольно полная. Она отличалась какой-то строгой красотой, у нее были прекрасные большие глаза. Весь ее облик чрезвычайно живо запечатлелся в моей памяти, но лица ее я не запомнил: во сне человек не замечает таких деталей. На плечи женщины был наброшен клетчатый плед. Мужчина выглядел гораздо старше ее. Его смуглое свирепое лицо казалось еще более отталкивающим из-за длинного шрама, тянувшегося наискось от виска до черных усов. Во сне мне казалось, что шрам не врезался в лицо, а точно маячит перед ним – по-иному я не могу это выразить – как нечто самостоятельное. В тот самый момент, как я увидел эту пару, я понял, что они муж и жена.
Что произошло дальше, я помню смутно. Все вдруг спуталось, смешалось. Очевидно, это были проблески пробуждающегося сознания. Казалось, картина моего сна и мое реальное окружение соединились, накладываясь одно на другое, пока наконец первое, постепенно бледнея, не исчезло совсем. И тогда я окончательно проснулся в заброшенной хижине, полностью осознав, где я и что со мной.
Мои глупые страхи исчезли. Открыв глаза, я увидел, что огонь не погас, а, напротив, разгорелся с новой силой от упавшей в очаг ветки. В хижине опять стало светло. Я, должно быть, задремал всего на несколько минут, но мой, в общем довольно банальный, сон почему-то произвел на меня сильное впечатление, и мне совершенно расхотелось спать. Вскоре я встал, сгреб в кучу тлеющие угли и, закурив трубку, принялся самым нелепым образом рассуждать сам с собою над тем, что мне пригрезилось.
В то время я затруднился бы сказать, почему этот сон представлялся мне достойным внимания. Стоило мне лишь серьезно вдуматься в него, как я узнал город моего сна. Это был Эдинбург. Я никогда в нем не бывал. И если этот сон был воспоминанием, то лишь воспоминанием об увиденном на фотографиях или прочитанном в книгах. То, что я узнал город, почему-то глубоко поразило меня. Что-то в моем сознании, вопреки рассудку и воле, твердило мне, что все это имеет чрезвычайно важное значение. И та же непонятная сила приобрела власть над моей речью.
– Ну, конечно, – громко произнес я совершенно помимо своей воли, – Мак-Грегоры, должно быть, приехали сюда из Эдинбурга.
В тот момент ни слова эти, ни то, что я их произнес, не вызвали у меня ни малейшего удивления. Казалось вполне естественным, что мне знакомы имена увиденных во сне людей и известна их история. Но вскоре нелепость этих рассуждений дошла до моего сознания. Я громко рассмеялся, выбил из трубки золу и снова растянулся на своем ложе из веток и листьев. Я лежал, рассеянно глядя на догорающий огонь, и не думал больше ни о моем сне, ни о том, что меня окружало. Наконец последний язычок пламени вспыхнул, вытянулся вверх и, отделившись от тлеющих углей, растаял в воздухе. Наступила полная темнота.
Не успел померкнуть последний отблеск огня, как в то же мгновение послышался глухой стук, точно от падения тяжелого тела, и пол подо мною задрожал. Я рывком сел и стал ощупью искать лежавшее рядом ружье. Мне показалось, что какой-то дикий зверь прыгнул в хижину через окно. Шаткий домишко все еще содрогался, когда я вдруг услыхал звуки ударов, шарканье ног по полу, а затем, совсем близко от меня, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки – пронзительный крик женщины, выдававший смертельную муку. Такого страшного вопля мне никогда еще не доводилось слышать. Он буквально парализовал меня. Некоторое время я не ощущал ничего, кроме охватившего меня ужаса. К счастью, в этот момент пальцы мои нащупали ружье, и знакомый холодок ствола несколько успокоил меня. Я вскочил на ноги и, напрягая зрение, стал вглядываться во тьму. Неистовые вопли умолкли, но вместо этого я услыхал нечто еще более жуткое – хрипы и тяжелое дыхание умирающего существа!
Когда глаза мои привыкли к темноте, я стал различать при слабом свете тлеющих углей очертания темных провалов двери и окна. Затем явственно проступили во мраке стены и пол, и наконец я смог разглядеть всю комнату, все ее углы. Но кругом было пусто. Тишина больше ничем не нарушалась.
Слегка дрожащей рукой я кое-как развел огонь (другая рука все еще сжимала ружье) и снова внимательно исследовал помещение. Нигде не было ни малейших признаков того, что сюда кто-то заходил. На пыльном полу отпечатались следы только моих башмаков; никаких других следов не было видно. Я снова раскурил трубку и, отодрав от внутренней стены несколько досок, – выйти в темноте за дверь я не решился, -подбросил в огонь топлива. Весь остаток ночи я просидел у очага, пыхтя трубкой, размышляя и поддерживая огонь. Ни за какие блага в мире не дал бы я теперь снова погаснуть этому маленькому язычку пламени.
Спустя несколько лет я встретился в Сакраменто с неким Морганом. У меня было к нему рекомендательное письмо от друга из Сан-Франциско. Обедая у него, я заметил на стенах различные трофеи, свидетельствовавшие о том, что хозяин дома
– заядлый охотник. Оказалось, что так оно и было. Рассказывая о своих охотничьих подвигах, Морган упомянул о краях, где со мною произошла когда-то странная история.
– Мистер Морган, – внезапно спросил я, – не приходилось ли вам слышать о местности, которая называется долиной Макарджера?
– Еще бы! – ответил он. – Ведь это я в прошлом году нашел там скелет и поместил об этом сообщение в газетах.
Мне про это ничего не было известно. Очевидно, сообщение появилось в тот период, когда я находился на Востоке.
– Кстати, – заметил Морган, – название долины не совсем точно, ее следовало бы назвать долиной Мак-Грегора... Дорогая,
– обратился он к жене, – мистер Элдерсон расплескал немного свое вино.
Это было слишком мягко сказано. Бокал с вином просто-напросто выпал у меня из рук.
– Когда-то в этой долине стояла старая хижина, – продолжал мистер Морган, когда беспорядок, причиненный моей неловкостью, был ликвидирован. Но незадолго до моего появления в тех местах домик был взорван; вернее, он был начисто уничтожен взрывом. Повсюду были раскиданы обломки дерева. Доски пола разошлись, и в щели между двумя уцелевшими половицами я и мой спутник нашли обрывок клетчатого пледа. Присмотревшись, мы увидели, что он обернут вокруг плеч женского трупа, от которого остался лишь скелет, кое-где покрытый клочьями одежды и ссохшейся коричневой кожи. Однако пощадим чувства миссис Морган, – с улыбкой прервал себя хозяин дома.








