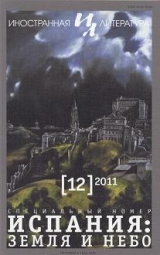
Текст книги "Песня над балконами"
Автор книги: Альмудена Грандес
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Альмудена Грандес. Песня над балконами
1
Канарейка в птичьей клетке, на пугале – ботинки в сетку, такая в те годы ходила присказка, но еще большую жуть, чем эта бурая вязь кожаных тесемочек, избороздившая ему подъемы ступней, наводил грубый перестук каблуков – тук, тук, тук – у меня за спиной утром и вечером, по дороге из дома в школу, из школы домой и обратно, по четыре раза на дню, изо дня в день. Порой, переходя дорогу на красный свет, чтобы хоть как-то помешать преследователю, я спрашивала себя, зачем так упорно он обувает на занятия эти выходные ботинки, всегда безупречные, надраенные до блеска, неважно, что полопались швы. Ни к чему были ему каблуки, нелепое дополнение к его вечным спортивным штанам из синей синтетики, потому как парень был очень высокого роста, по одного этого недостаточно, чтобы захотелось проникнуть в тайну его заурядного бытия.
Где рев и слезы, там ребенок, как говорится, где пугало, там и его приёмник, – и, разумеется, он не расставался с радиоприемником, прижатым к уху и включенным на полную мощь, пока он дожидался меня в засаде за углом моего дома. Иной раз, вечерами, старинный, жалобный мотив песни, которая так ему нравилась, подсказывал мне, что он рядом, раньше даже, чем тень его фигуры, узкой в кости и какой-то грустной, рослой и в то же время на удивление беззащитной. Затем каблуки – тук, тук, тук – встревали, как лишняя нота, в приторное псалмопение этой обреченной и жестокой любви, сопровождавшее нас, ты поймешь однажды, мне уже не важно, вверх по Сан-Бернардо, вниз по Сан-Бернардо, и всему коне-е-ец, точно несбыточное пророчество.
– Как ты вообще его терпишь, – корила меня кузина Анхелес, которая уже успела добиться, чтобы друзья звали ее Ангелиной, очень изысканно, как ей казалось, на мадридский манер, тогда как дома, как бы ее это ни бесило, она оставалась Анхелитой еще многие годы. – Не хватало только, чтобы этот субъект слушал «Модулей».
Я молча соглашалась и иногда, почти безотчетно, напевала эту пошлость, не разжимая губ, настанет день и час, ты от меня уйдешь, ведь родилась я, в отличие от Анхелиты, не в пригороде Хаэна, а в образцовой клинике старого Мадрида, в роддоме Милагроса, в самом сердце Чамбери, и потому могла позволить себе пристрастие к фольклору, в чем ни за что бы не решилась признаться вслух. И тем не менее в простоте своей Анхелита была права. Гопник – такое мои братья дали ему прозвище, обязанное не столько его внешности, сколько твердости его эстетических отклонений, – то еще пугало огородное. Точка.
Нам так и не пришлось перемолвиться словом, я даже не знала, как его зовут – наверняка Абенсий или Акилино, по смелому предположению кузины, или вообще Дионисий, точно тебе говорю, – да и не восстановить уже в памяти миг, когда я впервые ощутила на своих плечах тяжесть его взгляда, твердого, непроницаемого, словно поверхность волшебного зеркала, мутного и горячего, глядясь в которое я становилась тринадцатилетней, затем четырнадцатилетней, затем пятнадцатилетней и шестнадцатилетней. Парень не из нашего квартала, это я знала, как и то, что он жил на «Вальдеаседерас», это такая станция метро, очень далеко от нас, где-то в районе Тетуан. Притом, слава о ней достигала и наших пределов, примиряя мою мать с тем, что вся ее жизнь протекла на непримечательной улице Сан-Димас.
– Погляди-ка, – указывала она пальцем вдаль с балкона, заставляя гостя выворачивать шею под невозможным углом. – Вон там башня Союза и Феникса. Да ведь мы почти что на Гран-Виа! Я же тебе говорила…
Говорить она могла сколько влезет, но, разумеется, жили мы не на Гран-Виа, а в маленьком старинном квартале: кругом монастыри и дома без портье, без лифта, без центрального отопления – и с вековой историей за плечами, – пятачок в центре Мадрида, для одних это Новисиадо, для других – Маласаниа, Сан-Бернардо, Конде-Дуке, а для таксистов и вовсе Агуэйес – ему до сих пор не дали названия. Здесь вырос мой отец, здесь выросла моя мать, здесь они познакомились, приглянулись друг другу и начали встречаться. Здесь же, в церкви Святого Иакова, они повенчались и сняли квартиру в большом и ветхом доме с кровлей, провисшей под покрытием из старой, сухой щепы, и полом в мелкую красно-белую шашечку, что ходил ходуном под ногами, в доме, которого я так и не узнала, потому как мамой овладела горячка ремонта, прежде чем я покорилась власти рассудка. Разделенный на равно несуразные части, коридор оставался бесконечно длинным и тесным, а спальня моя, за которой сохранилось гордое название кабинета, была на самом деле каморкой без окон, но при всем при том богатых и бедных еще никто не отменял. Не хватало опять поругаться, для полного счастья.
– Вальдеаседерас? – мать выразительно насупила бровь. – Ха! Это ужасный квартал, считай, одни лачуги.
– Вальде… как бишь его? – как обычно, не удержалась бабушка. – Это не в Мадриде.
– Это как это, бабушка? Там ведь есть даже метро и вообще.
– Ну и что, что метро! Само собой, там должно быть метро, поезда теперь ходят, наверное, до Толедо… Тоже мне!
Послушать сеньору Камилу, как неизменно обращались к бабушке жители квартала, границы Мадрида по сей день пролегают строго в пределах города ее юности, разве что с поправкой на Вентас, и то потому, что там площадь быков, а все, что дальше, дескать, что твоя Сеговия. С ней лучше было не спорить: при первой возможности она норовила тебе рассказать, как ее единогласно избрали «Мисс Чамбери-1932», как через грудь ей повязали зеленую ленту с вышитыми на ней золотыми буквами, как тем же вечером она с этой лентой зашла в таверну своего отца и про то, как мой прадедушка залепил ей пощечину – за Мисс – и подтек на щеке не рассасывался неделю, так что я промолчала и никогда больше не упоминала об этом неловком и тайно влюбленном призраке, который, казалось, живет лишь затем, чтобы на меня смотреть. Время и булочница Кончита, действуя сообща, воздали мне за терпение, и мне удалось кое-что выяснить. Гопник был внук сеньоры Фиделы, неотесанной, нахрапистой старухи, отличавшейся дурным нравом и еще более скверным языком; она жила на углу Монсеррат и Акуэрдо, в двух шагах от моего дома. Ее муж, незавидный, зато покладистый мужичонка, имени которого, конечно, не знал никто, – в моем квартале привилегией имени пользовались одни женщины: так, о сеньоре Таком-то говорили не иначе, как о муже сеньоры Такой-то, – всю жизнь прослужил помощником учителя в школе Кардинала Сиснероса и добился для этого школяра места на его отделении на улице Рейес, несообразно далеко от дома. Я же, за неимением лучшего, училась в школе Лопе де Вега, и вот, когда я была уже готова оценить по достоинству эти глаза, в которых, возможно, моя жизнь обрела бы смысл, Анхелита вдруг сделала поистине ошеломляющее открытие, и подвиг этот довершил ее превращение в Ангелину.
В миг, когда я переступила порог «Топаза», мне показалось, что я очутилась в другом мире. Эта шикарная дискотека – всюду, даже в туалетах, затемненные окна, в коридорах – высокие зеркала в золоченых рамах, диваны, широкие, как супружеская постель, полумрак комнат и, главное, официанты в смокингах: последнее, признаюсь, я в те годы считала высшим пилотажем изящного вкуса, – она не имела ничего общего с дешевыми барами района Сентро, которые, будто вехи крестного пути, отмечали паломническую череду моих поздних пятничных и субботних часов. Конечно, у нас с Ангелиной тоже было не так много общего с отборными стадами Чамартин-де-ла-Роса, что паслись в этом заведении. Никогда не забуду этой страшной неловкости, неприкаянности, язвой расползшейся по моим щиколоткам: стыд, как проказа, грозился выдать меня на каждом шагу, пока я искала себе подходящее место, место, где бы я с моей внешностью не выделялась из массы блондинок с круглыми попками в импортных джинсах в облип и с тысячью серебряных колечек на обеих руках и верзил с залаченными волосами, плотно затянутых в синие блейзеры с золотыми пуговицами, на каждой – гравировка в виде якоря. Флотская мода, несколькими годами позднее всколыхнувшая этот город, столь радикально чуждый всем морям, тогда еще лишь подступала, как смутная угроза, но я не умела шнуровать ботинки морским узлом, и трагичнее этого было лишь то, как на мне сидели левайсы, которые моя мать исправно покупала мне в те годы. Однако пижоны, похоже, были генетически запрограммированы на обнаружение круглой попки даже в крайне неблагоприятных условиях: довольно скоро ко мне подошел первый, еще страшнее меня, еще ниже меня, еще толще меня – и намного глупее меня, – с которым, однако, был друг, знакомый с двоюродным братом одного действительно классного парня, блондина в неизменных хлопковых теннисках очень ярких тонов с белым воротничком и номером на спине: потом выяснилось, что все они были регбисты. Блондина звали Начо, он учился на факультете управления Католического университета, ему было девятнадцать и у него был «форд-фиеста» последней модели, цвета металлик, со множеством прибамбасов, кроме того, за парнем водилась славная привычка оплачивать столько джин-тоников, сколько я пожелаю между одним засосом и другим, как у нас тогда назывались поцелуи. Когда мы начали встречаться, он первым делом втолковал мне, что «Топаз» – образцово провинциальное место.
– Тут неплохо оттянуться, баб много, но, как бы это сказать, обстановка пошлее, чем маков цвет.
Тогда я стала заглядывать в бар поблизости, вниз по улице Оренсе, притом что тот, как две капли воды, походил на самые вульгарные кабаки моего квартала. Заведение очень маленькое, на пару столиков, у барной стойки – баррикады, так что большинство посетителей выходили выпить в мрачный подвал с бетонными стенами. Названия у бара не было, но все называли его «Пичурри» в честь игрока регби, его основателя, и в скором времени я изобрела достаточно аргументов, чтобы в собственных глазах упрочить славу этого места для избранных. И вот там-то, на пике самообольщения, куда я загнала себя, случилась неизбежная развязка.
– Я тебя предупреждаю, этот чувак меня уже затрахал…
Я притворялась, будто ничего не замечаю, неукоснительно держась этого правила, с тех пор как поняла: как бы я пи старалась оставить позади свое прошлое, мне не отделаться от его тени, но рядом со мной Ангелина так истово потирала ладонью о ладонь – можно подумать, собралась содрать с них кожу, – и пускай меня подмывало вмешаться, напрячь тело и волю – и раз в жизни вклиниться в ясный ход событий, здравый смысл подсказал мне, что Начо прав, что, может, хватит, каждый вечер одно и то же: таинственное появление одинокого и мимолетного призрака, которого мне никак не удавалось сбить с пути, его хрупкой фигуры, что ищет убежища за утлом каждого дома: руки плетьми повисли вдоль тела, плечи поникли, голова понурая, весь облик его – идеальная ширма для глаз, чье выражение не менялось никогда, глаз, твердых, как камень, глубоких, как колодец, блестящих и жестких, как два ножа.
– Чего, дебил, пялишься на меня? Чего пялишься, я тебя спрашиваю? А? Я тебе посшибаю рога!
Я спряталась в туалете, чтобы не присутствовать при избиении, но мой слух успел различить глухие звуки ударов и сдавленный стон. Когда я вернулась, мой парень все еще бесился, визжал, как недорезанная свинья, а Гопник, у которого рассечена была бровь и кровь пошла носом, пустился прочь по подземному лабиринту АСКА, однако медлил, прежде чем скрыться совсем, на мгновение даже остановился, рискуя схлопотать запоздалую затрещину, обернулся и посмотрел на меня, и я уловила его последний взгляд, и мне до жути захотелось плакать.
В тот вечер не было прощания, потому что я не чувствовала в себе сил поцеловать Начо, дотронуться до его пальцев в ответ на робкую ласку. Я не сказала ему ничего, потому что знала – он не поймет. Я и сама мало чего понимала, но на другой день я все равно его бросила.
Спустя пару месяцев я познакомилась со своим вторым парнем, Борхой, владельцем парусной яхты, пришвартованной на Мальорке, чьим особым предпочтением пользовались террасы Посуэло, на одной из которых я повстречала Чарли. Чарли забросил учебу ради того, чтобы открыть спортивный центр, и это он познакомил меня со своим двоюродным братом Хакобо. Отец Хакобо, бессменный кандидат в президенты клуба «Реал Мадрид», как-то раз пригласил меня на летние каникулы в свой громадный особняк с видом на изумительный пустынный белый пляж на побережье Кантабрии, где я за весь месяц так и не решилась искупаться, так как, едва я заходила в воду, от холода синели пальцы ног, что, по всей видимости, не должно было меня беспокоить, поскольку летний отдых на Средиземноморье – «не катит», за исключением более-менее сносного варианта Балеарских островов.
Ни за Хакобо, ни за Чарли, ни за Борху, ни за Начо я замуж не вышла, зато с Мигелем дело шло к свадьбе, и я бы пошла за него, не тяни он столько времени со знакомством с родителями, дипломатом с супругой, к которым питал уважение, граничащее с нескрываемым страхом, отнюдь не делавшим чести тридцатилетнему мужчине. Я же в те годы училась на химическом, и, вопреки энтузиазму матери, которой не терпелось увидеть меня в белом халате на улице Иеронимос, каждое утро просыпалась с чувством, что все больше похожу на свою бабушку, так мало-помалу я сознавала, что все эти отпрыски обеспеченных семей, родом, как правило, из Сантандера, в глубине души такие же провинциалы, как Анхелита, которая в конце концов сошлась с замечательным парнем из города Акала-Реаль и без тени страха обдумывала возможность отдохнуть пару месяцев в родном пригороде своего отца, точно так же, как в свое время ее мать, не внявшая зловещим пророчествам моей матери, когда та узнала о ее планах.
– А тебе там не тесно? – как-то раз спросила я ее.
– Да нет, – отвечала она. – По-любому, я не встаю с постели…
– А вот ты встанешь, – настаивала я. – И тебе придется мириться со сплетнями соседок, что, де, у тебя слишком короткая юбка…
– На себя посмотри! – отрезала Анхелита. – В этой части Араваки каждый божий день барбекю, то да се, а твой муж сколько зарабатывает, а мой муж столько зарабатывает, и тебе партия в сквош, и нате, пожалуйста, спортзал с Менганитой, и телефон клоуна на детский утренник, и чтоб не хуже, чем у Пи-луки с ее фокусником… Потом, мне надоест, мы соберемся и вернемся обратно, а ты… ты-то куда подашься из своей Араваки? Сегодня, солнышко, я еще добрая, мы закроем глаза на то обстоятельство, что мой жених намного лучше твоего.
В этом она была права, как и во всем остальном. Мигель отказывался жить в городе, называя провинцией отвратительное нагромождение городских застроек с претензией, тогда как я ничуть не стыдилась, что у меня за душой нет ни дома с каменными стенами и садом, ни рыбацкой деревушки, ни пастбища, ни лужайки, ни пляжа, чтобы заехать туда на каникулах, что пепелище мое – мой балкон, облицованный пятачок, куда летними вечерами можно вынести табуретки, подышать с бабушкой свежим воздухом, наблюдая за тем, как летят дни и от патио подымается извечный дух тушеных бобов, растворяется во всеобщем и слаженном утреннем гуле зимнего города, раскрытого, подкрашенного пенкой, расцвеченного лампочками, внезапно переодетого в сад, разбитый на необъятной, необозримой террасе. Я еще не уехала, а уже скучала по всему этому – подкачал, однако, не только пейзаж моей жизни. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, вернее отметить, эту легкость в плечах при ходьбе, будто мои ноги ничего не весят, будто тело не в состоянии придавить их к земле, по которой они ступают. Я перебирала, как мне самой казалось, проходные варианты, действуя по примеру утопающего, что хватается за соломинку, но почва дала трещину тогда, когда я меньше всего этого ожидала.
Мигель вез меня к своим родителям: те, наконец, пригласили меня на ужин. Из окна мне предстало однообразное зрелище Капитана Айа, одинаковые по обеим сторонам улицы, застекленные башни сменяли друг друга, мелькали гаражи, сады и пальмы у крыльца, спесь нуворишей не впечатляла, как прежде. На повороте машину резко повело вправо, и мы вырулили на улицу, где я никогда раньше не была, только мне все равно, потому что она такая же, как и все остальные, и снова налево, все дальше, вперед, и потом медленнее, потому что мы искали, где припарковаться, и не могли найти, все улицы, все фасады, переулки – неотличимы, но вдруг, на двадцатом повороте, на обочине блока элитных домов, я очутилась дома, в особенном, старом квартале с налетом сельской старины – казалось, по прихоти судьбы он вырос из-под земли, дешевые магазины, здания в пару этажей, с балконов срываются звуки румбы, женщины в халатах, стоящие за хлебом, станция метро со знакомым до боли названием, пять слогов, как удар камнем меж глаз.
– Останови, – говорю. – Я выхожу.
– Ладно, как хочешь… Родители живут сразу за углом, через дорогу, подожди меня…
– Ты меня не понял, – объясняю, открывая дверцу машины. – Я не пойду к твоим родителям, я возвращаюсь домой, на метро.
Я твердо ступила на бетонный тротуар, осязая его под подошвами, и у меня мелькнуло странное ощущение, будто за то, что я разгадала тайну двуликого города, тот дал мне ключ к моей собственной жизни, и тогда только я наклонилась вперед, к опущенному стеклу, попрощаться.
– Ты не смотри на меня, Мигель, – произнесла я с расстановкой, уверенная, что он все равно не поймет. – Потому что ты не умеешь смотреть на меня.
А потом станция «Вальдеаседерас» сомкнула за мною объятия, как смыкаются в объятии лишь материнские руки.
2
Не мое это дело, скидки.
Как сейчас помню: эскалатор дал передышку моим ногам, а тем временем я размышляла об этой своей неспособности откопать в куче барахла заветную вещицу, помню также, что сначала увидала ее, зарекалась попадаться на эту удочку, нет, чтобы я еще хоть раз отстояла очередь в примерочную, как вдруг заметила молоденькую брюнетку, чьи волосы были заплетены в длинную и густую косу, такую же точно, как та, что носила я девочкой, и потом уже, в пролете между третьим этажом – мужской отдел – и вторым – все для женщины – заподозрила типа, поднимавшегося на третий, в том, что тот не сводит с нее глаз, и взбесилась, и тут же взбесилась, что меня это взбесило, потому что моя реакция, естественная и все же мелочная, в сущности, нелепая, свидетельствовала о том, сколько мне лет, куда красноречивее зеркала в ванной по утрам с похмелья, и тогда я решила, что он, наверно, осел, и подняла глаза, чтоб посмотреть ему в лицо, и мало того, что он был непохож на осла, вдобавок это был он.
Его глаза встретились с моими, он нахмурил нос, но не захотел смотреть на меня, он меня не узнал, и, как бы я ни боялась ответа, разумеется, я спрашивала себя, не изменилась ли я так же сильно, как он, с того самого лета 77-го или, может, 78-го. Я уже и не помнила даты, но с тех пор прошло больше пятнадцати лет, и при взгляде на него никто бы не догадался, какое бесславное прозвище пристало к нему в отрочестве. Его осанка хранила печать преждевременного уныния, отмечавшего некогда каждый его жест, при ходьбе он, как и прежде, горбился и опускал голову долу, но новая стрижка, пиджак из шерстяной ткани с искрой, замшевые шнурованные ботинки, бумажник из терракотовой кожи – изрядно потертой, но добротной – в руке, все выдавало в нем эту нарочитую небрежность, спутницу элегантности. Дела у него идут хорошо, думала я, шагая через две ступеньки вверх, против движения полотна, не вполне отдавая себе отчет в том, что отправилась следом за ним, пока не застала его за покупкой носков, однотонных бордовых, серых и черных. Расплатившись кредитной картой, он вернулся к эскалатору, а я за ним, он вышел на улицу Пресиадос, и я за ним, и, не теряя его ни на секунду из виду, я увернулась от палатки наперсточника, от пары уличных музыкантов и одной танцующей козы, пока мы не добрались до Кальяо, откуда он продолжил путь до Гран-Виа и вниз, поравнялся с кинотеатром, миновал его и затем еще один, и еще в направлении к улице Сан-Бернардо, вдоль которой мы прошлись вместе, как в старые времена, разве что в те годы я бы не отважилась предположить, что он будет шагать, не оглядываясь, впереди, а я за ним, кое-как затесавшись в ряду фонарных столбов, так мы пересекли улицу Пес, а он все продвигался без остановки вплоть до угла Сан-Висенте-Феррер, и в этой точке резко повернулся на пятках на сорок пять градусов, и я замерла, толком не зная, куда идти, наблюдая за тем, как он размашистыми шагами отмеряет проезжую часть, держа голову, как всегда, прямо и, казалось, не придавая значения правилам уличного движения, и застывает как раз напротив меня, на другой стороне. Неторопливо оборачивается и осторожно поднимает на меня глаза, и я понимаю, что все это время он сознавал, кто идет за ним следом.
Я решалась пять суток – четыре дня, а потом еще два утра подряд, пока не собралась с духом и не толкнула дверь булочной, не вполне представляя себе, что сказать и с чего же начать, когда будет покончено с поцелуями и объятиями, дежурными соболезнованиями и поздравлениями, но Кончита нечаянно пришла мне на выручку – с ума сойти! дай на себя посмотреть, ух, какая ты элегантная! совсем нас забыла, ясное дело, мы люди бедные… – и взамен я не пожалела красок при описании обстоятельств своей жизни и, главное, убогих размеров квартиры на Мартин-де-лос-Эрос, аренда которой стоила мне – соврала я – больше половины моего оклада.
– Слушай, я подумываю вернуться в своей квартал, – продолжила я с неожиданной для самой себя непринужденностью, – отхватить там что-нибудь не слишком крупное… Наверное, я не одна такая, я имею в виду детей нашего поколения… Брат сказал мне, он пару дней назад видел, как внук сеньоры Фиделы выходил из подъезда на Сан-Висенте-Феррер…
На лице Кончиты было написано, что она не помнит ничего, и я сказала себе, что, может, оно и к лучшему, но она тут же нашлась и слово в слово подтвердила мои догадки, ясное дело, Хуан и то вернулся.
– Значит, – пробормотала я, – его зовут Хуан…
– А как же! – Кончита так и подскочила при виде моей растерянности. – Он и маленький был Хуан. А как, по-твоему, он должен называться?
– Да, конечно… И чем он сейчас занимается?
– Ой, не знаю. Преподает в университете, или вроде того…
Выяснить, что же именно он преподает, оказалось чуть сложнее, так как моя собеседница помнила лишь, что его специальность начиналась на букву «А» – дочка, не знаю!., вы все теперь такие заумные, – и я назвала первое, что мне пришло в голову: архитектор, – бери выше! Тут посерьезнее будет – и тогда я спросила, не адвокат ли он. – Что ты! Не то… То намного серьезнее – и так, примеряясь к ее своеобразной шкале престижа, я отмела аллерголога, авиаинженера, авиакосмического конструктора, агронома, археолога, астронома, астрофизика и еще кучу слов с греческими корнями.
– Ну, давай! – уперлась она под конец. – Ты должна знать это. Их даже иногда показывают по телевизору, они рассказывают про дикие племена, и все такое прочее.
Я моментально сообразила, что она хотела сказать, но помедлила несколько секунд, прежде чем открыть рот, будто эта версия казалась мне менее правдоподобной по сравнению с теми, что я сама предлагала, и с неизбежностью мой голос немного дрогнул, когда я произнесла первый слог.
– Ан-тро-по-лог? – отчеканила я почти с опаской. Кончита воздела руки к небу и издала победный возглас.
– Точно!
– Гопник – антрополог? – переспросила я, словно одного подтверждения мне было недостаточно.
– Да, – и поправила меня, слегка надувшись, – и я тебе уже говорила, его зовут Хуанито.
– Гопник – антрополог! – прошептала я, – Да, конечно, да… мать моя женщина!
Кончита вынула пилочку для ногтей из чаши для песет, уселась на табуретку по другую сторону прилавка и принялась за маникюр, будто меня здесь не было, но, когда я уже подыскивала подходящую формулу для прощания, она к полнейшей моей неожиданности, не отводя глаз от своей левой руки, присовокупила:
– Кстати, он неженат.
– И для чего ты мне это говоришь?
– Ни для чего, – посмотрела она на меня. – Просто так.
Он точно бы мне не поверил, признайся я, что все вышло случайно, но только мне было бы проще, если бы это был другой балкон, или другой подъезд, или этаж, если бы нас разделяло хоть минимальное несоответствие уровней, малейшая дистанция, и, если бы я могла выбирать, я присмотрела бы себе окоп по соседству, сообщающийся с его, скажем, через плоскую крышу или закрытое патио, но, хотя уже на четвертый месяц агенты по недвижимости связались со мной, мне все же было не шестнадцать, и время то мчалось – не остановить, то слишком долго тянулось, приводя в отчаяние того, кто знал, что владеет им не в полной мере.
Брови девочки из агентства подскочили по самое не могу, когда я попросила ее не поднимать жалюзи на балконах. В полумраке я обследовала комнаты с видом на улицу – кабинет, гостиную, еще один кабинет, спальню и еще одну спальню… – и согласно кивнула, удостоив лишь беглым взглядом кухню и ванную, хоть и недавно отремонтированные, но обращенные окнами в безразличный мне переулок. Пока по моему поручению электрики налаживали освещение в наглухо запертой квартире, каждая моя вещь боролась за свое место в ней, когда же хлопоты оставались позади, я решила дать себе время обвыкнуться в новом пространстве. Почувствовав себя увереннее, я в тот же день по дороге с работы купила букет цветов. Поставила фарфоровую вазу на стол, повернутый под выгодным углом, после чего замедленным движением раскрыла балконные двери гостиной. Губы непроизвольно расплылись в улыбке, так и не осознанной до конца. По другую сторону улицы, на балконе третьего этажа строения, смежного с домом напротив, стоял он. Он видел меня и едва не улыбнулся в ответ.
В короткий срок я многое узнала, а впрочем, скоро мне стало этого недостаточно. Хуан – повторяла я снова и снова, иной раз вслух, иной раз про себя, пока не привыкла называть его по имени, – был крайне несобранным, мало ел, спал и того меньше и проводил почти каждый вечер вне дома, несмотря на то что должен был рано вставать, так как читал лекции по утрам. Днем он обычно оставался дома и смотрел на меня. Порой он подходил к балкону с книгой в руке или долго говорил по телефону, не сводя глаз с окна, подстерегая каждый следующий мой жест, как бывало в детстве. Мои зеленые жалюзи не опускались ни днем, ни ночью, усталость давала знать о себе и подкрались сомнения: довольно ли ему скромной победы над моим изображением в балконном проеме, льнущим часами к стеклу, словно трехмерная переводная картинка? – однако знаков, что он уповает на большее, не последовало. Я крепилась еще какое-то время. Затем тревожное волнение одержало верх и подвигло меня к составлению списка тактических маневров, в равной мере безрассудных. Вывесить на балконе плакат я очень стеснялась, от одной мысли о том, чтобы набрать его номер, у меня сосало под ложечкой, а перейти дорогу и попросить у него соли было бы невозможно физически, потому как мои ноги навеки срослись бы вместе, прежде чем я бы переступила порог его дома. Кончилось тем, что я вытряхнула из гостиной всю мебель. Перетащила ее в коридор и принесла из кухни табуретку, поставила табуретку ближе к балкону и села на нее без всякого дела. Я надеялась, он поймет, он, который умел толковать все мои жесты, однако, когда я подняла глаза, его глаза лишь на пару секунд удержали мой взгляд.
Его отсутствие не смутило меня, ведь он тут же вернулся, распахнул створки балкона и, облокотясь на балюстраду, посмотрел на меня. Подражая ему, я повторила его жесты один за другим, поначалу я не узнала мелодию, но в моей памяти она отозвалась прежде, чем я спохватилась, настанет день, он шевелил губами совсем рядом, по другую сторону улицы, но я не слышала его, и час пробьет, и в этот миг я поняла, что не знала, никогда не слышала его голоса, ты от меня уйдешь, и мне захотелось позвать его, окликнуть по имени, вымолить его крик, мне уже не важно, но я не осмелилась выдавить ни единого звука, все не так уж важно, и тут вдруг подхватила с ним вместе последние слова припева, и всему коне-е-ец, и потом музыка смолкла. А я настороженно замерла, уцепившись обеими руками за балюстраду. И смотрела на него, и едва не улыбнулась в ответ.
Погода прояснялась, и эта песня стала паролем, по звуку которого отворялись двери наших балконов. Дальнейшее произошло внезапно. Той июньской ночью стояла жара, тяжелый воздух был точно налит свинцом, а край лунного диска, казалось, вскипал на небосводе, таком горячем, что темнота не ложилась сплошным мазком. Он прибавил в динамиках громкости, и мне послышался плач, стон обреченной и жестокой любви, будто бы по другую сторону улицы резонировало отчаяние. Я встала и приблизилась к балкону, голос певца звучал, как и прежде, но только не для меня, и тогда я нащупала пуговицу блузки, не сознавая, что то был первый спонтанный жест со времен моего переезда сюда, единственное не выверенное заранее, не взвешенное слово; когда блузка упала на пол, я начала расстегивать юбку, а его глаза сосредоточенно смотрели на меня из-под бровей безупречного очерка, невозмутимых, словно выточенных из мрамора, моя юбка также оказалась на полу, и я сняла с себя остальное, не переставая смотреть на него, а он смотрел на меня, но не двигался, просто смотрел, вытянувшись в балконном проеме, как часовой, или кукла, или истукан, или как мертвое тело.
Мои веки сомкнулись, и слезы своим чередом потекли, побежали, покатились по щекам, знаменуя мой полный провал. И я должна была подчинить себе мышцы лица, побороть инерцию, что пригибала все мое тело к земле, чтобы снова открыть глаза, и больше никого и ничего мне не хотелось видеть, но передо мной был опустевший балкон, и мое сердце чуть не показалось наружу из сдавленной глотки.
Затем настала моя очередь опустить голову. Приподняв подбородок и наконец-то расправив плечи, переходил улицу он.

