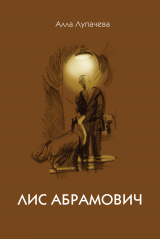
Текст книги "Лис Абрамович"
Автор книги: Алла Лупачева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Алла Лупачева
Лис Абрамович
Собачье сердце устроено так:
Полюбило – значит, навек.
Вера Инбер «Сеттер Джек»
Моим дорогим мужу и сыну
Рисунок на обложке: Мария Волохонская
© «Пробел-2000», 2018
© А. Лупачева, текст, 2018
Глава 1
Трагедии маленькие и большие
Весь високосный год был у Юли тяжелым, особенно последние месяцы. Недавняя смерть отца, болезнь любимой бездетной тетки, которой надо было постоянно помогать, готовить впрок еду, доставать лекарства, не говоря уже о своей семье, доме. На работе – нервотрепка перед сдачей годовых отчетов по темам, а после работы эти нескончаемые очереди в магазинах за всем и вся. Чувство безумной усталости не оставляло даже во сне. Вот и сегодня с самого утра у нее было какое-то странное, затуманенное состояние, будто загипнотизировали. Выходя из магазина, почти засыпая на ходу, она сунула кошелек в матерчатую сумку с продуктами и пошла к троллейбусной остановке.
Войдя в квартиру, Юля скинула засыпанное ранним снегом пальто, прошла на кухню, начала разбирать покупки и сразу заметила вертикальный разрез на сумке, где еще недавно сквозь ткань бугорком выпирал кошелек. Юля мгновенно все поняла: его ловко «вырезали» в троллейбусе, в толчее. И где – почти у самого дома! Она почти со злостью вытряхнула все покупки на стол – а вдруг просто завалился? Кошелька не было. Юля беспомощно опустилась на стул. Плакать было бессмысленно, но слезы все-таки покатились по щекам.
Посидев немного в растерянности, Юля вытерла слезы, умылась холодной водой и принялась раскладывать продукты по местам. Взглянув на пустую сахарницу, вздохнула – про сахар она совсем забыла. «Ну ничего, будем пить чай с вареньем», – успокоила она себя и зачем-то вышла в прихожую. Только теперь Юля заметила на полу то ли измятый, то ли скомканный лист компьютерной бумаги, на которой сын обычно печатал свои домашние работы по информатике. Сначала она хотела выбросить его в мусорное ведро, но потом решила, что сын мог обронить листок, второпях засовывая его в портфель. Она подняла его и попыталась разгладить. На бумаге, похоже, оторванной от небольшого рулона, было напечатано сине-фиолетовыми буквами и значками что-то совершенно непонятное. На всякий случай до прихода сына Юля отложила листок в сторону и занялась ужином.
Скоро все было готово, а мужчины еще не появились. Тут ей пришла в голову отличная мысль: «Надо бы попробовать прогладить этот листок утюгом! Антону будет приятно». Не теряя времени, она быстро включила утюг и осторожно провела им по злополучной бумажке. Все буквы и значки мгновенно исчезли, слившись в одно синее пятно. Все пропало! Юля рванула утюг вверх, едва не ударив себя в лоб, и стала лихорадочно дуть на теплый листок в надежде, что сейчас он остынет и все незнакомые значки вернутся на места. Но бумага оставалась сплошь синей. Юля окончательно расстроилась – вот не заладился день с утра, и все тут! Она отнесла испорченный лист сыну на письменный стол и только потом заревела.
Прихода сына Юля ждала со страхом. Что будет крик, она не сомневалась. Мужчины пришли почти одновременно. Юля усадила их ужинать. О кошельке она решила сообщить мужу позже, наедине, а пока начала робко рассказывать сыну, что подобрала какой-то листок и… Все произошло так, как она и опасалась. Сын бушевал, Юля снова чуть не плакала, муж успокаивал обоих, объясняя, что мама никогда раньше не видела такой бумаги, и даже предложил написать записку математику. Сын разозлился еще больше: «Да если в классе узнают правду, все со смеха помрут! Лучше уж я сам перед уроком объясню, Мироныч поймет. А ты, мам, дай честное слово никогда больше не трогать моих вещей. И вообще, обещай ко мне в комнату не заходить и со стола ничего не убирать. Я сам».
Ведь хотела как лучше… Ну почему так получается в жизни? Целый день одни неприятности.
Сколько раз просила Антона портфель собирать с вечера, нужные вещи не разбрасывать. Прав муж – избаловала она его, никаких обязанностей по дому. Думала, выпускной класс, пусть учится. Вот поступит в институт, тогда… А сын вырос, взрослый уже. Излишняя забота ему вредна. Да и вообще, с бумагой – это не трагедия. Если, как говорит муж, у компьютера есть «память», все можно напечатать еще раз. Хуже, если бумаги такой больше дома нет и попросить не у кого… Но это хоть и проблема, зато точно не ее. Она отвечает за еду, одежду, уборку, стирку. Ей и своих хлопот вполне достаточно. А еще работа, конец года, измерения не закончены, отчет не дописан, текст не допечатан! Кошмар!
Юля заставила себя немного успокоиться. Тяжело! Мамы уже четверть века нет, папы тоже, не с кем душу отвести. С отцом можно было бы посоветоваться, как вести себя со взрослым сыном. А может, и он бы ничего не посоветовал. Отец сам, как и ее муж, в четыре года остался сиротой, и выросли оба «без мужской руки», а дисциплина мальчика – это все-таки мужское дело. Как странно все повторяется в жизни… Вот и у Юли тоже ни братьев, ни сестер. Были бы у нее сестры или братья, наверное, и сама она выросла бы другим человеком. Лучше ли, хуже – но другим. Не сбылась мамина мечта родить светленького, сероглазого мальчишку, похожего на ее погибшего брата. И все война… Революции и войны калечат жизни людей даже через поколения – отнимают будущее у молодых, не дают возможности появиться новым росткам.
Мама никак не могла забыть войну, ненавидела ее и боялась. Во время любого застолья она произносила один и тот же тост: «Чтобы не было войны. Лишь бы не было…» Так думали все, кто пережил те страшные годы. Но в Юлиных детских воспоминаниях о войне ничего особо страшного, пожалуй, и не было. Наверное, ей было страшно, когда начинала выть сирена на улице и, перекрывая ее, глубокий голос диктора громко и властно повторял одно и то же: «Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога! Пройдите в убежище!» Тогда все люди куда-то прятались, улица мгновенно пустела, а бабушка изо всех сил тянула Юлю за руку прятаться в глубокий подвал прямо под ее комнатой в старом доме на Большой Грузинской. Обхватив руками ножку стола, Юля всегда упиралась – там же темно и страшно, там живут только мыши и пауки. Она ни за что не хотела спускаться туда без своих любимых Зайки и Мишки. Подвала Юля боялась больше, чем сирены и этого строгого голоса. Что такое война, она не понимала.
Смутно помнится ей вагон, в котором они с мамой ехали в эвакуацию, ослепительно яркий свет, вспыхнувший за окном при полном отсутствии звука, как в немом кино. Фугасная бомба попала в соседний с ними вагон, и он загорелся. Мама прижимает ее к себе, придавив снаружи подушкой, и бормочет непонятные слова: «Только вместе, только вместе». Это было страшно, но потом почти забылось.
Так, будто это было вчера, Юля помнит, как они с мамой ходили по тайге в соседнюю деревню. Кругом высоченные, в ее рост, сугробы и темные елки до самого неба. Порывами налетает сильный ветер, рвет в клочья тучи, раскачивает вершины, путается в стволах, завывает в глубине, с ветвей сыплется снег. Снежные комья оставляют глубокие дыры в сугробах, обнажая зеленые лапы хвои. Щиплет, обжигает лицо сорокаградусный мороз, деревенеют щеки. Время от времени мама останавливается, растирает ей открытый лоб и щеки легким рассыпчатым снегом, а потом нежно протирает все лицо своим носовым платком. Юля устала идти, а лес никак не кончается, хотя мама говорит, что до деревни уже недалеко. Она боится волков, медведей, темного леса, а мама успокаивает: «Леса бояться не надо. Бояться можно только плохих людей». Плохих людей? Какие они? Юля не знает плохих, вокруг нее только хорошие: мама, бабушка, соседка тетя Муза, которая подарила ей двухцветный карандаш, мамин брат, совсем мальчишка – с утра работает, потом ходит в вечернюю школу. Юля уже давно спит, когда он приходит. Зато по воскресеньям он берет ее с собой на рыбалку.
Через много лет Юля нашла крошечную фотографию с надписью на обратной стороне: «Красная Горка. Минус 42 градуса». Да, это они с папой! Шутка ли, минус сорок два градуса! Самой не верится. Сейчас и при пятнадцати в пуховой куртке она мерзнет, нос краснеет, ветер стягивает щеки, пальцы на ногах немеют.
А какой прекрасной была первая в ее жизни новогодняя елка! Дед Мороз принес ей ночью настоящую, большущую елку, пушистую, с густыми темными иголками. Сквозь мохнатые ветви светились неизвестно где добытые разноцветные круглые лампочки величиной с крупную вишню. От ветерка из форточки раскачивались на ветках легкие самодельные бумажные игрушки. А под елкой лежал кулечек с одним зеленым яблоком и любимыми леденцами.
Юля вздохнула. Память вновь сделала прыжок. Конец сорок второго или начало сорок третьего? Как только снова «открыли Москву», они с мамой вдвоем вернулись домой, в пустую промерзшую квартиру на Полянке – бумажные кресты на окнах, черные занавески, коптящие керосинки на кухне. Юля помнит, как они с мамой возили поленья для бабушкиной печки на чудом уцелевших деревянных детских санках со спинкой. Еще помнит рыбий жир из аптеки, жидкие детсадовские супы «из топора» с редкими волоконцами американской ленд-лизовской тушенки, ненавистную тушеную морковь коричневого цвета, съедобные грибы-шампиньоны, чудом прораставшие через утоптанную землю замоскворецкого двора.
В памяти сохранились и другие, светлые моменты – первый салют, который она смотрела из окна дома на Патриарших прудах, где жила мамина подруга Дуся. Где-то за домами стреляли, страшно грохотало, дрожали стекла, от страха Юля зажимала ладошками уши, но было очень красиво. А каким вкусным казалось полупрозрачное молочное мороженое в маленьких круглых вафельках, и каким богатством – единственный двухцветный карандаш-долгожитель, толстый, заостренный с обоих концов. А еще – девчачьи «секретики», придуманные просто так, «для красоты». Это было убогое, но очень трогательное воплощение детской тяги к красоте, так необходимой в мрачной атмосфере послевоенных проходных дворов.
В небольших ямках, выкопанных под окнами первого этажа, где меньше ходили люди, девочки выкладывали секретные картины из своих «сокровищ». Они создавали чудесные композиции из фрагментов старинных чашек с необычным рисунком, осколков зеленого бутылочного стекла, цветных фантиков и фольги от редко достававшихся конфет, мелких диких цветов, ярких журнальных обрывков и пестрых лоскутков ткани. Девочки закрывали их кусками оконного стекла – битое стекло валялось тогда повсюду, и засыпали просеянной руками землей. Потом они сравнивали свои «секретики» и выбирали самый красивый.
Юля улыбнулась – от таких воспоминаний становилось тепло на душе и немного грустно.
Или было все это совсем по-другому? Разве она не боялась входить в их темный подъезд, где не было ни одной лампочки на все пять этажей? А жуткие проходные дворы-колодцы, где могли ограбить и даже убить за продуктовые карточки? Но это было «про взрослых». Наверное, чтобы сохранить себя, дети невольно стараются удержать в памяти только лучшее.
Мама же содрогалась при одном только слове «война». Понимание ее страха пришло много позже и не сразу. Однажды, возвращаясь с мамой из магазина, Юля вдруг увидела на улице «полчеловека». На деревянной подставке, похожей на сиденье табуретки с колесиками, то ли сидело, то ли стояло туловище человека в старенькой телогрейке с деревяшками в посиневших руках, которыми он отталкивался от асфальта. Юля невольно попятилась назад, пытаясь спрятаться за мамину спину. Но мама крепко взяла ее за руку, подошла к калеке, о чем-то спросила. Юля не поняла, что он ответил, но мама вздохнула и молча отдала ему только что купленную бутылку молока и хлеб. Человек торопливо засунул бутылку в карман, хлеб положил за пазуху, потом растерянно поднял глаза на маму и перекрестил ее. Юля удивленно посмотрела на мать. «Проклятая война, – прошептала мама. В ее глазах стояли слезы. – Война – это очень страшно. Она калечит, уродует, убивает. Всех без разбора. Будь она трижды проклята!» Мама так никогда и не смогла забыть войну. Да и как оправдать, простить ту нечеловеческую жестокость, с которой обезумевшие от ненависти люди убивали друг друга? Неважно, какие шинели или головные уборы были у воюющих – фуражки, папахи, пилотки или каски. Если это не остановится, объятое ненавистью человечество когда-нибудь само себя уничтожит.
Если Юле вдруг казалось, что вот-вот начнется война, бежала к отцу. Папа всегда, как в детстве, так и потом, мог успокоить: «Когда громко кричат “война-война”, можно не волноваться. Войны не будет. Все войны начинаются тихо, вроде бы все нормально, а если что-то и происходит где-нибудь далеко, кажется, что это не про нас».
Где-то за окном резко взвизгнули тормоза. Юля очнулась от своих воспоминаний и посмотрела на часы. Муж, кажется, уже лег спать и читает, как обычно, в постели. Свет из-под двери комнаты Антона означал, что он все еще сидит за компьютером. Тогда Юля заварила чаю и села в любимый закуток на кухне, чтобы просмотреть утреннюю газету. Опять тревожно на Кавказе, снова столкновения, кровь, конца не видно. Нагорный Карабах – говорят, «местный конфликт». Да какой же он «местный», если войска хотят ввести? Или уже ввели? Когда же напишут правду? Вот уж где действительно плохо.
Она знает, что ситуация в Нагорном Карабахе очень беспокоила и отца, он еще несколько лет назад говорил, что это серьезно. Но спроси Юля сейчас почти любого знакомого, что же теперь там будет, только посмотрят с удивлением: «Почему тебя это волнует? Кто там у тебя? Родные? Близкие? Нет? Тебе что, своих проблем не хватает? Ну и не дергайся». «Но ведь так начинаются большие войны!» – думала она папиными словами.
После Чернобыльской катастрофы прошло не так уж много времени, и люди еще не оправились от ее последствий. Поэтому невнятная и краткая информация проходила в основном мимо ушей граждан и никого особо не тревожила. Большинство москвичей, занятых своими проблемами, оставались безразличными к тому, что происходило на Кавказе, далеко от их собственного дома, и чаще всего просто раздраженно качали головами: «Опять дерутся. И что им не живется? Горячие головы…» На многое люди по-прежнему смотрели через призму Чернобыля – справиться бы с главной бедой!
Только когда, спасаясь от погромов, ломая судьбы и расплескивая семьи, потекли с Кавказа в разные стороны потоки беженцев – десятки, тысячи, сотни тысяч – в поисках пристанища у родственников, друзей или даже за границей, скрывать стало уже невозможно. Люди занервничали. Это стало походить на настоящую войну.
Юля вспомнила свою последнюю командировку в Ереван. Удивительный вид ночного города из окна гостиницы, прозванной «Кукурузой»: алмазная россыпь уличных огней в дымке опустившегося в долину тумана и где-то на горизонте – темный силуэт горы Арарат. Гуляя по городу, она не встретила ни одного пьяного. Но по-настоящему ее потрясло то, что в Армении нет детских домов! Случись беда, сироту немедленно забирают к себе родственники или друзья. Благородные люди, достойный народ! Хотя пока там и спокойно, но им сейчас тоже очень трудно.
А у нее… Какие же все это мелочи – испорченная домашняя работа, недописанный отчет! Даже кошелек… Скорей бы уж закончился этот чертов високосный год! Только бы не война…
Уснуть Юля долго не могла. Сдерживая слезы, она рассказала мужу про кошелек, и он ее успокоил: «Ну, неприятно, конечно, но не беда. Еще заработаем, а пока выкрутимся как-нибудь». Ни слова упрека – золотой человек! На сердце у Юли стало легче, но уснуть все равно не получалось. Что-то неприятно постукивало в висках – Ка-ра-бах, ах-ах…Ко-ше-лек, лек-ек… Вот прицепилось! Не надо было на ночь читать газеты! Или вообще не читать? Мучило какое-то странное беспокойство, что украденным кошельком этот год не закончится… Не дай бог, защиту отчета передвинут на неделю, а в машбюро уже две машинистки больны. Кто будет допечатывать? Ка-ра-бах, ах-ах… Как детская считалка.
Но на следующее утро, едва она вошла в лабораторию, как позвонила машинистка и предложила допечатать оставшуюся часть отчета на дому, нужно только рукопись подвезти. Юля с облегчением вздохнула. Домой она шла налегке, стараясь думать о своих личных планах. Имеет право – отчет в печати, в магазин бежать не надо, ужин в холодильнике, только разогреть. Значит, можно будет спокойно почитать или довязать мужу свитер.
Глава 2
Землетрясение
Поужинав, мужчины пошли в комнату Антона разбираться с неполадками в старом компьютере, а Юля включила телевизор, чтобы послушать новости, вытащила свое вязанье, забралась с ногами на диван и стала считать петли: раз, два, три, четыре… десять. «…силой десять баллов по шкале Рихтера, – эхом отозвался голос диктора. – Имеются жертвы». Ей показалось, что она ослышалась. Она вскочила с дивана и с криком «Землетрясение, землетрясение!» помчалась к мужу сообщить страшную новость.
Землетрясение в Армении, длившееся около получаса, стерло с лица земли город Спитак, разрушило десятки городов и сотни сел. Сейсмическая волна докатилась и до Тбилиси. Погибло более двадцати тысяч человек, сотни тысяч раненых и искалеченных. По масштабу разрушений землетрясение было сравнимо с взрывом десяти атомных бомб Хиросимы. Это была огромная, настоящая трагедия. Катастрофа. Словно сама Природа взбунтовалась против бесконечных кровавых распрей обезумевших людей, желая стряхнуть их со своего тела. Но почему именно там?
В воздухе почти немедленно поползли странные, нехорошие слухи о двух или трех взрывах, которые были слышны примерно в том же районе за несколько дней до большого землетрясения. Затем – о срочной эвакуации каких-то поселков, наконец, о подземном испытании новой, «геофизической» бомбы с непредвиденной силой взрыва, сдвинувшего пласты земли. Кто-то простосердечно верил этим слухам и пугался. Кто-то «додумывал» и тяжело вздыхал: Юля была из их числа. Те, кто знали всю правду, – молчали, как и про Чернобыль.
Чудовищный размах бедствия потряс страну. Люди словно очнулись от спячки, и сострадание почувствовали все, в ком билось человеческое сердце. Для лишившихся крова людей зима в горах была особенно холодной и опасной. Присланных армейских палаток и одеял не хватало. В Москве безо всяких указаний «сверху» и лишних слов люди начали собирать теплые зимние вещи и деньги, чтобы помочь пострадавшим. На телевидении осмелевшие с началом перестройки молодые журналисты впервые в советской истории устроили телемарафон – сбор средств для пострадавших. Телевизоры были включены почти в каждом доме, в каждом профкоме и партбюро. В телестудии Останкино метались перед камерами красные от возбуждения ведущие, объявляя суммы пожертвований. В Юлином институте замерла на время отчетная лихорадка, уступив место благородному порыву. В лабораториях сотрудники лихорадочно вытряхивали в картонную коробку содержимое своих кошельков и карманов. Уже через час, невзирая на непогоду, со всех концов Москвы, прижимая к себе портфели, сумки, дипломаты и даже полиэтиленовые пакеты с деньгами, помчались на ближайшую почту первые посыльные. Люди всех возрастов и профессий, шлепая по декабрьской грязи в элегантных сапожках, в спортивных кроссовках и тяжелых ботинках, бежали от всех городских остановок метро, автобусов, приезжали на такси, чтобы немедленно отправить перевод прямо в студию. К окошкам «Прием денежных переводов» везде образовались огромные очереди. Юлина очередь подошла ближе к трем часам. Получив квитанцию, она с гордостью помчалась обратно на работу. Ее ждали: «Ну, что там? Много народу?» Ощущение сопричастности к чему-то жизненно важному было необычайным. Каждому хотелось протянуть руку помощи, чтобы кто-то из пострадавших мог ухватиться именно за его руку. Не каждому? Не всем? Кто знает? Только с годами все чаще стало закрадываться в Юлину душу тоскливое сомнение: а может, все это было хорошо организованным «всплеском народного энтузиазма», как бывало уже не раз? Но тогда большинство людей об этом не думало. Видно, проснулось на мгновение основательно забытое после войны чувство общего горя, искреннее, от чистого сердца. Ах, как хотелось тогда верить, что теперь так будет всегда!
Все вокруг жило в ненормальном, ускоренном темпе. Это было какое-то чудо: на фоне однообразных серых будней настоящая огромная трагедия в одно мгновение вдруг отодвинула на задний план все мелкое и несущественное, пробудив в людях глубокое сострадание к чужой беде. Этот порыв на какой-то момент объединил всех и согрел зачерствевшие сердца. Впервые за всю свою жизнь Юля почувствовала себя частью того, что Ахматова назвала «мой народ». Вокруг были свои, близкие, родные ей люди, она сама была там, где был ее народ. Прекрасное чувство общности в добре было ново и дорого ее сердцу.
Наконец, високосный год подошел к концу, в институте все начали потихоньку задумываться о предстоящих праздниках и детских каникулах. Жизнь входила в обычный и даже несколько расслабленный ритм. Потрясение от случившегося на Кавказе тоже улеглось. Правда, спустя месяц-другой кто-то из Юлиных сотрудников вяло, просто ради любопытства поинтересовался, отправлены ли в Армению собранные теплые вещи, и тут же обнаружил, что знакомые коробки все еще валяются в подвале местного райкома партии за «неимением транспорта». Услышав такую новость, люди недовольно заворчали: «Мы от всей души… А эти?! Плюют на нас, дурачат, как обычно. Отчитались за кампанию и хватит». Почти одновременно по Москве поползли другие слухи, что «наше старое тряпье им (пострадавшим) не нужно, они получают прекрасные дубленки из Франции. Вот пойдите на рынок и посмотрите, кто ими торгует». Была ли в этих словах правда, выплеснувшаяся наружу непонятная обида или просто чья-то грязная зависть, сказать трудно, но ощущение было омерзительным. Газеты, как всегда, полнились лозунгами, а воздух – слухами. Оставалось только вздохнуть или горько усмехнуться.
Но любой энтузиазм, искренний или подогретый, – всегда лишь эмоциональный порыв, который длится недолго и не может заменить тяжелой работы профессионалов.
Как только спасатели и военные расчистили подъезды к Спитаку, разобрали завалы, отправили в госпитали раненых и занялись опознанием жертв, в зону землетрясения были направлены эксперты, лучшие специалисты институтов, министерств и ведомств. Инструктаж был коротким: ситуация в регионе чрезвычайная, все гражданские специалисты подчиняются единому военному начальству.
Юлин муж Абрам, математик и физик по образованию, волею судеб ставший специалистом в области прочности бетона и железобетонных конструкций, был командирован в зону разрушения одним из первых. Ему предстояло «неразрушающим методом» определить причины столь катастрофического разрушения одного из самых прочных строительных материалов. В сочетании названия метода и сути предстоящей работы крылась какая-то злая ирония.
Масштаб катастрофы можно было оценить с первого взгляда. Это был разбомбленный Дрезден, руины Варшавы и «Герника» Пикассо. Кругом острые глыбы серого бетона и нежно-розового, как кожа младенца, туфа. Скрученные металлические прутья арматуры. Сложившиеся, как домино, стены бывших типовых домов. Горы песка, щебня, битого кирпича и осколков стекла. Деревья, вырванные с корнем и сломанные пополам, как спички. Некогда такая прекрасная, а теперь изуродованная и безжизненная земля.
Первое, что бросилось Абраму в глаза, – это поврежденные, но уцелевшие стены одних домов и глыбы бетона, горы песка и стекла на месте других. Одинаковые здания, типовые проекты. Почему устояли одни и рухнули другие?
Все светлое время дня Абрам, словно золотоискатель, карабкался по руинам, подбирая на развалинах подходящие куски бетона, пригодные для его измерений. Для начала необходимо было определить «бывшую» прочность и марку бетона разрушенных конструкций. Отдельные фрагменты были вовсе не «бетонного» цвета, и тогда по излому он пытался визуально определить состав исходной смеси или присутствие необычных примесей. Все свои наблюдения детально фиксировал в дневнике. А вечерами в импровизированной «гостинице» считал, заполнял таблицы, строил графики, анализировал, сопоставляя с дневниковыми записями. Он искал общее в мелочах и специфику в целом.
Иногда Абраму казалось, что с прибором что-то неладно… Он снова повторял измерения, чтобы убедиться – прибор в порядке, ошибка исключена. Бетон местами был почти без цемента, один песок. При взгляде на уцелевшие, стоявшие особняком стены добротных частных домов ни у кого не оставалось сомнений, куда делся положенный цемент. Разве могли устоять дома с неприваренной арматурой лестничных пролетов? Где вы теперь, халтурщики-строители, сознательно или по лени ставшие преступниками? А вы где, бездумные автолюбители, вырезавшие целые секции литого фундамента ради личного гаража? И вы, чеховские «злоумышленники», разбиравшие в квартирах несущие стены ради пары лишних квадратных метров? Что же вы натворили, несчастные? Но немой крик повисал в холодном безлюдном пространстве маленьким облачком пара изо рта. Спрашивать было уже некого.
Связь с Москвой была плохая, мобильники в стране еще не появились. Бесперебойно работала только радиотелефонная связь, у военных. Но для остальных, штатских – почти полная оторванность от мира. Когда однажды в квартире неожиданно раздался телефонный звонок, Юля как сумасшедшая схватила трубку и услышала: «Не волнуйся. У меня всего одна минута. Жив, здоров. Все в порядке». Порядок? Его трудно было представить даже при самом искреннем желании, хотя именно тогда, в режиме чрезвычайного положения, там наверняка был порядок. «Живу в гостинице. (Какая там «гостиница» в этом стертом с лица земли городе?) Питаюсь нормально. (Не ем, а питаюсь!) Больше говорить не могу. Целую».
Через два с половиной месяца тяжелой, напряженной работы гражданских экспертов стали отпускать по домам. В последнюю ночь перед самым отъездом Абрам еще раз прошелся по бывшему городу. Людей нигде не было. Город был мертв. Только выли голодные, теперь уже навсегда бездомные собаки.
Неожиданное возвращение мужа было похоже на репинскую картину «Не ждали». Когда поздно вечером раздался осторожный звонок в дверь, Юля, не дожидаясь ответа на вопрос «Кто там?», почему-то откинула цепочку и сразу повернула замок. На пороге стоял виновато улыбающийся, давно не бритый человек с покрасневшими от пыли и недосыпания глазами. За его плечами провис набитый грязным бельем рюкзак, в авоське тяжело покачивалась огромная, килограммов на пять, запечатанная жестяная банка сгущенного молока из командировочного пайка.
– Никого не разбудил? – тихо, почти шепотом спросил он. – Мог прилететь завтра утром, но не выдержал. Я так спешил к вам…
Юля крепко прижалась к этому колючему, насквозь пропыленному человеку, вдыхая его родной запах, смешанный с запахами незнакомого табака, длинной дороги и безмерной усталости.
Наконец после многих дней изнурительной работы Абрам блаженно «отмокал» в ванне с пышным облаком перламутровой мыльной пены, тщательно отскребал щетину и дорожную грязь. Потом камнем рухнул в постель с чистым, отглаженным бельем и мгновенно уснул. Он спал почти двенадцать часов подряд, а утром было стремительное пробуждение и марш-бросок в институт – писать отчет. Чтобы описать красоту гор и ужас разрушений, нужен был художник или поэт. Научный отчет требовал протокола, сухих цифр, результатов измерений, расчетов и трезвого анализа фактов с четко обоснованными выводами. Никаких эмоций.
Через несколько дней отчет был закончен: измерения тщательно обсчитаны и многократно проверены, результаты сведены в таблицы и графики, все распечатано в нескольких экземплярах и отправлено в министерство. Десятого февраля Абрам поставил свою последнюю подпись в каком-то военном ведомстве и вздохнул с облегчением. Наконец-то можно попросить у начальства парочку дней отгула, хорошенько выспаться и отдохнуть.
По пути домой ему предстояло пересесть на троллейбус у Зоопарка. После теплого светлого вестибюля метро на улице было особенно мерзко – жуткий ветер, пробирающая до костей февральская сырость, под ногами адская каша подтаявшего и вновь смерзшегося снега, перемешанного с песком, солью, плевками и окурками. В такую погоду, как говорится, хороший хозяин собаку не выгонит. Уходящая зима брала реванш. Сильные порывы ветра гнали по небу тяжелые, набухшие от мокрого снега тучи, разрывая их в клочья и позволяя на мгновенье одинокому солнечному лучу высветлить их края. Словно поддразнивая, приоткрывалась тогда ярко-голубая лужица неба, и мгновенно все снова затягивалось беспросветной мрачной тоской. Ледяной северный ветер, не ослабевая, насылал на город очередную колючую метель. Пешеходы с опаской семенили по тротуарам, неуверенно балансировали на обледенелых булыжных мостовых, порой взмахивая руками-крыльями в стремлении удержаться на ногах, чертыхаясь, поминая дворника, его мать и непогоду, еще долго что-то сердито бурча себе под нос.
Подняв воротник, Абрам выскочил из метро и увидел на конечной остановке свой троллейбус. Выбрав удобный момент, стараясь не угодить в прихваченные льдом лужи, он решительно перебежал по скользкой брусчатке на другую сторону улицы, к табачному киоску, где обычно покупал сигареты «Шипка». Получив сдачу, быстро сунул в карман пальто пачку и монеты и уже собрался рвануть к остановке. И тут они встретились глазами – человек и мокрый, дрожащий от холода несчастный пес, бессильно привалившийся к облупленной обледенелой стене старого дома, на углу которого стоял киоск.








