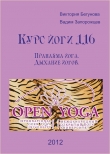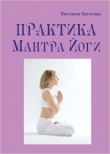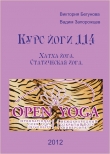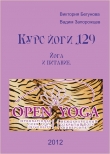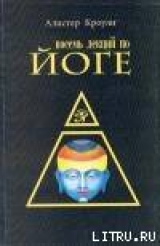
Текст книги "Восемь лекций по йоге"
Автор книги: Алистер Кроули
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
ЧастьVI. Дхьяна
Дхьяна – это то же слово, которое на языке пали звучит как «джхана» Будда различал восемь джхан, очевидно, понимая под ними различные степени и виды транса Индусы считают дхьяну малой формой самадхи Впрочем, по мнению других авторов, дхьяна – это просто усиление дхараны Патанджали говорит «Дхарана – это фиксация сознания на каком-то конкретном объекте Однородное течение концентрации сознания на этом объекте – дхьяна Когда сознание лишается формы, высвечивая только сам объект, наступает самадхи» Он объединяет три эти ступени йоги в понятие самьямы
Мы будем рассматривать дхьяну как результат, а не как метод Вплоть до этого момента древние авторитеты служили нам достаточно надежными проводниками по всем вопросам, кроме связанных с их замысловатой этикой Но когда речь заходит об оценке результатов медитации, древние оказываются совершенно несостоятельными
Пуская в ход все свои поэтические способности, они говорят очевидную ложь Например, мы читаем в «Шива-самхите», что «того, кто ежедневно созерцает этот сердечный лотос, страстно желают дочери Бога, к нему приходит дар яснослышания, ясновидения, и он может ходить по воздуху» Другой человек «может создавать золото, открывать лекарства от болезней и видеть спрятанные сокровища» Все это ложь Словно на религию кто-то наложил проклятие, чтобы любые ее утверждения не обходились без преувеличений и лживых обещаний1
Есть одно исключение это А.*.А.*., чьи члены высказываются очень осторожно, стараясь никогда не делать заявлений, которые нельзя проверить обычными методами, а там, где без этого не обойтись, по крайней мере воздерживаются от догматических утверждений. В их второй книге практических инструкций, «Либер О», читаем следующее:
«При выполнении определенных практик вы добиваетесь определенных результатов. Со всей серьезностью предостерегаем учеников не считать ни один из этих результатов объективно реальным или философски достоверным».
Золотые слова!
Итак, приступая к обсуждению дхьяны, хочу вас сразу предупредить, что описание, которое сейчас последует, окажется несколько неожиданным.
Мы будем рассматривать природу дхьяны и оценивать ее значение совершенно непредвзято, не позволяя себе обычного высокопарного пустозвонства и выведения теорий происхождения вселенной. Любой дополнительный факт способен разрушить некую существующую теорию. Но ни один единичный факт не достаточен для создания новой теории
Необходимо уяснить, что дхарана, дхьяна и самадхи составляют непрерывный процесс, и не имеет значения, где в точности происходит момент кульминации. Именно об этой кульминации мы и должны говорить, потому что это вопрос опыта., и притом весьма ошеломляющего.
Во время нашей концентрации мы замечаем, что содержание сознания состоит только из двух компонентов, объекта – изменчивого и субъекта – неизменного или кажущегося таковым. При достижении успеха в дхаране объект становится таким же неизменным, как сам субъект. В результате оба сливаются в одно. Это явление обычно вызывает огромное потрясение. Его не могут описать даже мастера слова. И поэтому неудивительно, что полуобразованные заики просто захлебываются в океане слов.
Ваше поэтическое и эмоциональное проявление собственного «Я» попадает в своего рода экстаз от явления, которое переворачивает сознание и создает ощущение, что по сравнению с ним вся оставшаяся жизнь тускла и совершенно бессмысленна.
Хорошая литература – это, главным образом, результат хорошей наблюдательности и хорошего суждения, выраженный самым простым языком. По этой причине ни одно из великих событий в истории (вроде землетрясений и сражений) не было хорошо описано очевидцами, если только эти очевидцы не были вне опасности. Но даже когда вы привыкаете к дхьяне (при постоянном повторении), для ее описания нет подходящих слов.
Одну из простейших форм дхьяны можно назвать «Солнцем»: оно видится (как ни странно) самим солнцем, а не наблюдателем; и хотя физический глаз не может узреть его, практикующий вынужден признать, что «это Солнце» светит намного ярче, чем природное. Все это происходит на высшем уровне.
При этом разрушаются понятия мысли, времени и пространства. Невозможно объяснить, что это в действительности означает. Составить об этом представление можно, лишь испытав это. (Здесь тоже есть свои аналогии с обычной жизнью; новичку не ухватить, а обывателю не объяснить понятия высшей математики).
Дальнейшее развитие – это появление Формы, которая универсально описывается как человек; хотя описывающие ее люди продолжали добавлять большое количество подробностей, которые не присущи человеку. Эта особая внешность обычно приписывается «Богу».
Но как бы то ни было, это оказывает колоссальное влияние на сознание практикующего. Все его мысли достигают величайшего развития. Он искренне верит, что они получают божественную поддержку, возможно, он даже предполагает, что они эмалируют от его «Бога». Он возвращается обратно в мир, вооруженный этой глубокой убежденностью и силой. Он публично расхваливает свои идеи без всякого стеснения, и они порождают у большинства людей определенные ассоциации.
Подобное отсутствие стеснения не следует путать с бесстыдством пьяного или сумасшедшего. (Хотя сходство поразительное, пусть даже оно и поверхностное). В дальнейшем, как вы уже догадались, приходит истинное просветление.
В любом случае, человечество в своей массе всегда готово поддаться влиянию всего авторитетного и необычного. История знает примеры, когда офицеры выходили невооруженными к мятежному полку и разоружали солдат исключительно за счет уверенности в себе. Общеизвестна власть оратора над толпой. Возможно, по этой причине пророк мог заставить человечество подчиняться его закону. Ему даже не приходит в голову, что человечество могло поступить иначе. В практической жизни человек может пройти мимо любого охранника, дежурного или контролера, если от него исходит некая сила, убеждающая стража порядка, что у него есть на это право.
Кстати, эта сила описывается магами как сила невидимости. Широко известна удивительная история о четырех вполне надежных людях, которые выслеживали убийцу. Они получили инструкции никого не пропускать и поочередно поклялись над мертвым телом товарища, что мимо них никто не пройдет. Но ни один из них не заметил почтальона.
Воры, укравшие «Джоконду» из Лувра, были, вероятно, переодеты рабочими и украли картину под бдительным оком охранника; вполне вероятно, что они даже обращались к нему за помощью.
Необходимо лишь поверить, что какая-то вещь должна быть, – и она появится. Эта вера не должна быть эмоциональной или интеллектуальной. Она живет в глубокой части сознания, хотя и не самой глубокой. Впрочем, большинство людей (особенно преуспевающие) поймут сказанное, потому что обладают личным опытом и им есть с чем сравнивать.
Однако самый важный фактор в дхьяне – это уничтожение Эго. Наше представление о вселенной должно быть полностью опровергнуто. И тут нам пришла пора задуматься, что же на самом деле происходит.
Допустим, что мы логически понимаем масштабность великих людей. Все они «переживали» ошеломляющий опыт, настолько несоразмерный всем остальным вещам, что они освобождались от всех мелких препятствий, которые мешают нормальному человеку осуществлять его проекты.
Беспокойство по поводу одежды, пищи, денег и того, что подумают люди, и прежде всего страх перед будущим, связывают обычных людей по рукам и ногам. Теоретически нет ничего проще, чем анархисту убить премьер-министра. Ему нужно лишь купить винтовку, стать первоклассным стрелком и застрелить премьер-министра с расстояния в четверть мили. И при этом, хотя на свете живет множество анархистов, террористических актов очень мало. В то же время полиция, возможно, первой согласится с мнением, что, если бы человеку по-настоящему опостылела жизнь (а это состояние весьма отличается от того, в котором человек ходит и всюду жалуется, что он устал от жизни), он обязательно нашел бы способ перед смертью кого-нибудь подстрелить.
Итак, человек, который пережил любую из самых интенсивных форм дхьяны, освобождается. Следовательно, для него Вселенная уничтожается, а он уничтожается для Вселенной. Поэтому его воля может развиваться беспрепятственно. На примере Мохаммеда можно представить, что он годами лелеял колоссальные честолюбивые мечты, но не мог ничего сделать, потому что те самые качества, которые впоследствии реализовались в талант государственного деятеля, на тот момент сигнализировали ему, что он слаб. Видения в пещере придали ему уверенность (ту самую веру), которая двигает горы. В этом мире есть много внешне неподъемных предметов, которые в действительности способен сдвинуть ребенок; но не каждый имеет мужество их сдвинуть.
Давайте примем условно это объяснение величия и пойдем дальше. Честолюбивые мечты привели нас к этому вопросу, но сейчас нас интересует работа ради работы.
Самое потрясающее явление произошло с нами. Мы пережили опыт, который обесценивает любовь, славу, чины, честолюбивые стремления и богатство. И мы начинаем страстно интересоваться: «Что есть истина?». Вселенная разрушается вокруг нас, как карточный домик, и мы тоже разрушаемся. Это колоссальная проблема. Но эти руины предвещают раскрытие Врат Небесных, и мы чувствуем в себе некую силу, которая жаждет эту проблему решить.
Давайте попробуем объяснить, что же на самом деле происходит.
Первое предположение, которое может прийти в голову психически уравновешенного человека, разбирающегося в естественных науках, представляется так: мы пережили ментальную катастрофу. Можно заподозрить, что, как и от удара по голове, человеку начинают «видеться звезды», – дикое ментальное напряжение дхараны каким-то образом перенапрягает мозг, вызывая спазм или даже разрыв мелких сосудов. Нет никакой видимой причины для отказа от этого объяснения, хотя довольно абсурдно предполагать, что принять его – значит осудить эту практику. Спазм – это нормальная функция по меньшей мере одного из органов тела. То, что мозг не повреждается от этой практики, доказывает факт, что многие люди, которые, по их словам, пережили этот опыт, по-прежнему продолжают жить обычной жизнью и заниматься любимыми делами, ничуть не снижая активности.
Значит, мы можем отказаться от попытки физиологического объяснения проблемы. Физиология не проливает свет на пережитое нами состояния, которое и составляет ценность эмпирического свидетельства.
Итак, это очень сложный момент. И он затрагивает намного более важный вопрос о ценности любого свидетельства. Любая возможная мысль в то или иное время подвергается сомнению, – кроме той мысли, которая может выражаться лишь с вопросительной ноткой, поскольку сомневаться в такой мысли означает ее подтверждать. (Подробно это обсуждается в статье «Солдат и горбун», Эквинокс I.) Но помимо этого глубоко укоренившегося философского сомнения существует еще обыденное, или «практическое» сомнение. Популярная фраза «не доверяй своим ощущениям» показывает нам, что обычно мы склонны доверять своим ощущениям, но ученый человек никогда так не поступает. Он прекрасно знает, что ощущения постоянно его обманывают, поэтому изобретает всевозможные инструменты, которыми перепроверяет эти ощущения.
Но вскоре к нему приходит понимание, что Вселенная, которую он непосредственно воспринимает органами чувств, – это мельчайшая частичка Вселенной, которую он познает опосредованно при помощи инструментов.
Например, воздух на четыре пятых состоит из азота. Если бы кто-то внес в комнату бутылку с азотом, было бы невероятно трудно сказать, что находится в бутылке; почти все тесты, которые можно было бы провести, опираясь на ощущения, ни к чему бы не привели. В данном случае ощущения мало что подсказали бы, если бы вообще смогли что-либо подсказать.
Аргон был открыт лишь в результате сравнения веса химически чистого азота с азотом из воздуха. Измерения проводились часто, но ни у кого не было достаточно тонких инструментов, чтобы даже заметить это расхождение. Или вот еще один пример: знаменитый ученый совсем недавно сделал заявление, что наука никогда не узнает химический состав неподвижных звезд. Но это сделано, и с большой точностью.
Если спросить человека науки о его «теории реальности», он бы вам сказал, что «космический ветер», никогда не воспринимаемый органами чувств и обладающий качествами, которые (используя обыденную терминологию) просто невероятны, намного более реален, чем стул, на котором он сидит. Стул – это всего лишь один факт; и его существование подтверждается свидетельским показанием одного человека, которому свойственно ошибаться. А «космический ветер» – это логически вытекающее заключение, полученное в результате анализа, подлинность которого устанавливается снова и снова и проверяется всеми возможными экспериментальными проверками. Поэтому нет никакой априорной причины отрицать что-либо на том основании, что оно, дескать, не воспринимается органами чувств непосредственно.
Перейдем к другому вопросу. Одним из критериев истины мы считаем яркость впечатлений. Мы можем забыть какое-то единичное событие в прошлом, не имевшее для нас особого значения. И если ему все-таки было суждено вспомниться при тех или иных обстоятельствах, то часто вы спрашиваете себя: «А не пригрезилось ли оно мне? Происходило ли оно на самом деле?» Никогда не забываются лишь события катастрофического характера. Например, люди никогда не забывают смерть любимого человека. Впервые в жизни человек осознает то, что ранее он просто знал. Такое переживание порой делает человека невменяемым. Известны случаи, когда ученые совершали самоубийство, когда разваливалась их любимая теория. Эта проблема обсуждалась в «Науке и буддизме», «Времени», «Верблюде» и других статьях*.
Любую простую теорию легко опровергнуть. Можно найти слабые места в процессе рассуждений, можно предположить, что за основу взяты неверные предпосылки; но в этом случае, если человек оспаривает достоверность дхьяны, разум теряет опору, осознавая тот факт, что, если критиковать с тех же позиций любой другой опыт, реальность этого другого опыта опровергнуть еще проще.
Каким бы методом мы ни воспользовались, результат всегда оказывается одинаковым. Возможно, дхьяна – это ложь; но если это так, то и все остальное вокруг – ложь.
Итак, разум отказывается верить в нереальность своих переживаний. Да, пусть все не так, как кажется; но как-то же оно должно быть, и если (в целом) обычная жизнь представляет собой что-то, насколько же грандиознее должно быть то, в свете чего обычная жизнь кажется ничем!
Обычный человек понимает недостоверность, бессвязность и бесполезность видений; он приписывает их (справедливо) помраченному рассудку. Философ относится к жизни наяву с подобным презрением; но и человек, который пережил дхьяну, тоже становится на такую же точку зрения. Но не в результате сухой интеллектуальной убежденности. Причины, какими бы убедительными они ни были, никогда полностью не убеждают, но человек, который знает, что такое дхьяна, обладает такой же обыденной уверенностью в ее переживании, какой обладает любой человек при пробуждении от ночного кошмара. «Я не скатывался вдоль тысячи лестничных пролетов, то был лишь дурной сон».
Примерно так же рассуждает человек, переживший опыт дхьяны: «Я вовсе не то жалкое насекомое, мельчайший земной паразит; то был лишь дурной сон». И так же, как вы не в состоянии убедить нормального человека, что его ночной кошмар более реален, чем его пробуждение, вам не убедить другого человека, что его дхьяна была галлюцинацией, ибо он прекрасно осознает, что выпал из этого состояния в «нормальную» жизнь.
Наверное, редко бывает так, чтобы единичный эксперимент радикальным образом разрушал все представление о Вселенной; точно так же, как в первые моменты после пробуждения человек иногда сомневается, что реальнее – сон или явь. Но когда практикующий набирается дальнейшего опыта, когда дхьяна перестает быть потрясением, когда проходит много времени и он начинает чувствовать себя уютно в новом мире, который становится для него домом, его убеждение становится непоколебимым*.
Есть и другое рациональное соображение. Ученик не пытался волновать воображение, а стремился его успокоить. Он не стремился возбуждать мысли, а пытался их исключить. Ибо не существует ни малейшей связи между объектом медитации и дхьяной. Почему мы должны допускать прерывание процесса, особенно если сознание очистилось от таких помех, как боль или усталость? Наверняка здесь уместно привести одну индийскую аналогию, прекрасно отражающую эту простейшую теорию.
Это образ озера, к которому с гор спускаются пять ледников Ледники – это чувства Пока лед (впечатления) постоянно откалывается и падает в озеро, он мутит воды Если ледники останавливаются, поверхность озера успокаивается, и вот тогда, и только тогда, гладь озера отражает полный диск солнца Солнце – это наша «душа», или «Бог»
Впрочем, сейчас нам следует воздержаться от употребления таких терминов ввиду сложности их толкования Давайте лучше говорить о солнце как о «чем-то неведомом, чье присутствие замаскировано и вещами, которые мы познаем, и самим познающим»
К тому же не исключено, что наша память о дхьяне – это память не о самом явлении, а лишь об образе, который запечатлелся на этом месте в сознании Но это также справедливо в отношении всех остальных явлений, как убедительно доказали Беркли и Кант
Мы можем условно принять точку зрения, согласно которой дхьяна реальна; более реальна и, значит, более важна для нас, чем другой опыт. Это состояние было описано не только индусами и буддистами, но также мусульманами и христианами Однако что касается христианских писаний, то из-за глубоко укоренившихся в этих текстах догматических предубеждений они теряют всяческую ценность в глазах обычного человека Они игнорируют основные состояния дхьяны и настаивают на несущественном в гораздо большей степени, чем лучшие индийские писатели Но для любого человека с опытом и некоторыми познаниями в области сравнительной религии их тождественность очевидна
А теперь можно переходить к самадхи
Часть VII. Самадхи
О самадхи написано достаточно вздора Поэтому мы должны постараться не увеличить и без того огромное количество вздорных суждений на эту тему Даже Патанджа-ли, безупречно четкого и практичного во многих вещах, начинает «заносить», когда он говорит о самадхи Даже если все то, о чем он говорит, правда, ему не следовало об этом упоминать, ибо это не звучит правдоподобно
А мы договорились не выступать с заявлениями, которые кажутся априори невозможными, не подкрепляя их исчерпывающими и вескими доказательствами Учитывая мое уважение к сэру Патанджали, я переадресовываю все свои замечания в адрес толкователей, которые просто неправильно его поняли
Самая разумная мысль из всех, высказанных признанными авторитетами, принадлежит Дджне Валкье, который говорит «С пранаямой исторгаются загрязнения тела, с дхараной – загрязнения сознания, с пратьяхарой – загрязнения привязанности, а с помощью самадхи сбрасывается все, что скрывает свет души» Весьма сдержанное высказывание в хорошей художественной форме Если бы нам только удалось его реализовать!
Во-первых, что означает этот термин. Этимологически, сам – это греческое син-, английская приставка «син-», означающая «совместность, совпадение» Адхи означает «Господь» И тогда естественный перевод всего слова звучит как «слияние с Богом», – точный термин, употребляемый христианскими мистиками для описания своих достижений
И вот здесь начинается путаница, поскольку буддисты понимают под словом «самадхи» совершенно другую вещь всего лишь внимание Таким образом, в их терминологии думать о кошке – это «делать самадхи» на этой кошке Для описания мистических состояний они используют слово «джхана». Это чрезвычайно запутывает дело, ибо, как мы видели в предыдущей части, дхьяна – это подготовка к самадхи, а джхана – это просто исковерканная плебейская вульгаризация этого слова на языке пали.
Есть много видов самадхи. (Но они чисто внешние. То есть очевидные результаты самадхи различны. Вероятно, причина самадхи только одна, но она по-разному преломляется в разных условиях.) Некоторые авторы считают Атмадаршану (Вселенную как единственный безусловный феномен) первым реальным самадхи. Если мы это признаем, нам придется отнести многие менее восторженные состояния к классу дхьяны. Патанджали перечисляет ряд этих состояний. Проигрывание этих состояний на различных вещах придает различные магические силы; так он, по крайней мере, утверждает. Не будем это здесь обсуждать Любой человек, который хочет обладать магическими силами, может приобрести их дюжинами различных способов.
Сила растет быстрее, чем желание. Мальчишка, у которого нет денег на покупку оловянных солдатиков, находит работу, чтобы заработать эти деньги, но к тому времени, когда он их зарабатывает, оказывается, что вместо солдатиков ему нужно что-то другое – и, по всей вероятности, то, на что его средств явно не хватает.
Такова блистательная история всего духовного развития! Человек никогда не перестает принимать воздаяния.
Но вернемся к существу обсуждаемого вопроса. Дхьяна во многих отношениях напоминает самадхи. Есть слияние эго и не-эго, потеря ощущения времени, пространства и причинно-следственных связей. Двойственность в любом виде уничтожается. Представление о времени строится на представлении о двух последовательных событиях
Представление о пространстве – на представлении о двух несовпадающих событиях, а представление о причинно-следственных связях – на представлении о двух связанных событиях.
Эти дхьянические состояния идут вразрез с состояниями нормального мышления; но в самадхи они намного более заметны, чем в дхьяне. Если в дхьяне это кажется простым слиянием двух вещей, то в самадхи это выглядит так, словно все сущее несется навстречу друг другу и сливается. Можно сказать, что в дхьяне это качество все еще было нераскрытым, что Одно существующее противопоставлялось Многому несуществующему. В самадхи Много и Одно сливаются в единстве существующего и несуществующего. Это определение получено не в результате размышлений, а извлечено из глубин памяти.
Далее, овладеть умением и мастерством дхьяны относительно легко. Со временем можно научиться входить в это состояние и без предварительной практики. Глядя на это под таким углом зрения, можно примирить оба значения слова, которые обсуждались нами в предыдущей части. «Снизу» дхьяна производит впечатление транса, и это переживание настолько грандиозно, что нельзя даже представить ничего более величественного, хотя «сверху» оно кажется простым состоянием сознания, таким же естественным, как любое другое. Брат Пердурабо, еще до вхождения в самадхи, писал о дхьяне: «Возможно, в результате интенсивного контроля прекращается нервное возбуждение. Это мы называем дхьяной. Самадхи, насколько я понимаю, – это всего лишь расширение масштабов дхьяны».
Через пять лет он бы с этим не согласился. Он бы определил дхьяну как «течение сознания одним сплошным потоком от эго к не-эго без осознавания того и другого, сопровождающееся нарастающим изумлением и блаженством». Он может понять, как самадхи становится естественным результатом дхьяны, но не в состоянии с такой же уверенностью назвать дхьяну предпосылкой самадхи. Возможно, он в действительности не знает, какие условия вызывают самадхи. Он способен войти в дхьяну по собственному желанию через несколько минут работы; а часто это случается совершенно спонтанно. Но, к сожалению, с самадхи так не проходит. Может быть, он и способен входить в самадхи по собственному желанию, но все равно точно не знает, как это происходит и как долго он может в нем находиться; и потом он не уверен, входил ли он вообще в самадхи.
Человек уверен, что может прошагать милю по ровной дороге. Он знает состояние дороги, и чтобы помешать ему пройти, должно произойти какое-то чрезвычайное происшествие. Утверждение: «Я взошел на гору и знаю, что взойду на нее снова», – менее убедительно. Могут возникнуть разные более или менее вероятные обстоятельства, любое из которых может помешать восхождению.
Итак, мы действительно знаем, что если мысль остается единичной и неподвижной, наступает дхьяна. Мы не знаем, достаточно ли усиления дхьяны, чтобы вызвать самадхи, или же для этого требуются некоторые дополнительные условия. Одно дело научная теория, и совсем другое – практика.
Один автор утверждает (если не подводит память), что фиксация сознания в течение двенадцати секунд – это дхарана, ста сорока четырех секунд – это дхьяна, а в течение тысячи семисот двадцати восьми секунд – это самадхи. А Вивекананда, комментируя тексты Патанджали, считает дхьяну просто продлением дхараны; но потом говорит: «Предположим, я медитировал на книге, и постепенно мое сознание все более на ней концентрировалось и воспринимало только внутреннее ощущение, – значение, не выраженное ни в какой форме. Такое состояние дхьяны называется самадхи».
Другие авторы склонны предполагать, что самадхи наступает в результате медитации на предметах, которые сами по себе обладают ценностью. Например, Вивекананда говорит: «Думай о любом священном предмете», – и поясняет это так: «Это означает, что нельзя думать о нечестивом предмете»(!).
Брату Пердурабо не хотелось бы говорить со всей уверенностью, входил ли он когда-нибудь в дхьяну, медитируя на обычных предметах. Он бросил эту практику через несколько месяцев и медитировал на чакрах. К тому же дхьяна стала для него настолько обыденной практикой, что он перестал делать о ней записи. Но если бы он захотел войти в дхьяну сию минуту, он бы выбрал нечто, внушающее «благоговейный страх», «священный трепет» или «изумление».
Пожалуй, это будет изменой скептицизму, который лежит в основе нашей системы, если мы признаем, что «что-то» может быть лучше «чего-то» другого. Но давайте рассуждать так: «А – это вещь, которую этот человек считает «священной». Поэтому для этого человека вполне естественно на ней медитировать». Избавьтесь от эго, наблюдайте за всеми своими действиями так, словно их выполняет кто-то другой, и вы на девяносто девять процентов избежите хлопот, которые вас поджидают.
Нет никаких видимых причин, препятствующих наступлению дхьяны, если вы думаете при этом о морской свинке. Но постоянное упоминание брата Пердурабо об этой свинке как о типичном объекте его медитации не следует воспринимать слишком буквально. В его записях о медитации нет никаких упоминаний об этом замечательном зверьке.
Было бы полезно организовать исследования для выяснения условий наступления самадхи. Но, судя по всему, в настоящее время нам никто не мешает отдать дань традиции и использовать те же объекты медитации, что и наши предшественники. За одним-единственным исключением, о котором мы поговорим в свое время.
Первый класс объектов для серьезной медитации (в противоположность подготовительной практике, в которой человек должен придерживаться простых опознаваемых объектов, чью узнаваемость легко поддерживать) составляют различные части тела. Индусы разработали сложную систему анатомии и физиологии, которая не имеет явного отношения к анатомическому театру. Видное место в этом классе занимают семь чакр, которые описаны в любой книге по йоге. Есть еще и различные «нервы» г в равной степени мифические.
Второй класс – это объекты посвящения, такие, например, как архетип или форма Божества, или сердце вашего Учителя, или любого другого человека, которого вы глубоко уважаете. Эта практика не приветствуется, поскольку построена на предвзятых суждениях разума.
Вы можете также медитировать на ваших снах. Это звучит суеверно; но суть состоит в том, что вы уже склонны, независимо от вашей сознательной воли, думать о таких вещах, и со временем вам все проще думать именно о них, чем о чем-то другом. Вы можете также медитировать на том, что особенно вам приятно.
Но при всем этом так и тянет предположить, что медитация будет лучше и убедительнее, если она направлена на объект, который сам по себе малозаметен и незначителен. Вовсе незачем возбуждать мысли, пусть даже они вызваны чувством обожания. Читайте о трех медитативных техниках в «Либер ННН». В то же время нельзя со всей уверенностью отрицать, что гораздо проще выбрать мысль, которая естественным образом влечет к себе поток сознания.
Ниже приведены описания трех медитативных техник из «Либер ННН».
Книга «ННН» состоит из трех глав: МММ, ААА и SSS
I. МММ.
Сядь в асану, надев одеяние неофита с капюшоном.
1. Спустилась ночь, темная и жаркая, небо беззвездно. Ни одно дуновение ветерка не тревожит морскую гладь, только ты. Ни одна рыбка не резвится в глубинах.
2. Пусть дуновение ветерка поднимет воды и покроет их рябью. Ты должен ощутить это дуновение своей кожей. Это ощущение дважды или трижды прервет твою медитацию, но после этого твое внимание не должно отвлекаться. Но если ты не ощущаешь всего этого вначале, значит, ветерок не поднялся.
3. Затем темноту ночи раскалывает вспышка молнии.
И это тоже ты должен ощутить в твоем теле, которое вздрогнет и дернется от страха; ему тоже придется перенести это потрясение и справиться с ним.
4. После вспышки молнии видно, что в зените покоится крошечная точка света. И этот свет излучается в виде прямого конуса, и когда он достигает воды – наступает день. При этом твое тело непроизвольно цепенеет, и если ты сумеешь это перетерпеть, то погрузишься в твое сердце в форме вертикального яйца тьмы и там ты пребудешь.
5. Когда все это выполняется легко и в совершенстве, пусть ученик представит себе битву с силой Вселенной. В этой битве его спасает лишь скоротечность жизни, но в конце его побеждает Смерть и накрывает черным крестом. Пусть его тело повалится на спину, раскинув руки в стороны.
6. И пока он распростерт, пусть он страстно стремится к святому ангелу-хранителю.
7. Теперь пусть примет исходную позу.
Два и двадцать два раза он должен представить себе, что его укусила змея, ощущая в своем теле яд, и пусть каждый укус залечивается орлом или ястребом, который зависает над его головой, расправив крылья, и выпускает по капле целебную росу. Но пусть последний укус будет настолько ужасным – внезапная острая боль в затылке, – что кажется, будто он умирает, и пусть целебная сила росы будет столь эффективна, что поднимет его на ноги.
8. Теперь пусть внутри яйца появится красный крест, затем зеленый крест, затем золотой крест, затем серебряный крест; или те предметы, которые изображаются символически. Здесь царит тишина; ибо тот, кто правильно выполнял медитацию, понимает ее сокровенное значение, и она служит испытанием для него и его собратьев.