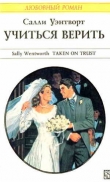Текст книги "Грифон"
Автор книги: Альфредо Конде
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Любое средство хорошо, если оно позволяет пуститься в приключения, лишь бы это было увлекательно, лишь бы захотелось погрузиться в себя, туда, где сможет материализоваться твоя же собственная, тобою угаданная мечта. Иногда это происходит и вне нас самих, что лишь подтверждает сказанное: французский испанист, приятель Люсиль, одного с ней поля ягода, хоть и вегетарианец, как-то провел три дня в вековой тьме пещеры Монтесинос [68]68
Монтесинос – пещера на юго-востоке Ла-Манчи. Описана в XX и XXI главах второй части «Дон Кихота».
[Закрыть], «совсем как Дон Кихот». «Ты только подумай, Мирей: совсем как Дон Кихот». Это – истинная история, а литература лишь чуть больше, чем история. У арки Монклоа [69]69
Монклоа – холм в предместье Мадрида, где во время Гражданской войны 1936 – 1939 годов шли ожесточенные бои.
[Закрыть]один галисиец, республиканец тридцать четвертого года, рассказывает своим детям о сражении, разыгравшемся здесь более тридцати лет назад, в котором он принимал участие; с тех пор каждый год он вспоминает об этом сражении тридцатью тридцать раз. Девятьсот сражений – это не шутка, галисиец безумно устал, вспотел, у него даже трясутся руки. Он изнемогает под тяжестью девятисот сражений, в которых бились те девятьсот человек, коими он в них был. Теперь, перед своими детьми, он снова переживает, снова вспоминает все это, он выкрикивает «тра-та-та-та-тах, тра-та-тах», показывал, как была взята эта высотка; она тут неспроста, и он все лезет и лезет на нее из последних сил.
У той же самой арки и в то же самое время другой галисиец, бывший в тридцать шестом году националистом и также воевавший вдали от родного дома, объясняет своим детям, как он с автоматом в руках брал высотку, на которой они сейчас стоят; он тоже несет в себе груз девятисот бойцов, которыми ему пришлось быть в девятистах пережитых им сражениях, и он тоже выкрикивает «тра-та-та-та-тах, тра-та-тах». Каждый из них поднимается на холм Монклоа с разных сторон. На вершине они встречаются, но не видят друг друга, может быть, оттого, что их взгляд помутился от крика. Вполне вероятно, именно крик приводит нас в то или иное место. Но есть нечто – пещера Монтесинос, гора Ангелов, холм Монклоа, тонкое звучание гайты, говорящая камбала и, наконец, сам Грифон, отправляющийся в путь по подземным рекам и даже ручейкам, вплоть до самых маленьких, тонких, как серебряная нить, – что дает нам остроту ощущений и возможность отклониться немного в сторону от пути, которым мы проходим по кругу жизни, чтобы внести в нее какое-то разнообразие; а это так же необходимо, как, например, позволить себе дать кому-нибудь тумака, когда тебе этого захочется, ни у кого не спрашивая разрешения.
Поэтому им казались вполне оправданными, хоть и не слишком разнообразными странствия созданного ими фантастического существа. Они вот только чуть не забыли, что в зависимости от того, в каком времени он появится, Грифон может изменить свой вид и даже принять человеческий облик, да еще о том, что ему придется влюбиться в сожительницу какого-нибудь архиепископа.
В дверь позвонили, и Профессор встал, чтобы открыть, по пути в гостиную надевая на голое тело халат и вставляя ноги в тапочки.
– Привет, Люсиль! Что ты тут делаешь в такое время?
Она даже не попыталась заглянуть в комнату.
– Ты один, не так ли?
– Да, разумеется.
– Разве ты не утверждал, что ты с северо-запада и, стало быть, не имеешь никакого отношения к Кальдерону [70]70
Кальдерон де ла Барка Педро (1600 – 1681) – испанский драматург.
[Закрыть]?
– Ну хорошо, я не один.
– С кем же?
– Разве ты не утверждала, что не имеешь никакого отношения к французскому театру, который так похож на театр Кальдерона?
– Понятно, ты не хочешь, чтобы я знала, кто с тобой.
– Понятно, ты не хочешь, чтобы у меня кто-то был. Ну ладно, иди, я один и очень хочу спать.
– Где ты был?
– Завтра утром я тебе все расскажу… иди!
– Завтра в восемь!
– Опять за свое… в восемь, в восемь! Приду, когда захочу.
Он говорил это, стараясь как можно быстрее закрыть за ней дверь, глядя в пол и следя, чтобы она не успела вставить ногу в щель и помешать ему. Он вернулся в постель; лицо Мирей выражало растерянность ученицы, которую учительница уличает в ошибке, и одновременно надменность ученицы, уличившей в ошибке свою учительницу, поскольку знает больше, чем та. О Грифоне той ночью они больше не говорили.
* * *
Он прочитал «Графа Монте-Кристо», будучи совсем ребенком; два тома в красном переплете – он и сейчас хорошо помнил, какого они были цвета, каковы на ощупь и даже каким шрифтом набраны, но совершенно забыл, кто и в каком году их опубликовал, а также имя переводчика. Помнится, он обожал читать эту книгу, сидя в плетеном кресле своего деда, том самом, с которого прежде старик наклонялся к своей любимой кошке, чтобы дать ей парного молока; в те времена это кресло стояло на веранде, выходящей в сад, а когда дедушка умер и с ним ушло столько иллюзий, дом достался наследникам, и теперь кресло стояло на той веранде, что напротив вокзала. Итак, он прочел «Графа Монте-Кристо», сидя в плетеном кресле, возможно в память о старике или потому, что это было самое спокойное место в доме и тишину лишь изредка нарушало фырканье маневренного паровоза, имевшего какое-то особое название, какое – сейчас он уже не помнил, да рев какого-нибудь грузовика, громыхавшего по шоссе; легковых машин проезжало больше, но они не так шумели.
Все это Профессор вспомнил, когда на следующее утро они ехали в машине Мирей по направлению к старой марсельской гавани, – там им предстояло сесть на катер, который доставит их к скале Иф, где расположена древняя тюрьма, описанная в романе Александра Дюма. Уже в порту, едва поднявшись на борт чистенького, ухоженного суденышка, на котором брали пятнадцать новых франков за рейс, он перестал воскрешать в памяти чтение, кресло, веранду, поезда, он перестал вспоминать и приготовился впитывать новые впечатления, которые могло предоставить ему это плавание. Но впечатлений оказалось немного: морская прогулка длилась не более двадцати минут, катер до отказа был забит пассажирами, а остров оказался в точности таким, как его описывают в туристических проспектах. Лишь несколько вещей произвели на него действительно сильное впечатление: узость прохода, по которому Фариа общался с Эдмоном Дантесом, теснота камеры аббата, томившегося там во тьме столько лет, да еще отверстие в стене – через него выбрасывали в море больных или скончавшихся узников. Но в целом увиденное не показалось писателю слишком уж мрачным, он так и сказал Мирей, вспомнив при этом печальные зимы океанского побережья, откуда был родом. И тем не менее, обходя замок, он испытывал священный трепет, охватывающий человека, когда он возвращается в свои детские годы, к своим тогдашним ощущениям, – они могли долгое время дремать где-то в глубине его души, он даже не подозревал об их существовании, и вот внезапно они вновь захватывают его, переполняя грустью и нежностью, тоской и осознанием потери. Подобные ощущения старый писатель испытывал уже в течение нескольких последних лет, встречая дочь какой-нибудь прежней возлюбленной, похожей на свою мать; в облике девушки он находил столько знакомых черт, что воспоминания вновь заставляли его пережить давний роман и вновь познать чувства, если и не в точности такие же, то, во всяком случае, весьма похожие на те, которые владели им когда-то. Если бы наш писатель был отцом, эту свою теперешнюю способность он сравнил бы с ощущениями, какие испытывают родители, наблюдая за первыми усилиями своих детей, когда те начинают ходить или стараются выразить то, что они прекрасно понимают, но не умеют сказать; тогда родителей охватывает нежность перед бессилием своего ребенка и перед вновь обретенными впечатлениями детства, но одновременно ими овладевает тоска, смешанная с ностальгией по прошлому, ибо это ощущение возвещает о том, что собственное их детство прошло навсегда, превратившись в некую абстракцию.
* * *
Поездка в Иф была не чем иным, как новой встречей с ребенком, который умер много лет назад и вдруг воскрес на несколько мгновений. Далеко не все путешествия таковы; большая их часть протекает вне нас, и лишь немногие из них дарят нам встречу с самими собой, будь то в замке Иф или в Редонделе. И именно эти последние встречи, которые мы совершаем внутри себя, намного опаснее, вопреки распространенному мнению, чем первые. Если повторять их достаточно часто, они могут превратиться в путешествия, из которых не возвращаются: в помешательство, безумие, самоубийство; их надо принимать очень маленькими дозами и очень редко. Встреча с очевидностью – лишь для очень слабых или для очень сильных духом; обычные люди беззащитны перед нею, особенно если она начинается с трезвой, беспощадной оценки собственных возможностей.
Вот о чем говорил Профессор со своей ученицей; следует признать, что если он говорил и не совсем так, то по крайней мере очень близко к этому; ведь известно, что точное воспроизведение диалога приводит к использованию прямой речи, а это уже походит на стенограмму, это скучно и утомительно. И потом неизвестно, фигурирует ли где-нибудь буквальное воспроизведение диалога в качестве непременного условия создания литературного произведения, или же оно является лишь рекомендацией для более тщательной передачи высказываний героев и для того, чтобы облегчить чтение. Короче, так или почти так говорил Профессор, обращаясь к своей возможной ученице, стоя перед камерой аббата Фариа посреди синего Средиземного моря. Потом они спустились вниз, чтобы искупаться среди прибрежных скал; это было как раз в тот момент, когда на море вдруг поднялась буря, так что купались они не столько ради того, чтобы получить удовольствие, сколько из-за свойственной человеку и воспитанной в нем с детства привычки доводить начатое до конца, даже если в конце предстоит оказаться в совершенно иной ситуации, нежели та, которая сложилась вначале и предполагалась в дальнейшем.
Отсюда правильность методов, о которых мы говорили ранее; если бы мы могли распоряжаться стихией, поучал Профессор ученицу, но здесь уместно перейти на прямую речь: «Если бы мы властвовали над стихией, то сейчас море было бы таким же голубым, как когда мы приехали, таким же спокойным, как полчаса назад, и мы с тобой плавали бы в этих водах обнаженными, грезя о каком-нибудь немыслимом бегстве. Если мы этого не делаем, то просто потому, что не можем. Но если бы могли, было бы лучше». Это была правда, и, возможно, оттого, что она тоже думала так, Мирей, без какой-либо видимой необходимости, настаивала на том, чтобы обязательно присутствовали и сложенные особым образом карты, и зеркала, через которые можно заглянуть в головокружительные глубины, и говорящая камбала, и нескончаемые истории, уносящие тебя в дальние странствия; и еще она говорила, что стоит только перестать бить в барабан – и все готово, и Грифон может выйти из воды, когда и где ему заблагорассудится, ибо все зависит только от нашей воли и ни от чего больше. «Если теперь уже умеют устраивать искусственный дождь или искусственное волнение на море и даже ты вполне бы мог сейчас усмирить волны, вылив на них достаточное количество масла, то почему же Грифон не может делать, что ему захочется?» – «Во-первых, – возразил ей писатель, – у меня нет масла; во-вторых, если бы я сейчас вылил масло в море, то не думаю, что тебе было бы очень приятно купаться в нем нагишом; в-третьих, Грифон – мой, и, наконец, в-четвертых, давай больше не будем об этом». Но по какой-то странной причине, недоступной пониманию писателя, Мирей продолжала рассуждать о правомерности или неправомерности существования Грифона. Возможно, этим своим рвением она была обязана какой-нибудь студенческой беседе по поводу оправданности фантастической литературы, состоявшейся после того, как четыре жрицы возвестили о замысле романа, о появлении на свет нового существа, о приготовлениях к родам, как сказал, должно быть, самый язвительный из студентов. Так или иначе, Мирей желала убедительно обосновать, что Грифон возможен, что автор имеет право писать все, что придет ему в голову, и что «если Джозеф Конрад [71]71
Конрад Джозеф (наст, имя – Юзеф Теодор Конрад Коженевский; 1857 – 1924) – английский писатель (родом из Бердичева).
[Закрыть], бывалый моряк, оставил нам настоящее чудо – «Тайфун», – и очень даже вероятно, что во всей истории мировой литературы не найти другой такой великолепной книги о море, – то не исключено, что, хоть он и был опытнейшим мореходом, ему никогда в жизни не приходилось видеть циклонов, подобных тому, который он так мастерски изобразил. А что ты скажешь о знаменитом прыжке тигра, описанном одним португальским писателем? А? Так вот, Эса [72]72
Эса де Кейрош Жозе Мариа (1845 – 1900) – португальский писатель.
[Закрыть]никогда не был в Индии и никогда не принимал участие в сафари».
История Грифона стала превращаться в непреодолимую стену, которая постепенно приближалась к нему, окружала его и душила, медленно сжимая кольцом. Ему вспомнилась одна из его студенческих шуток: «Заставьте полдюжины людей говорить стихами, и вы увидите, что из этого получится». Однажды он так и сделал, и результат оказался таким ужасным, что лучше бы об этом не вспоминать. Теперь происходило нечто подобное, вынашивание романа захватило уже слишком много людей, и ему совсем не хотелось знать, что из всего этого получится; теперь он должен написать его сам, пока еще не поздно. И с этим он жил уже целый год.
Возвращение в Экс было неспешным и приятным. Писателю казалось, будто все оборачиваются при виде бесстыдного старика, обхаживающего юную девицу, на самом же деле на них почти никто не обращал внимания, пока они шли от пристани к машине, от машины к ресторану, ужинали, а затем беззаботно бродили по Эксу. По-видимому, Мирей меньше всего думала о том, чтобы скрыться от взглядов студентов, которые глазели на них из-за каждого угла, и писатель толком не знал, то ли ему еще больше волноваться, то ли окончательно успокоиться. На них не обращали внимания; это могло означать либо что он определенно уже старик (еще одна парочка из этаких), либо что он еще достаточно молод. Уповая на последнее, он поднялся с Мирей по лестнице дома номер пять по улице Грифона.
XII
Много ирландских песен было спето в ту ночь в Компостеле. Да и дождя пролилось немало; это так же верно, как и то, что много людей, давным-давно покинувших Ирландию, вновь свиделись в ту ночь в Святом граде; встречались они и в последующие ночи, по большей части дождливые, но полные надежд, многим из которых так и не довелось сбыться; ведь море коварно, ему все равно, кто больше молится – протестанты или католики; оно уносит в пучину и увенчанных митрой священнослужителей, и лиц королевской крови, а заодно и проходимца, который вертится около них, дабы узнать, что они говорят и что делают. И случилось так, что этой ночью вместе с некоторыми из тех, чьи имена были уже упомянуты, пел еще и Чарльз Глоуп, вошедший в город через врата Фашейра, прикрывшись, как и прочие, английским именем, хотя, избавляя от одной напасти, оно ввергало в другую; и Джон Вейл, прибывший через врата Мамоа; и Джон Лоренц, избравший врата Франсишена, принимающие тех, кто направляется в Компостелу из Франции по дороге, называемой также Дорогой Сантьяго; и Ричард Хэйрс – он предпочел врата Сан-Роке; и Томас Пириц, явившийся через врата Скорби; и Томас, шотландец, прибывший через врата Святого Франциска; и Ян Энмент, вошедший через врата Садов; а Том Бэйлиз – подумать только! – въехал через врата Масарелос, те самые, через которые в город ввозят вино. Все они люди бывалые, сегодня – здесь, завтра – там, и все уже имели дело с Инквизицией, хоть та и не подозревала – как не подозревала она и многих других вещей, ведь меньше всего ее интересовало освобождение Ирландии, – что эти выпивохи могут заниматься чем-то еще, кроме как горланить песни и сквернословить. Посланец же, напротив, прекрасно это знал. Он обошел, как и они, град Святого Апостола, и ему было известно, что за люди живут за окружавшими его стенами; ему было ведомо также, среди множества прочих вещей, что его предшественникам приходилось привозить с собой даже еду, чтобы не страдать от голода, а ему повезло, повезло вдвойне.
Слушая песни и пьяный лепет ирландцев, Посланец вспомнил о письмах, которые он недавно прочел, испытывая одновременно страх и гордость; в них доносилось, что «в Эксе обитает некий галисиец по имени М. А., который грозил, что супротив Инквизиции будет поставлять в сии земли великое множество книг лютеранских, и, поскольку состоит он в переписке с людьми из Виго [73]73
Виго – город-порт на западе Галисии, в провинции Понтеведра.
[Закрыть]и Понтеведры [74]74
Понтеведра – город-порт на западе Галисии, главный город одноименной провинции.
[Закрыть], я уже навел о сем справки». Некоторые из этих писем были написаны лет двадцать назад, кажется в шестьдесят седьмом, но он точно помнил, что в ноябре месяце, девятнадцатого дня; имелись и совсем свежие послания; все они напоминали ему об обязательствах, взятых им на себя в тайной борьбе против тех, кто хотел видеть его народ порабощенным, запертым в кольцо городских стен, лишенным свободы ходить по родной земле, взбираясь к вершинам гор или спускаясь в чудные долины рек, прячущихся в ольховых зарослях… Всем существом Посланца овладела печаль, навеянная мыслями о прожитых годах, о долгом пройденном пути, о неизведанности того, что еще предстоит, и с высоты своего опыта он с полным равнодушием взирал на белую шпагу, которая значила для него ровно столько же, сколько и черный дьявол.
Посланец плохо спал в ту ночь. И причиной тому были не песни ирландцев, не донесения О'Доннела, не добрый прием Декана, не расположение, внимание и даже нежность, которые начал проявлять по отношению к нему Лоуренсо Педрейра, и даже не холодность Шана де Рекейшо, старого друга и товарища по всем тайным делам, – он будет хранить молчание до самой смерти, в этом Посланец был совершенно уверен; ничто из перечисленного по отдельности не мешало ему заснуть, но мешало все вместе. Уж слишком много людей знали, что он в Компостеле. Он, разумеется, предвидел, что о его приезде станет известно, но он не хотел быть слишком на виду. Да, было совсем неплохо, даже необходимо, чтобы все знали о приезде в Галисию Инквизитора: возвестить об этом предписывал ему долг; он отнюдь не собирался препятствовать распространению известий о приговорах и наказаниях Суда Святой Инквизиции, напротив, он обязан способствовать преданию их самой широкой гласности: о решениях Суда должны говорить все, и пусть одни будут считать их слишком мягкими, другие – слишком жестокими, но никто не посмеет назвать их не стоящими внимания. Итак, всем положено знать, что Посланец пребывает в Галисии, но никому не должно быть ведомо, кто он, как его зовут и откуда он родом.
Он уже много лет не бывал в Галисии, и узнать его непросто, разве что он сам назовет свое имя. Его уверенность в этом подкреплялась встречей с Деканом и с хирургом Королевского госпиталя. А вот в Понтеведру ему ехать нельзя, лучше не попадаться на глаза тысяче тамошних жителей; заказан ему путь и в Сальседо, вотчину сеньоров Акунья. Он решил поспешить с подготовкой к поездке и заснул с мыслью, что отправится в путь завтра утром, как только проснется.
В одной из соседних комнат послышался судорожный кашель Лоуренсо Педрейры и чистый, молодой женский голос, говоривший что-то по поводу неуместности приступа, поднимавшего шум в столь неурочный час. Лоуренсо Педрейра, каноник из Компостелы, по-прежнему грешил больше, чем следовало; а ведь это был его спутник, назначенный самим Деканом, чтобы сопровождать Инквизитора в поездке по королевству Галисия. Посланец не знал толком, какова была причина этого назначения: то ли от каноника ожидали доброй службы, то ли не сомневались в твердости его убеждений, или же это был всего лишь удобный повод убрать его с глаз долой и отвести подальше от Компостелы угрозу скандала. Ведь пройдоха, зашедшийся сейчас в приступе кашля, был, с одной стороны, прекрасной опорой для тех, кто мечтал видеть как можно дальше от Галисии не только Инквизицию, но и всемогущую королевскую длань, покровительственно простертую Филиппом из далекой Кастилии, а с другой – слыл отъявленным бабником, какого лучше держать подальше от женщин, как своих, так и чужих. Этот человек принял сан священнослужителя, оставаясь женатым; он пришел в лоно Церкви, презрев оба дозволенных, признанных законом пути: вдовство или объявление брака недействительным; и, несмотря на совершенное им тяжкое преступление против Церкви, он продолжал сожительствовать со своей женой не только не таясь, но даже и всячески выставляя напоказ подобное бесстыдство. По этой причине каноник подвергся осуждению Святой Инквизицией, но приговор «был смягчен, ибо он – человек Церкви, достойный и добродетельный, и взамен принародного покаяния должно ему принести возмещение денежное, каковое он, в силу состоятельности своей, может стерпеть». И все это нисколько не мешало канонику сейчас, здесь, в присутствии Посланца Инквизиции, развлекаться с самой молодой и красивой из женщин, прислуживавших в его отнюдь не бедном доме. Что ж, таковы нынче времена, и ничего особенного тут нет.
Посланца тревожило не то, что Лоуренсо Педрейра наслаждается жизнью, а то, что он делает это так откровенно, зная, что под одной крышей с ним, в соседней комнате, находится Инквизитор. Каноник либо не ведает, что творит, либо безумен, либо слишком доверчив; впрочем, он, может быть, не в состоянии преодолеть свою непотребную страсть; в любом случае он проявляет неосторожность, которая может привести к катастрофе: если ему все равно, что его гость узнает о его грешках, то он, возможно, осведомлен, кто такой на самом деле Посланец, и тогда об этом знают здесь уже двое. Следует как можно скорее уехать отсюда, успех его предприятия во благо возлюбленной Галисии не должен оказаться под угрозой провала из-за бесстыдства, если не продажного, то во всяком случае распутного священника; в Компостеле он может столкнуться со множеством людей, среди которых далеко не все окажутся благоразумными и осмотрительными или просто добрыми и честными. Посланцу так и не удается толком поспать в эту ночь. Теперь его уже мучает не только неизвестность, но и страх перед неудачей. Теперь ему уже мешает близость двух любящих друг друга, покрытых потом тел, присутствие которых он ощущает совсем рядом с собой. И тогда Посланец встает и подходит к окну. Он чувствует, что за стеклами – дождь, сырость, мокрые камни, угадывает тысячи ночных звуков; охваченный тревогой и беспокойством, он возвращается в постель. В темноте уже не слышно ни кашля, ни смеха девушки; теперь в доме царит тишина, и он решает спуститься в кухню. Он знает, что бадья с водой стоит около очага, между шкафом с посудой и умывальником; он хочет пить. Он берет свечу, зажигает ее и медленно спускается по лестнице, стараясь не шуметь, чтобы никого не разбудить.
Войдя в кухню, он видит сидящую на табурете девушку – в одной руке у нее кружка с водой, другой она подпирает голову, облокотившись о край корыта. Увидев Посланца, она бросает на него испуганный взгляд, который затем становится выжидательным и наконец страстным; но она молчит… Первым заговаривает Посланец:
– Ты замерзнешь.
Девушка смотрит на него, не выказывая ни страха, ни уважения, а лишь непринужденность, простоту и доверие.
– Жажда замучила, – отвечает она наконец. Она произносит это хриплым глубоким голосом, неуверенным, но дающим надежду. Посланец уже понял, кто перед ним, и первое его намерение – отступить, но она удерживает его, говоря еще более глубоким и хриплым голосом:
– Ему все равно.
Посланец чувствует, как внутри у него трепещет нечто давно уснувшее и позабытое.
– Лоуренсо уже не придет этой ночью.
Посланец пьет воду из бадьи и садится на табурет возле нее.
– Как тебя зовут? – спрашивает он ее.
– Симона де Педрейра, – отвечает она.
– Похоже, родители – обращенные?
– Да, вроде.
Возможно, существуют некие вибрации, исходящие от тел мужчин, которые интуитивно воспринимаются женщинами; возможно, существуют также и вибрации женских тел, но мужчины остаются к ним глухи, даже когда ждут их; так или иначе, имеются безошибочные приметы, возникающие лишь у мужчин и выдающие их с головой; Симона почувствовала, что тело Посланца пылает, и, лаская его, сказала:
– Не стыдись.
Потом они поднялись в спальню и молча предались любви.
* * *
В окне забрезжил неясный сероватый рассвет, и уже наступало утро, когда Посланец открыл глаза и, остановив свой взгляд на спокойном и нежном лице Симоны, которая все еще спала, отвернувшись от света к стене, залюбовался ее красотой, которую прежде скрывала ночь; он будто хочет продлить наслаждение, и переполняющие его чувства вновь дарят ему мимолетность тех ощущений, что приходят вместе с любовью и исчезают с ней. Посланец любуется красотой девушки и слегка встряхивает ее тело, которое совсем недавно принадлежало ему; он делает это так осторожно, словно желает не столько разбудить Симону, сколько убаюкать ее, дабы не прервался глубокий сон, граничащий с летаргической отрешенностью, полный почти что детской невинности; волны, исходящие от этого спящего тела, волнуют его настолько, что он готов разрыдаться.
Симона потягивается и разглядывает худощавого, стройного мужчину с резкими чертами узкого лица, улыбается ему одними глазами, потом встает и, не говоря ни слова, покидает ложе, чтобы улечься в другое, не столь теплое, лишенное благоухания человеческих тел, оставляемого любовью. Когда женщина покидает его, Посланец встает и умывается из лохани, стоящей перед окном, неистово растирая лицо, пока кровь снова не приливает к щекам, которые любовь лишила их естественного цвета; затем он не спеша одевается.
Когда он спускается на четыре или пять каменных ступеней, отделяющих жилой этаж от хозяйственного, и входит в просторную кухню, где располагается очаг, у Симоны уже готовы горячее молоко и ветчина. Посланец садится и завтракает, взглядом лаская девушку, потом встает и сообщает ей то, что она должна передать Лоуренсо, привлекая ее к себе, крепко прижимая ее тело к своему и говоря ей прямо в ухо: он решил выехать сегодня же утром, чтобы исполнить возложенную на него миссию. Он будет ждать Лоуренсо в доме Декана.
Внизу, в конюшне, он подходит к своей кобыле, о которой почти не вспоминал вот уже несколько дней; животное трется холкой ему о грудь, выражая таким образом свою любовь к нему и тоску во время его отсутствия; он подбрасывает ей в ясли травы; потом с силой хлопает лошадь по крупу и гладит по спине, разговаривая с ней; наконец он проверяет подковы и убеждается, что, прежде чем пускаться в дальний путь по горам, лошадь надо заново подковать. Это отсрочит намеченный отъезд, и в глубине души он радуется возможности провести еще одну ночь в плену теплого благоухания Симоны; он выходит из конюшни, ведя на поводу лошадь, и направляется в сторону площади Тоураль, чтобы передать ее кузнецу. Все утро он проводит в кузнице и пользуется возможностью расспросить о множестве вещей, будоражащих город. Когда наступает время обеда, Посланец отводит лошадь обратно в конюшню и направляется к собору; он пересекает площадь Кинтана и входит в собор через врата Рая, чтобы сразу попасть в Кортиселу, которая трогает его душу и способствует погружению в себя, а это так необходимо ему сейчас. Посланец не испытывает угрызений совести, напротив, он ощущает цельность всего своего существа; это ощущение настолько сильно, что он даже готов к тому, чтобы зачать ребенка в теле женщины, которое он полюбил, увидев его сегодня утром таким здоровым и совершенным; вначале он познал его нежность и
красоту, а затем – его тепло и свежесть: оно было словно молодой листок, переливающийся золотом в лучах восходящего солнца и еще хранящий на своей поверхности ночную влагу росы.
Он выходит из Кортиселы и останавливается перед главным алтарем, откуда его могут видеть все; он прислоняется к ближайшей слева колонне и ощущает на себе пристальные взгляды: надо покинуть Компостелу как можно раньше, ненависть к нему питагг в воздухе, и он опасается, что зловредное любпнмтс-тпо этих людей вызовет попытки докопаться до истины: «Как, вы все еще не поняли, кто на самом деле :»тот Посланец?», «О, если бы вы только аиали, дли чего он сюда приехал!», «Вроде бы Пмкиплитор и мнился с инспекцией, а ужинает с Деканом и с ирландцами, и как ни в чем не бывало…», «Тут что-то не так, как бы они друг друга не поубивали…» – и так до тех пор, пока кто-ни-<будь не додумается, что он человек осведомленный, владеющий секретными сведениями, – он принес их издалека и должен распространить здесь, с тем чтобы в один прекрасный день открыть наконец, кто он такой; Посланец чувствует, что его внимательно разглядывают, изучают малейшее его движение, он кожей ощущает опасность, которую может повлечь за собой его дальнейшее пребывание здесь. Он направляется к портику Небесного блаженства и, вглядываясь в улыбку пророка Даниила, воспринимает ее как охранную грамоту на пути к целям, для которых он предназначен. Будь он более суеверным человеком, он бы счел тонкий луч солнца, осветивший вдруг лик пророка, еще одним знаком того, что ветры будут к нему благосклонны, но, поскольку наш друг не слишком суеверен, он довольствуется лишь созерцанием красоты этого лика и всего изваяния, освещенного тем неярким светом, который он так любил и по которому так тосковал в стране по имени Прованс. Здесь его и находит Декан, и здесь он сообщает ему о своем намерении отправиться в путь на следующий день рано утром в направлении Оуренсе.
Он недолго говорит с Деканом. Каждый из них знает о другом лишь самое необходимое, и нет никакой причины, которая оправдывала бы откровенные признания; чем больше ты знаешь, тем больше опрометчивых поступков можешь совершить; чем больше знаешь, тем больше можешь сказать в самый неудачный момент, в самом неподходящем месте, во время самого нелепого спора. И тот и другой понимают, что они делают одно дело, и, лишь когда этого никак нельзя будет избежать, они поведают друг другу свои заботы и сообщат о планах, может быть вот так просто и неожиданно:
– Зайду в госпиталь поговорить с лиценциатом Рекейшо, – говорит Посланец Декану и выходит на площадь, на которой по праздникам устраивают бои быков; сам он не очень-то жалует эту забаву: ведь он любит вольных коней своей родной прибрежной земли, состязания по укрощению необъезженных лошадей, где мужчины, чье оружие – сила, ловкость и смелость, бросают вызов самым диким жеребцам и самым быстрым кобылам из тех, что спорят с ветром; он пересекает площадь и входит в Королевский госпиталь, чтобы проститься с другом детства, который теперь вынужден разделить с ним опасность.
– Когда тебе привезут какой-нибудь бурдюк с вином для меня, то оставь его до моего возвращения и ни в коем случае не открывай, если на нем не окажется моих инициалов: тогда все его содержимое принадлежит тебе.