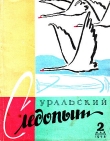Текст книги "Партизаны. Книга 2. Сыновья уходят в бой"
Автор книги: Алесь Адамович
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Блин ты коровий, – сердится на Савося Головченя и отдает папиросу дяде Митину.
Комендант глядит на возню вокруг его папирос весело-снисходительно.
– У меня тут писатель сидит, – поясняет он небрежно, – у Хотько в доме. Кто половчее наврет, получает папиросу и «московской» полстаканчика. (Пальцем тронул пухлые губы.) Книгу пишет: «Среди героев». Так называется книга.
– Тебе, герой, перепадает небось? – откровенно завидует Носков.
– А как же, за хлеб-соль. А за треп можешь и ты получить.
– И пойду. Я пойду, комвзвод.
Долго нет Носкова. И Царского, который ушел еще раньше, нет.
– Оба они там.
– Вот уж заливают. Хоть бы наклейку принесли.
Толе тоже завидно: посмотрят живого писателя. Наконец идут. Царский, размахивая руками над Носковым, который по плечо ему, внушает что-то. У каждого казбечина в зубах.
– А что вам рассказывать? – важничает Носков. – Лучше ты, Светозаров, расскажи, как самолет сбил.
Потрогал винтовку удивленного Светозарова.
– Из этой? Скромница, а! Сбил – и ни гугу. Хорошо, что я знал, в точности все писателю расписал. И как Савось танки немецкие подрывал. Сколько ты их там – три? Не помнишь. Хорошо, что я все помню. Что гогочете? Все, как надо. Отработал честно.
– Ох и трепло ты, оказывается! – восхищается Головченя. – А он что? Все записал?
– И про бороду свою прочитаешь. Мол, все немцы знают Головченю, бороду его. В Берлин Гитлеру докладывают каждый день: «Бьет нас Борода. Как быть дальше?»
– Ну, а про себя?
– Там будет сказано, – вмешался Коренной. – «О себе этот мужественный, широкоплечий мститель не сказал ни слова. Но видно было по шрамам на спине и ниже…»
– Ой, убил!.. – Головченя чуть не задохнулся.
Взвод снова на ногах. Солнце будто остановилось, и потому кажется, что не будет конца дороге, песчаной, ускользающей из-под ног. Когда выходили из лагеря, белье на тебе было приятно жесткое, «поджаренное». Теперь оно липнет к спине, как пластырь.
Что за процессия впереди? Волы, что-то большое, люди мечутся. Ага, котел волокут, давно поговаривали о партизанской мельнице. Последнюю во всей зоне мельницу сожгли с самолета в прошлом году. Ручные жернова выручают и жителей и партизан. Но попробуй намели ручными на все отряды.
Три пары волов тащат сани-волокуши, вдавленные в песок желтым от ржавчины локомобилем. Колесо маховое уцелело – будет крутиться. Двое дядек с палками, три партизана с винтовками – все потные до колен, все усмехаются счастливо. И взвод им улыбается.
– А самогон гнать можно будет? – интересуется Носков.
– Можно, – обещает дядька с палкой.
Деревня Пьяный Лес – в самой низинке. Никакого леса тут нет, но садов много. И девчат. Наверно, по три на хату. Стоят за калитками, сидят на скамеечках. Одеты по-воскресному, но скучноватые.
– Споем? – спрашивает Носков. Сипловатый голос его позвончел, а помятое некрасивое лицо будто изнутри засветилось. Шепчет что-то Коваленку, Головчене.
– Давай, хлопцы, – одобрил Пилатов. Любит он, когда у взвода хорошее настроение.
Там, где особенно цветятся платья и белеют лица, рявкнули: «Зачем ты, Машка?..» Слова-то, слова у этой песни! Можно подумать, что Баранчик ее сочинял. Смущенные девичьи лица пропадают за бородами улыбающихся дедов.
Царский гогочет, командир взвода тоже смеется, но неуверенно. Красивые глаза Пилатова вдруг заскучали, сердитыми сделались.
– Носков, Коваленок – в дозор! Шаляпины мне сыскались!
Деревня осталась позади. От леса идут человек десять. Царский, не останавливаясь, вскидывает автомат. Три раза, прикладом вверх. Ответить должны два раза – стволом вверх. Но там остановились, машут руками.
– Лявоновцы – ясное дело, – говорит Головченя, – пароля не знают.
«Лявоновцы» – отряд новый в этой местности, пришлый. Вооружены они слабо, бродят, как цыгане. Теперь и своих, ежели вахлак, обзывают: «ля-во-новец». Но те, впереди, может быть, и не партизаны вовсе. Взвод, хотя и с некоторой настороженностью, идет навстречу незнакомым. Толя видит, как взвесил на руках свой пулемет Головченя и как нетерпеливо оглянулся на отставшего Савося. Никто ничего не говорит, но привычно прикидывают, как и где залечь, если… Нет, все-таки партизаны. Угадывается это не по одежде (на партизанах зеленого, немецкого не меньше, чем на полицаях) и не по оружию. Угадываются партизаны по тому, как идут, как держатся, как чувствуют себя здесь, между Пьяным Лесом и Большими Песками. Полицаи на этой дороге, в этом месте шли бы иначе и держались бы не так.
Вот уже дозор – Носков и Разванюша – подходит к незнакомой группе.
– Из какого отряда? – спросил Царский, когда сблизились. Спросил грозно. Иначе он не умеет. Он и смеется грозно. Зато когда орет, гневно округляет и без того круглые «кавказские» очи, хлопцам весело. Но чужие-то не знают его и потому смотрят удивленно.
– Тихоновцы, – не без гордости говорит рыжий партизан, здоровила, под стать Царскому.
– Думали – лявоновцы, – замечает Носков, – птицу по полету видать.
– Мы давно из лагеря. Знаем, что пароли сменили, а как – не знаем.
Начался охотничий перекур. И разговор охотничий.
– Два эшелончика ахнули. Обмывали, замачивали на поселках. У нас так: за эшелон – неделю курортов.
– Наши подрывники тоже, – ухмыляется Носков, – как закатятся на поселки, хоть под конвоем их приводи. А подорвали али нет – у бабки узнай.
– Вы его чем кормите? – поинтересовался рыжий. А Носков улыбается. Весело ему быть злым, неприятным.
Отдыхали в Больших Песках. Козырек тени от штакетника узенький, жалкий. Ни деревца в этом селе. Но трава мягкая, истоптанная, даже на дорогу выползает. Пустынное село. Перейдет улицу женщина с ведрами, и снова ни души. Лишь два партизана – «чужие» – отдыхают в тени дома с заколоченными окнами.
– Пойти, что ли, попить, – говорит дядя Митин.
– Гляди, что и не дадут.
Это сказал «чужой». Он очень молод и очень худ. Взгляд лихорадочно-пристальный, как у чахоточного. Из сумки торчит голенище сапога. Одна нога, запеленатая бинтами, обута в лапоть.
– Подожгли бы немцы Пески с того конца, – говорит он, – я бы – с этого.
Коренной сразу вспылил:
– Больно сердит.
– А ничего не сердит. Ты вот пойди есть попроси. Со своим хлебом – пожуешь. А запить не дадут. Я местный, знаю этих. Видишь, хаты заколоченные, как гробы. Ты думаешь – где хозяева? В гарнизоне.
– Да что это за село такое? – удивился Молокович. Удивляется этот парень всегда очень бурно, до восторга. – Кулаки тут одни, что ли?
– Хэ, сказал! – Парень с сапогом в сумке поморщился. – Самые доходяги. На этих песках – разбогатеешь. И потом – староверы. Им бы только церковь да самогон, любому черту душу продадут.
– Ну это не факт, что староверы, – вмешался Головченя. Он из всего веселенькое извлечет. – Разванюша – тоже старовер.
Раз заговорил Головченя, отзовется Шаповалов. Так и есть:
– Какой он старовер? С одними усиками? Вот ты, с бородой, – да.
Распластавшийся навзничь Головченя улыбается, довольный, веселая цыганская борода его смоляно блестит, будто плавится на желтом сукне итальянского мундира.
– Нет, правда, почему так? – добивается чего-то Молокович. – Вот наши Броды – все в партизанах, почти все. А пять километров от нас деревня – полицаи. Да какие еще! В гражданскую и потом все они передовыми казались, а теперь злы-ые… И перед войной врагов у них полно было.
– Вот потому, может, и злые, что слишком много врагов было, – сказал Бакенщиков. Видно, это – продолжение спора с Коренным, потому что тот сразу откликается:
– Кому оправдание подыскиваешь?
Бакенщиков ответил не сразу. Снял очки, потер стекла о грудь. Глаза запавшие, усталые. Тихо, с какой-то тоской заговорил:
– Это мы умели: ни с чего человека жать, клепать и в глаза заглядывать: «Ага, уже зол, враг, значит!» А потом удивляемся: откуда?
– Правильно! – совсем неожиданно и очень громко сказал Светозаров. Бакенщиков даже вздрогнул, внимательно, будто узнавая, посмотрел на него. У этого Светозарова странные, не очень приятные привычки. Сам же расскажет новость, а подойдет кто-либо и о том же речь зайдет, Светозаров сделает вид, что впервые слышит: «Правда? Неужели?»
– Чего бы я съел сейчас… – затянул Головченя, который не любит длинных и серьезных разговоров.
– Бульбачки, – подхватил Носков и затянул по-бабьи жалостно: – Да нема, немашака, совсем дробненькая.
– Дробненькая, да всегда бывала, – несердито огрызается Головченя. – Это у тебя там, в Поволжье, год – густо, три – пусто. Потому ты и язва.
Солнце уже садилось, когда глазам открылись поселки. На холмах небольшие деревеньки, зеленые от садов. Одни всползают на холм, другие сползают, третьи в самой седловине – веселое, застывшее зеленое море.
Название у партизан всему этому – «курорты». Сюда идут охотно. Все убеждены, что и девчата тут самые красивые, и яичница необыкновенная. Может быть, оттого, что по-особенному приветливы люди. «Немцев ближе узнали», – считает Носков, которого ничем не купишь. «Культурнее, к городу поближе были», – убежден «моряк», очень ценящий такие вещи, как, например, шторы на окнах («У нас в Сибири…»). «Просто до войны лучше жили», – гнет свое Бакенщиков. Коренной, тот ко всем старается быть справедливым: «Сколько нас тут ни ходит, а все-таки мы гости, а в Зубаревке, Костричнике – днюем и ночуем». «Гости-то гости, – напоминает Шаповалов, – да за этими гостями по следу и немцы могут нагрянуть. Шоссе-то рядом. Что ни говори, хлопцы, а с белорусами легко». «А ты сомневался?» – отзывается Головченя.
Царский первым принимает на себя взгляды и улыбки девчат, женщин, зычно отвечает на «добрый день». Плывет, как парусник, кожанка потрескивает на распрямленных плечах.
В одном из поселков увидели Ефимова. Сидит с дядьками на скамеечке, покуривает. Пацаны, девчата стоят, с веселой уважительностью смотрят на Фому. Где-то тут и Алексей. Контрразведчиком брат заделался. Это хорошо, что у Толи – свое, у Алексея – свое.
Зарубин, увидев Фому, заорал «морским» голосом:
– Братушка!
«Братушка» смотрит приветливо, но в косящих глазах – ирония. И всем малость неловко. Нет в этом партизанского аристократизма – являться на «курорт» всем семейством, с командиром, и даже не с одним. Чтобы скрыть смущение, атакуют Фому:
– Культработку меж девок проводит.
– Поспал до вечера, выполз отдышаться. Наел будку – шапкой не закроешь.
Фома в долгу не остается:
– Всю перловку поели? Пришли организованно паронки лотошить[4]4
Паронки – вареная картошка; лотошить – жадно есть (бел.).
[Закрыть].
– Не опоросился, Фомушка, пистолетик твой еще одним патрончиком? Все с одним ходишь?
– А зачем им патроны, когда ноги есть?
Застенчиков с опаской поинтересовался:
– Гоняют?
– Не очень, – усмехнулся Фома. – Но мы далеко не бегаем. Немцы на тот поселок, мы на этот, они – сюда, мы – туда. А вы надолго?
Спросил не очень гостеприимно.
Из дома вышел Кучугура, высокий, тонкий. Брови сросшиеся, черные. Поздоровался как-то одной улыбкой, скупой, короткой. Он даже улыбается исподлобья. Любит Толя таких, мрачно-замкнутых, чудится в них какая-то особенная сила.
Когда видишь этого человека, снова и снова думаешь, что отряд – это не только две роты, штаб. Придя в партизаны, и особенно после первого боя, Толя ловил себя на том, что удивляется: «И этого так панически боятся немцы?» Ну, винтовки, ну, пулеметы, изредка автоматы, даже танкетка. Но у немцев такого добра погуще, и им не приходится задумываться над каждым патроном, их вместе с бобиками и власовцами больше, чем партизан. А вот совладать с партизанами не могут. Потому не могут, что есть еще тайная армия в деревнях и городах. Попробуй вычерпай озеро, в которое текут подземные реки.
Кучугура один из тех, кто командует этой невидимой армией, через него она подключена к партизанской силе. Исчез бы этот человек, какая-то часть отрядной силы на время была бы потеряна: не всех связных знают даже в штабе. И хотя это так, нет мохаревской многозначительности на худом густобровом лице Кучугуры: просто видишь, что человек неразговорчивый, неулыбчивый, а где-то глубже вроде и застенчивый. Трудно представить и не хочется представлять, каким был бы Мохарь на месте Кучугуры. Партизаны – они и сдачи могут дать, а каково было бы бабе какой-нибудь, городскому человеку, для которого всякий партизан – высшая правда, справедливость, каково бы им было иметь дело с непроницаемо-важным Мохарем, на лице у которого так и читаешь: «Ври, но кому другому».
Алексей не любит, да и не умеет рассказывать, но Толя кое-что знает. Ему даже известно, что в городе есть у Кучугуры жена. Как и многие окруженцы, первое время он жил примаком. Но это у него серьезно, настолько, что Кучугура ходил в город, чтобы застрелить жену, когда узнал, что она «спуталась» с власовцем. Но не застрелил и стал еще молчаливее, неулыбчивее.
На поселках Кучугуру все знают, и если какие-нибудь пьяные от собственного геройства вояки начинают «бомбить» сундуки и погреба, «героев» пугают Кучугурой. Он не церемонится: отнимет оружие – и шагай, объясняйся со своим командованием. Умеет он разговаривать с самыми буйными, не снимая автомат с плеча. Правда, за спиной у него всегда маячит внушительная фигура сердито-усмешливого Ефимова. И Алексей с ними.
А вот и Алексей. Чуб снова отращивает. Галифе умопомрачительные – широкие, небесно-голубые. Но и голубой цвет, и кучерявость – все такое будничное. Втиснул волосы зачем-то в кепку, натянул ее почти на уши. Зарубина бы сюда, в контрразведчики. Или Разванюшу.
Братья отошли в сторонку.
– Мама на аэродроме, раненых повезла, – сообщил младший, – сказала: забрать у Павловичихи подметки.
Толя выставил вперед ногу.
– Вздумала мне сапоги делать, – сказал почти издевательски. Но пальцы в порванном ботинке пошевелились благодарно.
– По дороге заглянем и к бабушке, – сказал старший. – Мне как раз в Зорьку надо, забрать кое-что…
Взвод ночевал в Фортунах. Поотделенно заняли три дома. Попросили у хозяина соломы.
– Мы вам, хлопчики, кожухи, постилки дадим. Кто хочет, можете на кровать. Баба на печь полезет. А мне все равно не спать.
«Баба», такая же озабоченная и такая же виновато ласковая, как хозяин, сказала:
– Наш Вовка, внучек, прибегает вчера: «Бабуля, я и каля[5]5
Около (бел.).
[Закрыть] твоей хаты погреб. А то не дай бог, немцы». Разведчики ночью останавливались, сена натрусили. И дети стали, как мы.
– Правильно, хозяюшка, зачем та солома, – согласился дядя Митин.
А Носков все же поинтересовался:
– Беляков не водится в овчинах? А то не поладят наши с вашими.
– О, у нас чисто.
На пост Толю подняли на рассвете. Уже простоял час новичок Сашко, потом уйдет он, придет кто-то другой, а Толя будет еще час достаивать. Это неглупый придумал: менять не сразу обоих. Сразу после сна человек менее пригоден для боя, для войны. На два, на пять часов он выключился, ушел от всего и, проснувшись, все еще живет в каком-то другом мире.
– За этим лесом, – шепчет Толя и сам чувствует, что слишком громко шепчет, – наша Селиба, стеклозавод.
И не о том, что там – немцы, что оттуда они могут нагрянуть, думает Толя. Ему представляется скрипучая калитка и дверь дома. Даже ладонь, кажется, помнит косо прибитую дверную скобу…
– А мой дом – на Алтае, – шепчет Сашко. Толя видит его лицо: оно совсем не молодое. Но все называют новичка Сашко. Наверное, из-за улыбки: детски счастливая, она не уходит из глаз человека с той минуты, как его, сбежавшего из плена, привели в партизанский лагерь.
Для Сашко довоенное – вот где! А для Толи – в пяти километрах. Но сколько в мире должно измениться, чтобы можно было спокойно пройти эти пять километров, вбежать во двор, войти в дом, как в свой. В доме теперь – немцы. А может быть, они уже толпятся у машин, устанавливают на кабинах пулеметы. Десять, двадцать минут, и первая машина всползет на тот вон холм. Кто-то из селибовцев смотрит, как собираются немцы, полицаи, и думает злорадно, как когда-то Толя: «Ну-ну, езжайте, вас там встретят хлопцы». А встретить немцев должен не кто-то особенно грозный, а Толя. И вот – Сашко. Немцам же представляется грозным, таинственным, страшным то, навстречу чему они едут.
Завтракать Толя не пошел с братом, хотя Алексей звал его. Впрочем, не слишком настойчиво звал. Не очень приятно напрашиваться к людям в гости всем семейством. Особенно здесь, где все знают врача Корзуна.
Злой на всех, Толя сидел на скамеечке и голодал.
Утренние дымы тянутся в чистое небо, чопорно раскланиваются. Что-то варится-жарится, а Толя голодает.
– Корзун, завтракал? – кричит Головченя. Он вышел с ведром умываться. Интересно, бороду он моет? Савось с кружкой стоит и тоже, дурила, орет на все Фортуны:
– Давай с нами, Корзун!
Бабка с решетом в руке, переходившая улицу, остановилась и заголосила, как над покойником:
– А божечка, ды гэта же докторов! Тоже ходить, бедненький, голодненький, с винтовочкой. Идем жа, детка, идем в хату… Дай бог здоровья папке твоему…
Чтобы тетка замолчала, Толя почти побежал за ней, красный, злой. Но старуха не унимается:
– Ты смелее будь, а то и Алеша такой. – И тут же – не совсем логично: – У хороших батьков и дети хорошие. А то придет другой, бог знает что требует.
Вошли в хату. Этого еще не хватало – девушка! И хуже всего – красивая. Взбивает подушки, желтая коса за спиной тяжело вздрагивает. А баба:
– Тосечка, это Корзунов, докторов младший.
Тосечка как-то сбоку глянула и осталась такая же строгая. А Толя дураком выглядит: будто не баба, а он сам, войдя, завопил: «Я докторов, младший!»
– Я там обожду, жарко у вас, – сказал Толя и выскочил за порог.
Что его будут узнавать в поселках, что будут говорить – «докторов», он знал. И даже с удовольствием представлял, как увидят его партизаном. Но чтобы вот так: «бедненький, с винтовочкой».
По улице идет Коваленок. С ним грузный, угрюмый Комлев и еще – Сашко.
– Хочешь с нами? – предлагает вполголоса Коваленок. – В Лесную Селибу. Пистолет заберем – знаю, у кого есть. Может, бургомистра встретим. Давно не виделись.
Разванюша оглядел себя, начиная от начищенных хромовых сапог. Будто на вечеринку собрался. Увидел парня с гармошкой.
– А ну, покажи.
Форсисто одетый парень, чем-то очень похожий на Разванюшу, опасливо топчется посредине улицы.
– Попросили на свадьбе сыграть, – виновато поясняет. Под локтем у него, где носят автоматы, – гармошка.
– Пляшете? – сказал Разванюша. – Добрые колеса у тебя (это про сапоги). Дай (это про гармонику).
Парень неохотно подал, а руки держит вытянутыми, готовый принять обратно. Коваленок критически осмотрел инструмент, будто покупать собрался. Снял с плеча винтовку, приставил к забору и сел на скамеечку. И сразу – вот он! – селибовский Разванюша, что резал на вечеринках «Кирпичики». С них он и начал. Девчата появились – одна, другая – как мотыльки на огонек. Тосечка, с желтой косой, тоже здесь. Но уже не Толя, а она смущается: смотрит, слушает из-за калитки. И вообще девчата в сторонке держатся, не они, а бабы, старухи поближе к музыке. И хотя Разванюша чертом старается, глаза у старух печальные, далекие.
Постепенно Разванюша сбивается на протяжное. Ему уже помогают хлопцы. Молокович, Зарубин тянут очень серьезно, с упреком:
Молодые девушки
Немцам улыбаются.
– Это про городских. – Голос в толпе девчат, убежденный, серьезный. А хлопцы беспощадны:
Позабыли девушки
Про парней своих.
Только лишь родителям
Горя прибавляется,
Плачут они, бедные,
О сынах своих.
Бабы действительно плачут. Слезы у них близко. Особенно теперь. Но Разванюша совсем не настроен печалиться с утра. Он обрывает музыку, отдает инструмент парню. А «Толина» бабка тут как тут.
– Идем, сынку.
В хате уже прибрано, светло – точно дух святой пролетел. На столе – яичница в два солнца. А сам святой дух – с желтой косой – у окна, из кружки поливает вазоны. Толя понимает, что надо сказать что-то. Сморозить чушь, смело, весело, как это умеют взрослые. Но для этого надо, чтобы язык не прилипал. Толя молча, с лицом убийцы, просунулся к столу и уселся над сковородой. А желтокосая, строгая, не дождавшись того, чего, наверно, ждала от партизана, схватила ведра и – вон из хаты.
– Ну, как вы тут живете? – откашливаясь, спросил Толя у бабки.
Когда, позавтракав, вышел на улицу, Разванюши уже не было. На скамеечке сидит Алексей, держит винтовку меж колен.
– Я сказал Коваленку, что со мной пойдешь, – сообщил старший брат нахально. – Тоже мне, вчетвером за одним наганом.
Время здесь, в нескольких километрах от «варшавки», ползет мучительно медленно. Жадно ждешь вечера. А за день налилось столько света, что уже и не представляешь, как сумерки смогут вытеснить, зачернить его. Это все равно что закрасить океан.
Но вот тени от домов и заборов стали плотнее, повеяло издалека прохладой. Уютнее сделалось в мире, точно в комнате, когда прикроют ставни и зажгут свой, домашний, свет. Вечер пахнет теплым молоком, навозом, голоса сделались спокойнее, веселее. День прожит, а ночь – наша, теперь пусть другие, те, что позаползали в бункера, – пусть они ждут.
Взвод ночует в Фортунах.
А Толя идет. По сторонам дороги – рожь – ночная, затихшая. Все так просто и почти нереально, как во сне. Война, они, два брата, идут с винтовками. Пока все тихо, но неизвестно, что начнется через сто метров, через час, через три.
– Эх, отправить бы тебя с мамой за фронт.
Толя тоже сказал бы: «Эх!» Он тоже не прочь бы один ходить здесь, зная, что самые близкие люди – далеко, в безопасности, ощущая, что частица его самого недосягаема для немцев, неуязвима.
– Лети сам, если такой умный, – ответил брату. И спросил: – Не знаешь, зачем Царский привел нас сюда?
– Из города Кучугура кое-кого ждет. Вы – на всякий случай. Увидишь потом.
Даже лучшие из старших братьев – нахалы. Это известно всем, кроме них самих.
В Зорьке светится одно лишь окно – в крайней хате. Видно с улицы, что за столом кто-то очень беспокойный: коптилка моргает, вот-вот погаснет.
– Алеша, ты? – внезапный голос в темноте. – Хлопцы тут у меня. Я вот дежурю. А кто с тобой? Младший, смотри ты!
Толя подошел ближе, поздоровался. А дядька рад, что не один в ночи, – говорит, говорит, чтобы не ушли.
– Как раз из вашей Селибы мед переслали. Знаешь кто? Жигоцкий. Литровую бутылку. Коваленок как увидел, хотел об угол, а теперь сидит, чай с медом распивает. Знаешь, что на бутылке приклеено: «Только для раненых».
– Ого, и Казичек смелеть стал. А бумажка – совсем по-ихнему. Долгонько, наверно, совещалась семейка Жигоцких. Куда ни кинь, а репутацию надо если не подчистить, то подсластить. Заглядывали в кадку с медом, прикидывали. Литровая бутылка – ого, это не мало, сколько чайку можно выпить! Конечно, если здоровила сядет – вылакает быстро. А вот раненым надолго хватит. Раненому что, две-три ложечки – и сыт.
О, как возбужден был, наверно, в тот день Казик! С какой обидой мысленно разговаривал с теми, кто не верил ему. А ведь он рад был бы, если б Корзуны, Разванюша и все, кто знает про то, что происходило в Лесной Селибе, если б все они накрылись. Ему не жалко для них и геройской смерти, только бы не вернулись в Лесную Селибу.
– Зайдите на медок, – приглашает дядька.
Но Алексей мед есть не станет, особенно присланный Казиком.
В другом конце поселка брат вошел во двор, постучал в окно. Разговор полушепотом, завешиваются окна, зажигается коптилка. Бабушка. Совсем-совсем домашняя. Привычно жалуется, что «здоровья нема», что «помру скоро». А хозяйка – молодая учительница – глядит чуть-чуть виновато, как бы прося у Толи и Алексея извинения за их же бабушку. С родными дочерями бабушка ужиться не умела, а с чужой женщиной душа в душу: «Сонечка», «доченька».
Толе неприятно думать, что он может навлечь несчастье на дом женщины. Но женщина, хотя и посматривает на завешенные окна с тревогой, непритворно рада. Это знакомо Толе: он и сам, когда жил дома, сделал бы что угодно для любого партизана. И все же не по себе ему: словно его принимают за кого-то другого.
Уходили, поужинав хорошенько, по-домашнему. Хозяйка передала Алексею какую-то записку.
– Хирургические инструменты прислал. И медикаменты снова. Заберешь теперь, Алеша?
– Буду возвращаться.
Дал прочесть записку и Толе. Почерк нарочито корявый.
«Посылаю кое-что! До встречи! Эсминец «Керчь» эскадры топить не будет!!!» Восклицательных знаков больше, чем слов. И «эсминец «Керчь». Конечно же Владик Грабовский. Что попало говорили о нем, а, оказывается, зря!
А хозяйка рассказывает:
– Хвойницкий, бургомистр, чуть не отправил его в Германию. Не верил, что Грабовский не знал про ваш уход. Ох, и бесился бургомистр, маму вашу ругал: «Так обвела! А я верил в ее культурную биографию». Все грозится: «Поплачет еще, попадутся ее сыны, бандиты, – жилы буду тянуть».
На улице уже посветлело.
– Может, не идти сегодня? – раздумывает Алексей. Это потому, что Толя с ним.
Следующий поселок совсем маленький – несколько хат. Долго не отзывались, не открывали. Потом бабий шепот:
– Ой, Алешенька, а мы думали опять… Позавчера, только вы с Фомой со двора, они во двор: «Партизаны, партизаны?» Я чуть не умерла, думала, вас заметили.
Женщина прикрыла дверь. В сенях совсем темно. А она с горестным упоением про то, как приходили, кто приходил. Из хаты – мужской угрюмо-спокойный голос:
– В дом хоть впусти. Ну были, ну что?
Алексей объяснил несколько виноватым голосом, что хотел бы кое-что взять из чемодана.
– Вот пойдете с моим в его склад. Ой, Алешенька… – Слова у женщины свиваются в ниточку, ниточка тянется, тянется. Но мужской голос время от времени обрывает ее:
– Дала бы лучше поесть людям.
Алексей сказал, что сыты, поужинали.
– Ой, Алешенька, не говорила я тебе. Чуть не забили моего. Приходили какие-то из незнакомого отряда.
– Знаешь ты, что из отряда. – Голос мужа.
– А лихо бы их ведало! И что они к нему привязались? Где боты да костюм? Может, кто подсказал про ваш чемодан. К стенке ставили. А он: стреляйте, нету – и все. Я чуть не сказала, а он такой у меня…
Алексей молча закуривает. Подносит зажигалку хозяину. Толя успел рассмотреть заросшее щетиной некрупное лицо.
– Скажу Кучугуре, – говорит Алексей. – Достается вам тут на самом перекрестке.
– Ой, Алешенька! Хоть бы днем только, а то и ночь приходит – дрожи.
Подметки – плотные, каленые, довоенные – уже в кармане у Толи. Покупал папа – не думал, что партизану их носить. Теперь веселее и на ботинки свои смотреть, хоть они совсем расползлись, размокли, пальцы лезут наружу.
Братья стоят на опушке, всматриваются в шоссе, уходящее куда-то в туман, в твое детство, где не было ни немцев, ни самой смерти – о ней не думалось. Выблеснуло наконец солнце – будто взорвалось.
– Машины скоро пойдут, – говорит Алексей. Ему куда-то еще надо, но он колеблется. Оттого, конечно, что Толя здесь.
– Пальнуть бы, – говорит младший.
– Много тут таких стрелков!
И вдруг – как нарочно, как в кино, как по заказу: перед глазами то, что, казалось, навсегда осталось в прошлом. На шоссе трое с лопатами. Пронзительно знакомые фигуры: сутулый Голуб, забегающий наперед ему маленький Повидайка. А шагах в трех сзади – он, Казик. Одной рукой придерживает лопату на плече, другой широко взмахивает поперек хода. Выйти бы к нему. Толя уже почти видит испуг на лице Казика, видит, как на побелевшее лицо ползет поспешная радость, он уже слышит голос Казика – голос человека, дождавшегося счастливой встречи. Чего доброго, целоваться полезет. Толя посмотрел на брата. Вот растерялся бы Алексей, и чем бы он больше краснел, тем увереннее делался бы Казик. Да, с братом такое лучше и не начинать. Был бы здесь Разванюша…
А Казик догнал Голуба и говорит что-то, размахивая рукой. Все, как четыре месяца назад. Невольно ожидаешь, что вот-вот покажутся еще две фигуры с лопатами. Знакомая – Алексея. И еще фигура: до жути чужая, самая незнакомая в мире – твоя.
И тут в самом деле показались еще две фигуры. Зеленые. Немцы! Что-то сдвинулось, завертелось, набирая стремительность, захватывая Толю, Алексея.
Немцы сейчас почувствуют, что их видят. И тогда что-то случится.
– На мост, смена, – неуверенно шепчет Алексей. Но слишком много их. Идут по одному, по два.
Толя может выбрать любого. Вот этого, что несет пулемет. И спешащего за ним, сутулого, прихрамывающего. Любого из двадцати. Нет, их уже больше. Уходят, уходят влево. Теперь Толя может все. Но только выстрелит, сразу все изменится, начнется другое, неизвестное. Страшно терять власть над происходящим, но страшно и опоздать, упустить что-то…
– Стрелять будем? – шепчет он брату, который тоже за деревом. Алексей не отвечает, но спина ею, его озабоченный профиль запрещают. Немцы уходят. Пальнуть, что ли, не дожидаясь брата? Нет, еще идут. Пятеро. Эти идут уверенно. После всех – не боятся. Даже голоса слышны. Один из пятерых держится поодаль, сзади. Чем-то на Казика похож. Тем ли, что хитрит, других вперед пропускает? Или походкой?
Оттого, что все в нем требует: уходи, а Толя стоит, оттого, что он сейчас будет стрелять, что он убьет человека, – все кажется сном. Самое реальное – страх перед тем, что начнется, когда прозвучит первый выстрел. Сейчас…
– Я того, последнего, – шепчет Толя. Целится в немца, чем-то похожего на Жигоцкого, и боится, что старший брат помешает. А, была не была! Взрывом грохнул выстрел. Привычный толчок в плечо, звон в ушах. Человек на шоссе подпрыгнул как-то очень не по-взрослому и упал. Позже других упал. А других уже нет. Есть только грохот, кричащее, заполнившее весь мир эхо да повизгивание пуль вверху. Алексей, оглянувшись, выстрелил несколько раз в сторону шоссе. Тогда и Толя перезарядил и еще раз выстрелил, не целясь, в грохот выстрелил. Брат толкнул его плечом. Ага, бежать!
– Быстрее, ну, быстрее ты! – Голос Алексея сзади. Грохот будто переместился в самого Толю, распирает его. Нет, это радость распирает его. Нет – страх. Нет – усталость, страх перед усталостью. И радость, что он, Толя, стрелял, что убил немца!
– А мой упал! – крикнул Толя.
Но Алексей очень хмурый. Даже злой. На лице так и написано: «Возьму я тебя другой раз!» Завидует, что не он, что младший выстрелил первый и, возможно, убил немца.
Добежали до поля. Стрельба стала глуше, дальше. Видны уже зеленые поселки на холмах. Алексей остановился, прикидывает, куда бежать. И тут застучали выстрелы впереди – густо, торопливо. Значит, немцы и в поселках, а те, что на шоссе, совсем не на мост шли.
– Ну вот, попались! – Алексей показал на машину, тотчас провалившуюся за холм. И все как бы старается напомнить: «Говорил я тебе!» А что говорил? Ничего не говорил. Конечно, не надо было идти вдвоем. Только бы на этот раз не случилось непоправимое! Но брат тут все знает. Почему он стоит, чего ждет?
Впереди – пожар. Дым белый, сухой – так горят соломенные крыши.
– Зорька, – сказал Алексей.