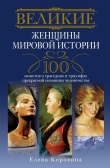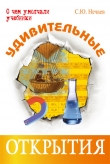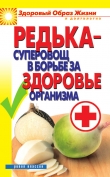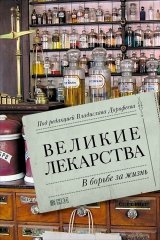
Текст книги "Великие лекарства. В борьбе за жизнь"
Автор книги: Алена Жукова
Соавторы: Наталья Мушкатёрова,Константин Анохин,Полина Звездина,Галина Костина,Ада Горбачева,Дарья Николаева,Елена Мекшун,Екатерина Пичугина
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Гидрокортизон. Мастер на все руки
Несмотря на то что гидрокортизоном могут лечиться пациенты дерматолога, эндокринолога, аллерголога и пульмонолога, главное предназначение глюкокортикостероидов – лечение артрита, и в этой области препарат совершил настоящую революцию – до его появления не было ничего похожего.
«Чесаться – одно из самых приятных и доступных удовольствий, какие даровала нам природа. Но за удовольствием этим слишком уж быстро следует искупление. Занятию этому я предаюсь, главным образом, когда – временами у меня это бывает – ощущаю зуд в ушах», – писал в XVI веке о чесотке в своих «Опытах» французский философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень.
Писателю в то время пришлось лечиться от своей чесотки исключительно травами и маслами, ведь одно из самых действенных противовоспалительных и высокоэффективных противозудных средств, чудо-лекарство – гидрокортизон – появился спустя почти четыре столетия, в 50-х годах ХХ века.
История появления гидрокортизона (кортизола) неразрывно связана с появлением кортизона – оба соединения относятся к глюкокортикоидным гормонам и вырабатываются в коре надпочечников. Оба глюкокортикостероида играют огромную роль в регулировании обменных процессов во всем организме, участвуя в метаболизме жиров, белков и углеводов. Кортизон – биологически неактивное соединение, которое в печени превращается в гидрокортизон. Как и гидрокортизон, он блокируют некоторые реакции иммунной системы в ответ на повреждение или инфекцию.
В последние десятилетия, несмотря на эффективность лечения этими препаратами, врачи, понимая, что гормоны нужно использовать в разумных количествах, пытаются сократить их применение из-за слишком большого количества побочных эффектов и отнести лекарства к средствам запаса. Несмотря на то что гидрокортизоном – лекарством – мастером на все руки – могут лечить противовоспалительные процессы своих пациентов дерматологи, эндокринологи, аллергологи и пульмонологи, главное предназначение глюкокортикостероидов – лечение артрита, и препарат совершил здесь настоящую революцию – до его появления не было ничего похожего.
История применения глюкокортикостероидов начинается только в середине прошлого века. И если философы Возрождения и не мечтали о препарате, который бы облегчил их недуги, то в ХХ веке его появление было уже вполне ожидаемо. Тем более что английский врач и, как его называют, отец эндокринологии Томас Аддисон еще в 1850-х годах описал клинический синдром, связанный с недостаточностью надпочечников.
Гидрокортизон появился вовремя. Особенно для 35-го американского президента Джона Кеннеди, которого препарат буквально спас. Гордость американцев и символ мужественности, Кеннеди страдал многими заболеваниями, в том числе редкой эндокринной болезнью Аддисона, при которой нарушаются функции надпочечников, вследствие чего у больного резко снижается иммунитет. И пусть судьба не уберегла американского президента от снайперской пули, но на самом деле дала ему, совершенно больному человеку, шанс прожить дольше. Когда лекарство появилось, оно сотворило настоящее чудо: Кеннеди почувствовал себя совершенно здоровым, несмотря на побочные эффекты гормонотерапии (такие как, например, бронзовость кожи). Он избавился от болезненной худобы, которая была следствием болезни Аддисона, немного поправился, став еще привлекательнее, и, щедро улыбаясь, продолжил завоевывать голоса американцев. Кеннеди несколько раз лечился в легендарной клинике Мейо – крупнейшем частном медицинском центре в Рочестере, штат Миннесота.
Именно там, в Мейо, в 30–40-е годы прошлого века и происходили события, которые впоследствии привели к созданию гидрокортизона. Вообще те годы можно смело назвать временем интенсивного изучением гормонов коры надпочечников, установлением их химической формулы, биологического действия и возможности использования в качестве лекарств. Появлению лекарства человечество обязано наблюдательности и незаурядному уму доктора Филипа Хенча, в 1920-е годы возглавлявшего ревматологическую службу в клинике Мейо.
1929 год считается отправной точкой, когда врач-ревматолог начал свой долгий – в несколько десятилетий – путь поиска лекарства от ревматоидного артрита. Первый шаг, приведший к появлению кортизона, а затем и гидрокортизона, был сделан благодаря простому клиническому наблюдению. Внимательный доктор заметил, что одним из основных физиологических изменений у его пациенток, наблюдаемых во время беременности, было заметное увеличение концентрации гормонов в организме – у женщин в этот период надпочечники увеличены. В этом же году к Хенчу обратился 65-летний пациент, который четыре года страдал от артрита, а внезапно появившаяся желтуха буквально в течение одной недели помогла болезненным симптомам исчезнуть. Эти случаи подсказали Хенчу, что артрит можно вылечить. Доктор пришел к выводу, чтó помогало выздоровевшим пациентам некое вещество Х – гормон, который вырабатывался как у мужчин, так и у женщин. К 1938 году в копилке Хенча был уже 31 случай улучшения состояния больных артритом после желтухи.
Возможно, догадки доктора еще долго оставались бы догадками, если бы судьба не свела его с талантливым биохимиком Эдвардом Кендаллом, профессором из клиники Мейо. Они сразу стали не только коллегами, но и друзьями. Кендалла отличало невероятное упорство, усидчивость, дотошность, преданность исследованиям, коллеги шутя называли его «человеком, который празднует Рождество в лаборатории». В возрасте 28 лет он стал первым химиком, который получил гормон щитовидной железы в кристаллической форме – тироксин. Была у Кендалла и предпринимательская жилка – он, не теряя времени, запатентовал свою находку и показал себя прекрасным маркетологом, успешно продавая свое изобретение. В 1930-е годы Кендалл решил заняться исследованием надпочечников, поскольку считал, что кортизон может стать ценным препаратом для лечения различных кожных и глазных заболеваний, а также ревматоидного артрита. Он проявил себя как талантливый администратор и скоординировал взаимодействие между исследователями гормонов и фармацевтической промышленностью так, что клиника Мейо превратилась в ведущий центр для лечения надпочечниковой недостаточности. Химики, работающие в лаборатории Кендалла, не только выделили, идентифицировали и синтезировали кортизон (соединение Е) из экстрактов надпочечников, им также удалось идентифицировать более 20 химически родственных соединений.
История полна открытий, и зачастую они случаются независимо друг от друга. У Кендалла в изучении коры надпочечников были соперники. Наиболее конкурентоспособным из них был Тадеуш Райхштейн. Он, как и Кенделл, который заработал репутацию химика путем синтеза тироксина, был известен как создатель витамина С, или аскорбиновой кислоты. Ученым, впрочем, было не до споров – Райхштейн был занят очень трудоемкой работой: более одной тонны животных было необходимо для производства 1 г кортикостероидов. Поляк по происхождению, он работал в лаборатории в швейцарском Базеле и выделил и идентифицировал 25 кортикостероидов, шесть из которых были биологически активны.
Итак, к 1940 году 28 соединений были выделены, включая кортизон, гидрокортизон (кортизол), кортикостерон и 11-дезоксикортикостерон. Поскольку кортизон был особенно эффективен для сохранения жизни адреналэктомированных животных, в лаборатории Мейо пришли к выводу, что соединение Е и может быть тем самым веществом X, которое и пытался вычислить Хенч. Начавшаяся Вторая мировая война сорвала планы ученых, помешав продолжить исследования. Потребовалось восемь лет, прежде чем им удалось получить достаточное количество гормона и провести комплексные клинические исследования. Однако даже в военные годы работа не прервалась – Хенч во время Второй мировой был директором Центра развития ревматологии при госпитале в армии США, и в истории с исследованиями надпочечников началась удачная полоса: разработки стали высокоприоритетной программой для правительства Соединенных Штатов. Причем не в последнюю очередь потому, что правительство считало что и у американских противников такие исследования были в приоритете. Ходили, скажем, слухи, что немецкие пилоты люфтваффе смогли летать на беспрецедентных высотах благодаря инъекциям экстракта надпочечников. Кроме того, американская разведка сообщила, что Германия покупает большое количество надпочечников, взятых у крупного рогатого скота в Аргентине. Слухи эти потом оказались ложными, но это подтолкнуло американское правительство к изучению гормона. Нескольким лабораториям было поручено научиться синтезировать кортизон, а потом его производить, чтобы он мог быть доступен в коммерческом масштабе и для военных.
После войны Кенделл стал работать с Льюисом Сакетом из фармацевтической компании Merck над производством большего количества соединения Е. К 1947 году химики компании с помощью Кенделла и его команды разработали экономичный способ синтеза кортизона из желчных кислот. Было вложено $14 млн, но клинических испытаний не проводилось. Надо было решаться, и компания Merck созвала совещание эндокринологов, чтобы обсудить возможности клинического использования гормона. В апреле 1948 года 9 г соединения Е были распределены между тремя клиническими исследователями в Бостоне, Нью-Йорке и Рочестере для исследований пациентов с болезнью Аддисона. Химикам отдали 3 г «для дальнейших химических исследований», но этого было недостаточно. Хенч попросил еще, но ему было отказано. И только когда предприимчивому Кендаллу в сентябре 1948 года все-таки удалось получить дополнительную поставку 5 г от Merck, испытания начались.
Несмотря на то что в 1970-х гидрокортизон наводил ужас из-за побочных эффектов, лекарство продолжает оставаться не только одним из самых чудесных открытий ХХ века, но и весьма востребованным на лекарственном рынке.
Итак, Кендалл и Хенч оказались на стартовой площадке масштабного проекта. На карту было поставлено гораздо больше, чем просто успех или неудача эксперимента. На кону были два десятилетия исследований, надежда на эффективное лечение ревматоидного артрита, да и финансирование проекта Merck напрямую зависело от успешности результата. Тщательно подойдя к выбору пациента, Хенч остановился на 29-летней миссис Гарднер, которая страдала от тяжелого ревматоидного артрита в течение пяти лет и вела практически сидячий образ жизни. Ей начали вводить внутримышечно кортизон по 100 мг в течение четырех дней. Доза был высокой, но Хенч и Кендалл не хотели рисковать – меньшая доза могла не подействовать. После четырех дней лекарственной терапии пациентка смогла выйти из больницы без посторонней помощи. Это была победа и первое клиническое доказательство терапевтической эффективности кортикостероидов при ревматоидном артрите. В течение нескольких недель компания синтезировала еще 1 кг гормона – и еще 15 больных артритом были вылечены. Результаты превзошли все ожидания.
13 апреля 1948 года стало для Филипа Хенча, пожалуй, самым счастливым днем. На регулярном заседании научных сотрудников клиники, проводившемся каждую среду, было презентовано «великое чудо-лекарство». Как вспоминали современники Хенча, в тот вечер комната была переполнена, и после презентации, на которой были прокручены драматические кадры кинопленки, иллюстрирующие состояние пациента до и после болезни, последовали бурные овации. Новость репортера из The New York Times о чудо-препарате мгновенно разошлась, и не только в научной печати – лекарство превратилось в чрезвычайно популярное и востребованное. Уже тогда стало понятно, что химики совершили настоящий переворот в ревматологии. Первый опубликованный доклад об эффективности кортизона в лечении ревматоидного артрита, появившийся в 1949 году, оказал настолько огромное влияние на научное сообщество, что год спустя его изобретателям Филипу Хенчу, Эдуарду Кендаллу и Райхштейну была присуждена Нобелевская премия по медицине. А уже совсем скоро – буквально через год после официального признания – кортизон стал доступен для врачей в США: Merck производила его по цене $200 за грамм.
В 1950 году был синтезирован гидрокортизон (соединение F) – его действие было близко кортизону. После того как фармацевтические компании разработали новые способы получения кортикостероидов, лекарства стали доступны, поскольку продавались по разумной цене. К концу 1950-х годов биологический метод производства был найден, и глюкокортикостероиды стали стандартом лечения ревматоидного артрита. Гидрокортизон, как более активный гормон, чем кортизон, в суспензии, 1 %-ной мази или в виде эфиров стал активно применяться также для лечения аллергии, разнообразных кожных заболеваний (дерматита, зудящих дерматозов, укусов насекомых, псориаза), в офтальмологии. Препаратом стали лечить ревматизм, артриты, бронхиальную астму, острую надпочечниковую недостаточность, а также использовать его для профилактики и лечения шока.
Несмотря на то что лекарство в 1970-х наводило ужас из-за побочных эффектов, оно продолжает оставаться не только одним из самых чудесных открытий ХХ века, но и весьма востребованным на лекарственном рынке.
Гидрокортизон выпускается в виде суспензий для внутримышечного и внутрисуставного введения. Так, суспензии для инъекций выпускают ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск), Gedeon Richter (Венгрия) – под названием «Гидрокортизон-Рихтер», ОАО «Фармак» (Украина). Востребованные пациентами гидрокортизоновые мази (1 % и 2,5 %), оказывающие противовоспалительное и противоаллергическое действие, на основе активного вещества – гидрокортизона ацетата выпускают ОАО «Нижфарм» (STADA CIS), ОАО «Биохимик» (г. Саранск), ОАО «Биосинтез» (г. Пенза). Кроме них, еще одна российская компания – ОАО «Синтез» (г. Курган) производит популярную гидрокортизоновую глазную мазь (0,5 %). В аптеках также можно купить глазную гидрокортизоновую мазь производства Jelfa SA Polfa (Польша). Немецкий производитель URSAPHARM Arzneimittel GMBH (Германия) выпускает глазную мазь под названием «Гидрокортизон-ПОС».
«Гливек». Рождение крови
Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) – тяжелое онкогематологическое заболевание, которое еще недавно считалось приговором. Пациенты с ХМЛ жили три – пять лет после постановки диагноза. Но медицина не стоит на месте, и сегодня больные лейкемией могут прожить долгую жизнь, рожать детей и воспитывать внуков. Прорывом в лечении ХМЛ стало появление таргетного препарата – иматиниба под торговым наименованием «Гливек».
Хронический миелолейкоз – первый из описанных лейкозов человека. В 1845 году были опубликованы первые статьи о пациентах с увеличением селезенки и печени и с большим количеством «гнойных телец» в крови. Сегодня ХМЛ занимает третье место среди всех разновидностей лейкоза. На его долю приходится около 20 % случаев рака крови. По данным национального регистра, в России проживает около 6000 больных ХМЛ (в том числе около 100 детей и подростков). Примерно столько же людей о диагнозе еще не знают – многие годы болезнь протекает бессимптомно. Клинические проявления возникают лишь тогда, когда общее количество опухолевых клеток начинает превышать 1 кг. Где-то у четверти заболевших хронический миелоидный лейкоз обнаруживают совершенно случайно, во время планового медицинского обследования.
По статистике, заболеваемость ХМЛ составляет один-два случая на 100 000 населения в год. Основная группа пациентов – люди среднего возраста (чаще всего 30–50 лет), у детей же ХМЛ встречается редко, составляя не более 2–5 % от числа всех лейкозов.
Заболевание характеризуется повышенным образованием клеток крови лейкоцитов, особенно нейтрофилов, которые попадают во многие органы, в первую очередь селезенку. Без должной терапии хроническая стадия длится в среднем три – пять лет и в конечном итоге переходит в терминальные стадии (фаза акселерации и бластный криз), после чего довольно быстро наступает летальный исход.
Как и подавляющее большинство других лейкозов, ХМЛ возникает в результате приобретенного повреждения хромосомного аппарата единственной стволовой клетки костного мозга. Кстати, ХМЛ стал первым злокачественным заболеванием с выявленной генетической аномалией – случайной хромосомной «поломкой», при которой части из 22-й и 9-й хромосом меняются местами. В итоге появляется так называемая филадельфийская хромосома, которая также носит название Ph-хромосомы. Поэтому и дата проведения Международного дня поддержки пациентов с ХМЛ – 22 сентября (22. IX) – не случайна.
История лечения больных с увеличенной селезенкой, необъяснимой слабостью, одышкой, потливостью, непереносимостью жары, бледной кожей, потерей веса насчитывает столетия. О первых успешных опытах терапии ХМЛ сообщили в Германии в 1865 году – немецкие врачи заявили об улучшении самочувствия и уменьшении объемов селезенки у двух пациентов, которым давали раствор мышьяка. Этот яд вплоть до начала ХХ столетия оставался единственным средством лечения хронического миелолейкоза. И все же увеличить продолжительность жизни больных с его помощью было невозможно – терапия мышьяком лишь на короткое время уменьшала проявления тяжелой болезни и облегчала состояние больных. Впоследствии таких пациентов пытались лечить с помощью бензола, уретана, радиоактивного фосфора. Эффект от этих средств был недолгим и незначительным, а переносились пациентами они плохо.
На заре прошлого века, в 1902 году, для лечения ХМЛ впервые с успехом применили облучение селезенки. Благодаря этой процедуре объемы органа сокращались, а неприятные симптомы исчезали. Казалось, эффективный способ наконец найден – вплоть до середины ХХ века эта терапия считалась единственным методом лечения ХМЛ. Но, увы, это давало лишь кратковременный эффект: в большинстве случаев пациенты теряли работоспособность уже на второй год после постановки диагноза, а еще через год становились лежачими инвалидами.
В течение десятилетий врачи считали болезнь неизлечимой, а терапия ХМЛ носила паллиативный (симптоматический) характер. Первой важной вехой на пути революции в лечении ХМЛ стало появление препарата на основе производной дисульфоновой кислоты алкирующего действия (торговые названия – бусульфан, милеран, миелосан). На многие годы этот препарат стал одним из вариантов выбора при лечении ХМЛ – он снимал симптомы заболевания, а пациенты на фоне лечения могли продолжать работать и вести привычный образ жизни. И все же поводов для полного оптимизма не было: через четыре – шесть лет лечения дело заканчивалось бластным кризом, и примерно через полгода пациент умирал.
Добиться длительных ремиссий у пациентов с ХМЛ ученым удалось в 80-е годы прошлого века, когда для терапии стал использоваться а-интерферон. Было доказано, что он эффективно подавляет Ph-позитивные клетки более чем у половины пациентов с ХМЛ, – это был новый прорыв в лечении заболевания. И все же часто переносимость этого препарата была плохой: 20 % пациентов вынуждены были прекращать лечение из-за серьезных побочных эффектов. Некоторые же больные на препарат не реагировали вообще. При этом с течением времени, пусть и длительного, болезнь неизбежно переходила в терминальную стадию.
Разработать принципиально новые подходы к лечению ХМЛ удалось благодаря развитию молекулярной биологии. Еще в 60-х годах прошлого века ученые Питер Ноуелл (Пенсильванский университет) и Дэвид Хангерфорд (Онкологический центр Фокса Чейза в Филадельфии) впервые расшифровали патогенез ХМЛ, обнаружив соматическую мутацию в стволовой кроветворной клетке, в результате которой происходит обмен генетическим материалом между хромосомами 9 и 22. Это приводит к образованию филадельфийской, или Ph-хромосомы с онкогеном BCR-ABL, который играет ключевую роль в нарушении жизнедеятельности клеток: из нормальных они превращаются в злокачественные. Сегодня филадельфийскую хромосому можно обнаружить при помощи стандартного цитогенетического исследования, или метода FISH.
В результате мутации в организме вместо двух белков синтезируется один, который продуцируется измененной хромосомой, – тот самый аномальный белок BCR-ABL. Он функционирует как фермент тирозинкиназа, из-за которого клетки начинают безудержно расти и делиться, что приводит к образованию огромного количества лейкоцитов в организме, способных влиять на функционирование различных органов.
Киназы правят жизнью клетки, вовремя запуская нужные процессы. Но если ход их работы нарушается, последствия печальны. Чрезмерная активность киназ лежит в основе многих онкологических заболеваний. Кстати, первую тирозинкиназу ученые открыли в 1980 году, изучая онкологическое заболевание кур – саркому Рауса.
О том, что пусковым механизмом развития ХМЛ является активация ABL-тирозинкиназы, стало известно в 1990-е годы. Тогда ученые принялись разрабатывать средство, позволяющее подавить патологическую активность онкопротеина BCR-ABL, то есть ингибитор тироксинкиназы.
Вначале было разработано несколько соединений – гербимицин А, генистеин, кверцетин. Однако по разным причинам их «забраковали». Позднее, в конце 1990-х годов, для ингибирования тирозинкиназ были созданы тирофосфины. Первым стал иматиниб (STI 571 – Signal Trunsduction Inhibitor), впоследствии получивший коммерческое название «Гливек». Его разработали в фармацевтической компании Novartis после изучения большого числа тирофосфинов. «Отцами» препарата стала целая группа ученых во главе с Николасом Лайдоном, Чарльзом Сойерсом и Брайаном Друкером.
Иматиниб подавляет рост Ph-позитивных клеток и смертоносную активность тироксинкиназы. Молекула препарата встраивается в то место в молекуле ABL-тирозинкиназ, куда обычно встраивается АТФ при фосфорилировании белков. «Гливек» блокирует возможность связывания тирозинкиназы с АТФ и тем самым прекращает фосфорилирование белка, продуцируемого BCR – ABL-геном. В итоге препарат эффективно предотвращает аномальный рост и образование новых раковых клеток. «Гливек» не избавляет больного от миелобластного лейкоза полностью, но позволяет ему жить, регулярно принимая лекарство, подобно тому, как больные диабетом принимают инсулин.
Первые исследования нового средства проводились в группе пациентов, ранее безуспешно лечившихся интерфероном. При использовании дозы 300 мг и выше у пациентов ХМЛ в хронической стадии полные гематологические ремиссии были достигнуты в 89 % случаев. Среди 260 больных ХМЛ в стадии бластного криза при использовании препарата в дозах 300–800 мг ответ на лечение наблюдался у 26 %. Сегодня установлено, что при лечении «Гливеком» гематологическая ремиссия наступает у 90–95 % больных в хронической стадии и у 70 % больных в стадии акселерации. Больные, в течение 12 месяцев не отвечавшие на терапию интерфероном, отвечают на «Гливек» в 55 % случаев в хронической стадии и в 25 % случаев в стадии акселерации. У ранее не леченных больных в хронической стадии полная гематологическая ремиссия составляет 97 %.
Эффективность «Гливека», безусловно, превосходит все ранее известные терапевтические средства, применяемые у больных ХМЛ. В настоящее время во всем мире он является препаратом первой линии терапии для подавляющего большинcтва больных.
В 2000 году «Гливек» впервые опробовали российские пациенты. Как вспоминает в одном из интервью заведующая научно-консультативным отделением химиотерапии миелопролиферативных заболеваний ГНЦ МЗ РФ Анна Туркина, двое молодых россиян начали лечение экспериментальным препаратом STI571 в рамках клинических исследований в Германии. А в феврале 2001 года 140 наших больных ХМЛ, резистентных к лечению интерферонами, были включены в международное клиническое исследование по оценке эффективности и безопасности препарата STI571. «Хочется отметить, что со времени начала лечения “Гливеком” прошло больше 13 лет, нам хорошо известны отдаленные результаты терапии, которые превзошли все ожидания ученых и врачей. Кстати, те первые двое больных, которые первыми начали получать иматиниб, живы и сохраняют ремиссию. За это время у одного из них родились и растут двое очаровательных детей, которые полностью здоровы», – говорит профессор Туркина.
Эффективность «Гливека», безусловно, превосходит все ранее известные терапевтические средства, применяемые у больных ХМЛ. В настоящее время во всем мире он является препаратом первой линии терапии для подавляющего большинcтва больных ХМЛ – отмечают ученые из ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. Алмазова» (г. Санкт-Петербург), а также Петербургского государственного медицинского университета в научной статье «Хронический миелолейкоз – до и после применения иматиниба».
Применение нового лекарства было разрешено в США в мае 2001 года после двухлетних клинических испытаний. Создание препарата строго направленного патогенетического действия стало большим прорывом в борьбе с лейкозом, подобного которому раньше не было. Его появление кардинально изменило подходы к лечению ХМЛ и прогноз таких больных. Терапия достоверно приводит к пятилетней выживаемости у 90 % пациентов против 30–40 % при лечении цитостатическими препаратами.
«Я считаю, что наступила новая эра в лечении рака. Новое лечение хронического миелолейкоза является наиболее эффективным из всех известных», – заявляет один из разработчиков препарата доктор Брайан Друкер.
Разумеется, выход нового революционного лекарства на рынок не остался незамеченным. Авторитетный журнал Time поместил его изображение на обложку, назвав его «пулей» против рака. В 2009 году доктора Друкер, Лайдон и Сойерс получили премию Ласкера – Дебейки за то, что им удалось «превратить смертельный рак в контролируемое хроническое заболевание».
Тем не менее пока не ясно, возможно ли добиться истинного излечения с помощью «Гливека» или его комбинаций с другими препаратами, сколько времени должен лечиться больной после достижения ремиссии и не продлевает ли «Гливек» жизнь даже в случаях развития резистентности к нему. И все же лекарства других групп не уменьшают количество лейкоцитов и не способствуют нормализации крови. «Это не чудодейственное средство, но оно служит моделью для дальнейшего изучения рака, так как воздействует на причину заболевания и не повреждает другие клетки», – говорит Эдвард Бенц, президент Онкологического института Dana-Farber Медицинской школы Гарвардского университета.
Сегодня «Гливек» включен в стандарты лечения ХМЛ во многих странах мира, поскольку продемонстрировал беспрецедентные результаты по сравнению с ранее применявшейся терапией. В России препарат попал в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). И если в 2002–2007 годах около 500 российских больных получали «Гливек» в рамках программы гуманитарной помощи, то затем государство приняло решение включить его в программу «7 нозологий», на основании которой он предоставляется нуждающимся в нем пациентам бесплатно. Сегодня более 6500 человек в России получают терапию иматинибом. Улучшение обеспечения жизненно важным препаратом позволило повысить эффективность лечения и резко уменьшить смертность больных ХМЛ.
С началом использования иматиниба повышенное внимание стало уделяться развитию целенаправленной, или таргетной терапии для ингибирования известных механизмов, играющих ключевую роль в развитии заболевания. «Гливек» стал родоначальником принципиально новой группы препаратов – ингибиторов тирозинкиназ. Сегодня таких лекарств уже несколько. Вслед за иматинибом были разработаны нилотиниб («Тасигна»), дазатиниб («Спрайсел»), понатиниб («Иклусиг») и пр. На фоне лечения ими у большинства пациентов с ХМЛ возможно достижение стабильной клинико-гематологической и цитогенетической ремиссии, а у части из них лейкемические клетки не удается обнаружить даже с помощью самых чувствительных молекулярных методов исследования.
Фармацевтические компании всего мира продолжают поиск новых препаратов. Например, есть ряд мутаций в филадельфийской хромосоме, которые делают тирозинкиназу устойчивой к действию «Гливека». Поэтому для этих форм лейкоза требуются новые лекарства.
Тем временем ученые предполагают, что ингибиторы протеинкиназ, в том числе тирозинкиназы, перспективны не только в борьбе с хроническим миелобластным лейкозом. Есть ряд других заболеваний, обусловленных патологической активностью различных тирозинкиназ (в том числе крупноклеточный рак легкого, рак почки, глиобластома, миелофиброз, ревматоидный артрит, дистрофия сетчатки), следовательно, с этими болезнями также можно справиться, создав подходящий ингибитор. «Гливек» уже стал единственным препаратом, который показал высокую эффективность и у больных с диссеминированными гастроинтестинальными стромальными опухолями (ГИСО). Альтернативы в лечении таких больных не существует, так как химиотерапия и лучевая терапия практически неэффективны. И если до появления «Гливека» такие пациенты жили в среднем год, то сегодня уже четыре года.