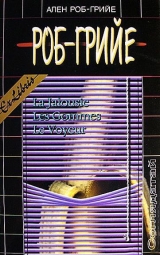
Текст книги "Соглядатай"
Автор книги: Ален Роб-Грийе
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Ален Роб-Грийе
Соглядатай
Предисловие к сборнику
Господин X. путешествует по замкнутому кругу
Первые романы Роб-Грийе как-то трудно назвать «ранними» – настолько зрелой и самостоятельной была манера этого, тогда еще начинающего, писателя. Среди молодых авторов, пожалуй, не найдется ни одного, кто подходил бы к творчеству так же методично и осознанно. И концепция «нового романа», которую Роб-Грийе выдвинул тогда же, в пятидесятые годы, – тому подтверждение.
Появление его романов, несомненно, было новым словом в литературе. И хотя традиционный «бальзаковский» роман, против которого Роб-Грийе так много выступал в те годы, не прекратил существования, он перестал восприниматься как единственно возможный способ создания «настоящей» литературы. Догмы реализма (а вместе с ним и всех остальных «измов») окончательно рухнули.
Именно поэтому Роб-Грийе любит играть на читательских стереотипах, пародируя классические жанровые стандарты. Так, в «Ластиках» мы как будто имеем дело с детективом, где все на своих местах: убийство, расследование, сыщик, который идет по следу преступника, свидетели, вещественные доказательства… Однако эти элементы, которых обычно бывает достаточно для связной интриги, почему-то никак не складываются. Оказывается, что и преступление не было совершено (как предполагалось изначально), и жертва таковой не является, и преступник, стало быть, не преступник, и расследование не имеет смысла. В довершение всего, сам убийца до последнего момента не знает, что он убийца.
Автор же говорит об этом так: «Речь идет о некоем точном, конкретном, главном событии – смерти человека. Это событие имеет детективный характер, то есть в нем участвуют убийца, сыщик, жертва… но отношения между ними не так просты… потому что книга представляет собой… рассказ о тех двадцати четырех часах, которые проходят между выстрелом из пистолета и смертью, о времени, за которое пуля проделала путь в три-четыре метра, о лишних двадцати четырех часах».
Таким образом, ни о каком реализме не может быть и речи, а значит, и финал романа, где по традиции все элементы должны были бы сложиться в единое целое и дать всему рациональное объяснение, на самом деле не проясняет ровным счетом ничего. Это и понятно: ведь сама попытка восстановить «реальный» порядок вещей заранее обречена на провал, поскольку лежащее в основе всего этого «порядка» событие – это «несуществующее убийство». [1]1
Robbe-Grillet A. Les Gommes. Paris, 1953. P. 38.
[Закрыть]
Подобную же историю мы обнаруживаем и в «Соглядатае». Несмотря на обилие прямых и косвенных улик, которые как будто свидетельствуют о том, что герой романа, Матиас, действительно совершил убийство Жаклин Ледюк, преступник странным образом избегает изобличения. Более того, никто, кроме самого предполагаемого преступника, не ведет расследования. Что «реально» произошло с половины двенадцатого до половины первого, навсегда остается «за кадром», то есть на пустующей странице где-то между первой и второй частями романа.
Что касается «Ревности», то само название книги, казалось бы, должно говорить о каком-то драматическом содержании: кипение страстей, тайные желания… Роб-Грийе старательно эксплуатирует традиционную схему адюльтера: в романе есть и замужняя женщина (А***), и женатый мужчина (но не ее муж) – Фрэнк, – который тем не менее регулярно наносит ей визиты, оставляя дома собственную жену (Кристиану) и ребенка, и наконец – муж А***, невидимый рассказчик, который наблюдает за всем происходящим. Однако на измену указывают только какие-то косвенные детали (рассматриваемые самым подробным образом), но ничего конкретного не происходит. И мы начинаем смутно подозревать, что вся история – не что иное, как игра воображения невидимого рассказчика. Тем более что французское название романа «La Jalousie» имеет двойное значение: с одной стороны – «ревность», а с другой – «жалюзи», занавеска, через которую очень удобно подсматривать, оставаясь при этом невидимым…
Так или иначе, но Роб-Грийе всегда старается «расшатать» стандартные представления читателя о романе, заставляя его свободно домысливать то, о чем впрямую не сказано. Таким образом, текст становится предлогом для пробуждения нашей, читательской фантазии, и глубина его измеряется многообразием различных интерпретаций, которые мы можем увидеть в нем одновременно. В то же время это многообразие позволяет нам понять, что на самом деле текст не связан заранее какими-то условностями трактовки, а мы привносим их сами извне, как бы играя в предложенную нам игру. На самом деле, мы сами выбираем правила, по которым переставляются фишки. Текст романа – всего лишь вещь, и, как любую другую вещь, его характеризует прежде всего то, что он есть, его наличие. Автор намеренно отстраняется от своего произведения, чтобы дать ему возможность свободно и самостоятельно существовать в сознании людей.
Вместо того чтобы рассказывать какую-то историю, Роб-Грийе, наоборот, создает некую видимость, иллюзию чего-то рационального, которая разрушается при малейшей проверке на прочность. Текст не утверждает, а только намекает на какие-то события, описание которых в нем отсутствует. Именно это отсутствие во всех случаях является двигателем интриги: Уоллес расследует преступление, которое еще не совершено; Матиас мучительно пытается вспомнить то, чего на самом деле, возможно, и не было; в «Ревности» же отсутствующим элементом оказывается сам герой.
Эта лакуна неизбежно притягивает действие как магнит. Поэтому оно постоянно вертится вокруг нее. Развитие сюжета можно сравнить с водяной воронкой: чем ближе подходишь к разгадке, тем больше сужаются круги, тем быстрее несет водоворот, а в результате падаешь в пустоту. Ассоциативно это представляет собой еще и ловушку или лабиринт: чем дальше забираешься, тем труднее выбраться назад.
Движение по замкнутому кругу организует все действие романа. В «Ластиках» Уоллес случайно обнаруживает, что находится на Бульварном кольце. Но ведь от самой улицы Землемеров он шел только прямо! Подобно герою «Замка», Уоллес внезапно попадает в какие-то странные зоны, где здравый смысл граничит с полным абсурдом, и не находит оттуда выхода, который позволил бы ему выскользнуть из порочного круга. Движение в этом круге сродни абсолютной неподвижности. Равно как и время, которое тоже стоит на месте. Не имея возможности действовать в соответствии с собственной логикой, Уоллес совершает убийство, которое не смог совершить другой, на основании парадоксальной логики автора. Только таким образом он может оправдать (с точки зрения здравого смысла) свое расследование: убийство, совершаемое Уоллесом, замещает собой неудавшееся преступление Гаринати. Конкретное событие сдвигает время с мертвой точки, детектив находит убийцу (самого себя).
Не менее запутанны и лабиринты, в которых блуждает герой романа «Соглядатай» Матиас. Его замкнутый маршрут представляет собой восьмерку – «двойной круг», своеобразную «ленту Мёбиуса». Каждый раз, когда Матиас оказывается на перекрестке, перед ним как будто возникает выбор, но куда бы он ни пошел – его всюду ожидает одно и то же. Он опаздывает на свой пароход, и ловушка захлопывается, время как будто останавливается. Больше ему не нужно смотреть на часы.
Навязчивое повторение одних и тех же действий, возвращение к одним и тем же деталям могут показаться монотонными. Тем не менее с каждым новым витком появляются какие-то новые подробности, другие же, напротив, исчезают. Что-то неуловимо меняется, круги сужаются, мы постепенно приближаемся к ядру разгадки. Хотя, в соответствии все с той же парадоксальной логикой, разгадка здесь равна самой загадке. Все стремление Матиаса состоит лишь в том, чтобы заполнить тревожащий пробел в распорядке дня между половиной двенадцатого и половиной первого: в то самое время было совершено убийство Жаклин Ледюк. Пропущенная страница (в оригинале издания это страница 88), где могло бы быть описание предполагаемого убийства, естественно, наводит на мысль о том, что автор специально сбивает нас с толку и одновременно оставляет в тексте указания на возможные решения своей головоломки. Впрочем, позднее, в книге «Возвращение зеркала», Роб-Грийе напишет, что на самом деле пустая страница возникла просто в результате типографского набора: «если бы первая часть книги содержала еще несколько строк, интересующая нас страница была бы заполнена – в той или иной степени, – как и другие». [2]2
Robbe-Grillet A. Le Miroir qui revient. Paris, 1984. P. 216.
[Закрыть]
И тем не менее во всех трех романах интрига неизменно завязывается вокруг какого-то отсутствующего элемента. В «Ревности» эта зияющая пустота целиком захватывает все пространство. Кто этот таинственный наблюдатель, глазами которого мы видим все происходящее? Мы не знаем ни его лица, ни имени, и однако все в романе подчинено только его сознанию, все выглядит именно так, как видит и слышит (или желает видеть и слышать) он. На сей раз мы сами оказываемся в ловушке-лабиринте, которая заставляет нас ходить по замкнутому кругу. Вращение по этой спирали завораживает и тревожит. И снова исчезает время, и снова движение застывает на месте. Роман, начавшийся в половине седьмого утра, завершается почти так же – в половине седьмого вечера. Разница только в этом незаметном «почти»…
Пустоты и ниши, выемки и углубления существуют на всех уровнях текстов Роб-Грийе. Даже французское название романа «Соглядатай» – «Le Voyeur» – можно представить как усеченное «voyageur» – «путешественник» или «коммивояжер». Безлюдные улицы, заброшенные дома, незанятые руки, пустые стаканы, выбоины на дороге или настежь распахивающиеся двери – это мир, требующий заполнения. Болезненное ощущение отсутствия чего-то, нехватки какого-то элемента в ряду других заставляет искать избыток в других местах. Бесконечное перетекание, напоминающее приливы и отливы моря, волнообразные очертания холмистых лугов отмеряют ритм времени и вечного возвращения.
С тем же навязчивым упорством снова и снова всплывают одни и те же сцены: детектив Уоллес ищет свои ластики, садо-эротические фантазмы неотступно преследуют Матиаса, герой «Ревности» в который раз видит на стене сороконожку…
Персонажи романов в своем беспрестанном блуждании похожи на неприкаянные души умерших из бретонских легенд. Детство Роб-Грийе прошло в Бретани, и герои этих рассказов не раз посещали его воображение. Герои его романов тоже сродни призракам: их можно видеть, слышать, но не осязать. «Их существование столь же сомнительно и упорно, как и существование тех беспокойных усопших, которые вследствие какого-то злого наваждения или божественной мести обречены вечно переживать одни и те же сцены своей трагической судьбы. Так, Матиас из «Соглядатая», чей плохо смазанный велосипед часто встречался мне на дорожках у обрыва среди голых кустов утесника, не кто иной, как неприкаянная душа, равно как и невидимый муж из "Ревности"…». [3]3
Robbe-Grillet A. Le Miroir qui revient. Paris, 1984. P. 21.
[Закрыть]Быть может, этим объясняется их отсутствующий взгляд, отрешенность от мира. Они как будто стремятся вернуться в мир живых – тот «настоящий» мир, из которого они навсегда изгнаны. Каждый из них, отправляясь на поиски кого-то другого, на самом деле ищет самого себя. В том же безвременном круге живут и герой Кафки землемер К., и Николай Ставрогин, и «посторонний» Камю, и Стивен Дедал, и Карамазовы…
Умножая ходы, шаг за шагом отвоевывая пространство, пустота разрушает повествование изнутри. Нагромождение парадоксов стремится окончательно поглотить банальный смысл происходящего, оставляя свободное поле для фантазии. Метафора этого процесса содержится в названии романа «Ластики»: каждая новая деталь рассказа «стирает» то, что до этого имело смысл, текст как бы «стирает» сам себя.
В крепко сбитом мире традиционного романа, исполненном вечной (и лживой) идеи, нет места человеку с маленькой буквы – живому человеку. Роб-Грийе создает в своих книгах необходимые пробелы, которые приглашают нас к сотворчеству. Благодаря тому, кто читает, застывшая форма приходит в движение – пустоты заполняются новым содержанием, и текст живет снова и снова.
Ольга Акимова
І
Словно никто ничего не слышал.
Сирена издала второй, резкий и протяжный гудок, за которым с оглушительной яростью – бесцельной и, стало быть, безрезультатной – последовали три коротких свистка. Как и в первый раз, никто не вскрикнул и не отступил назад, ни один мускул не дрогнул на лицах.
Выстроившиеся в ряд неподвижные, параллельно устремленные взгляды – напряженные, почти тревожные – пытались преодолеть, перебороть ту диагональ, то пространство, которое еще отделяло их от цели. Все головы были обращены в одну и ту же сторону. Последняя, густая и безмолвная, струя пара образовала в воздухе над ними султан, который тут же растаял.
Чуть в стороне, позади только что возникшего дымного облака, стоял пассажир, не принимавший участия в общем ожидании. Гул сирены не смог нарушить ни его отрешенности, ни страстной целеустремленности тех, кто был рядом. Он стоял, напрягшись, как и они, всем телом, – глаза его были опущены.
Эту историю ему часто рассказывали. Когда-то в детстве – двадцать пять, а может, тридцать лет назад – у него была большая картонная коробка из-под обуви, в которую он складывал свою коллекцию веревочек. Он не хранил что попало, отбраковывая некачественные, а также чересчур потертые, истрепанные и дряблые образцы. Он отвергал и слишком короткие обрезки, которые нельзя было употребить на что-нибудь стоящее.
Данный же экземпляр, несомненно, подходил. Это была тонкая пеньковая веревочка, в прекрасном состоянии, аккуратно свернутая в форме восьмерки и туго стянутая посередине несколькими дополнительными витками. Скорее всего, она была приличной длины – по меньшей мере метр или даже два. Кто-то наверняка обронил ее по оплошности, после того как смотал, имея в виду дальнейшее использование… или же коллекционирование.
Матиас наклонился за ней. Выпрямляясь, он заметил в нескольких шагах справа от себя девочку лет семи-восьми, которая с серьезным видом спокойно глядела на него широко раскрытыми глазами. Он изобразил на лице подобие улыбки, но девочка не стала отвечать ему, и только несколько секунд спустя он увидел, как она переводит взгляд на моток веревки, который он держал в руке на уровне груди. Более тщательный осмотр не разочаровал его: это была прекрасная находка – матово-блестящая, с ровными, тонко скрученными волокнами, по всей видимости, очень прочная.
На мгновение ему показалось, что он узнал ее, как вещь, которую когда-то давно потерял. Должно быть, точно такая же веревочка уже заняла важное место в его мыслях. Может, она была вместе с остальными в обувной коробке? В памяти сразу возник бескрайний свет дождливого пейзажа, где на первый взгляд ни одна веревочка не фигурировала.
Оставалось лишь положить ее в карман. Но, едва начав совершать это действие, он застыл в нерешительности, глядя на свою еще полусогнутую руку. Он увидел, что ногти на ней слишком длинные, о чем знал и раньше. Кроме того, он заметил, что, отрастая, они приняли чересчур заостренную форму – он, разумеется, подстригал их совсем иначе.
Девочка по-прежнему глядела в его сторону. Однако было сложно определить, смотрит ли она на него или на что-то вдали, а может, и вовсе ни на что; казалось, глаза ее слишком широко открыты, чтобы смотреть на какой-то отдельный предмет – разве что очень больших размеров. Должно быть, она просто смотрела на море.
Матиас опустил руку. Внезапно двигатели остановились. Вибрация сразу же прекратилась, а вместе с ней прекратился и тот глубинный шум, который сопровождал движение корабля с момента отплытия. Все пассажиры молча и неподвижно столпились на переполненной палубе, откуда предстояла высадка на берег. Заранее приготовившись к выходу, почти все они держали в руках багаж. Все лица были обращены влево, все взгляды прикованы к верхней площадке пристани, на которой так же молча и неподвижно тесной группой стояли десятка два человек, отыскивая глазами знакомых среди толпы на маленьком пароходе. Выражение лиц с той и с другой стороны было одинаковым: напряженным, почти тревожным, до странности единообразным и застывшим.
Пароход шел по инерции, под шелест взрезаемой и скользящей вдоль его корпуса воды. Сзади, по левому борту, чуть обгоняя корабль, вдоль пристани медленно пролетела серая чайка; не совершая ни малейшего движения, она спланировала на уровне пассажирского трапа, склонив голову набок, так, чтобы одним своим глазом – круглым, бездушным и пустым – наблюдать, что происходит внизу.
Раздался звонок, напоминающий по тембру электрический. Двигатели вновь заработали. Корабль начал описывать дугу, осторожно приближаясь к пристани. Вдоль другого его борта быстро проносился берег: черно-белые полосы приземистого маяка, полуразрушенный форт, портовые шлюзы, ряды домов вдоль набережной.
– Сегодня вовремя, – послышался чей-то голос. И кто-то поправил: «Почти». Возможно, это был один и тот же человек.
Матиас проверил время. Переправа заняла всего три часа. Электрический звонок раздался снова; затем, через несколько секунд, еще раз. Серая чайка, совершенно такая же, как первая, пролетела в том же самом направлении, так же медленно, не шевеля крыльями, она проследовала по той же горизонтальной траектории: тот же легкий поворот головы, склоненный клюв, направленный в сторону, неподвижный взгляд вниз.
Могло показаться, что корабль стоит на месте, никуда не двигаясь. Тем не менее сзади слышался шум винта, яростно перемалывающего лопастями воду. Совсем уже близкая, пристань возвышалась теперь над палубой на несколько метров: наверное, был отлив. Нижняя часть пологого спуска, служившего причалом, была более гладкой, отполированной водой и наполовину покрытой зеленоватыми мхами. Присмотревшись внимательнее, можно было заметить, как почти неуловимо приближается каменный край пристани.
Каменный край – острое, скошенное ребро, образованное пересечением двух перпендикулярных плоскостей: вертикальной стенки, уходящей прямо к набережной, и причального откоса, восходящего к гребню мола, – своим верхним концом достигает гребня мола и переходит в горизонтальную линию, уходящую прямо к набережной.
По обеим сторонам этой главной оси от набережной, еще более удаляемой эффектом перспективы, отходит пучок параллельных линий, которые благодаря яркому утреннему свету очень четко разграничивают между собой ряд последовательно расположенных, вытянутых горизонтальных и вертикальных граней: верхнюю плоскость массивного парапета, защищающего проход со стороны моря; внутреннюю стенку парапета; дорогу, идущую по гребню мола; неогражденную боковую стену, омываемую водами порта. Две вертикальные грани находятся в тени, а две остальные ярко освещены солнцем: это верхняя плоскость парапета во всю ее ширину и дорога, если не считать узкой темной полоски – тени от парапета. Теоретически в водах порта можно увидеть еще и перевернутое изображение всего ансамбля, а на водной поверхности – все в той же последовательности параллельных линий – тень, отбрасываемую высокой вертикальной стеной, уходящей прямо к набережной.
Ближе к оконечности пристани конструкция усложняется, дорога раздваивается: со стороны парапета к маяку ведет более узкий проход, а слева откос причала спускается прямо к воде. Именно этот наклонный и видимый лишь сбоку прямоугольник притягивает к себе все взоры; тень от продольной стены делит его по диагонали на два приятных глазу треугольника – темный и светлый.
Остальные плоскости видны нечетко. Воды порта не так спокойны, чтобы в них можно было разглядеть отражение мола. Его тень тоже представляет собой весьма расплывчатую полосу, очертания которой беспрестанно нарушаются плавным покачиванием водной поверхности. Что касается тени парапета на дороге, то она почти сливается с отбрасывающей ее вертикальной гранью. Впрочем, и дорога, и парапет заняты расставленными для просушки сетями, пустыми ящиками и большими плетеными корзинами – вершами для омаров и лангустов, корзинками для устриц, ловушками для крабов. Через эти нагромождения с трудом пробирается толпа людей, пришедших встречать пароход.
Сам же пароход во время отлива располагается так низко, что с палубы невозможно разглядеть ничего, кроме уходящей прямо к набережной отвесной стены мола, другой конец которой неподалеку от маяка обрывает причальный спуск (пологий склон, подножие которого завершается поверхностью более гладкой, отполированной водой и наполовину покрытой зеленоватыми мхами), находящийся все на том же расстоянии, как будто корабль стоит на месте, никуда не двигаясь.
Однако, присмотревшись внимательнее, можно было заметить, как неуловимо приближается каменный край пристани.
Утреннее солнце, как обычно, подернутое легкой дымкой, лишь слегка обозначило тени, которые, однако, достаточно ясно разделяли склон на две симметричные части – одну потемнее, другую посветлее, так что один из их острых клювов был направлен вниз, к подножию причального спуска, по откосу которого поднималась и плескалась среди водорослей вода.
Пароходик и сам продвигался к возникающему из темноты каменному треугольнику наискось, да к тому же так медленно, что, казалось, он вот-вот совсем остановится.
В укромном углу возле причального спуска размеренно и ровно – несмотря на легкие колебания амплитуды и ритма, заметные для глаза, но не превышавшие десятка сантиметров или двух-трех секунд, – то поднималось, то опускалось море. В нижней части наклонной плоскости вода попеременно то скрывала, то вновь обнажала толстые пучки зеленых водорослей. Время от времени, с несомненной регулярностью, периоды которой, впрочем, плохо поддавались вычислению, это убаюкивающее покачивание нарушалось волной посильнее: две водные массы, идущие навстречу друг другу, сталкивались, всплеснув как пощечина, и несколько пенных брызг у стены взметались немного выше.
Борт судна по-прежнему двигался параллельно краю причала; расстояние, которое их разделяло, мало-помалу все-таки сокращалось по мере того, как продолжалось – во всяком случае должно было продолжаться – его поступательное движение вдоль пристани. Матиас попытался найти какой-нибудь ориентир. В углу возле причального спуска, у бурой каменной стены, поднималась и опускалась вода. На таком удалении от берега на ее поверхности не виднелось тех мелких остатков мусора, которые загрязняют порты, оседая на дне. Водоросли, покрывающие нижнюю часть причального спуска, – то поднимаемые, то вновь опускаемые волной, – были свежими и блестящими, как будто выросли в морских глубинах; должно быть, им не приходилось надолго оставаться на открытом воздухе. Каждая небольшая волна увлекала за собой вверх свободные концы стеблей, а затем сразу же возвращала обратно на залитые водой камни, бросая их, как груду безвольно поникших спутанных лент, тянущихся в сторону пологого склона. Время от времени вода приливала немного сильнее, затопляя склон чуть выше, а затем скатывалась с него, оставляя в выемке между камнями крохотную сверкающую лужицу, в которой несколько секунд отражалось небо, а потом она сразу высыхала.
Наконец на дальней от себя вертикальной стене Матиас выбрал знак в форме восьмерки, выдолбленный достаточно отчетливо, чтобы служить ориентиром. Эта отметина находилась как раз напротив него, то есть в четырех-пяти метрах слева от той точки, где склон причала выходит из воды. Внезапный подъем волны скрыл ее из виду. Через три секунды, когда Матиас снова увидел место, с которого он старался не спускать глаз, у него уже не было полной уверенности в том, что он узнает замеченный им рисунок; на камне были всякие другие неровности, так же похожие и одновременно совсем не похожие на те два маленьких, соединенных друг с другом кружочка, вид которых он запомнил.
Вдруг что-то упало с вершины мола и осталось на поверхности воды: это был бумажный комок, по цвету напоминающий пачку обычных сигарет. В укромном углу уровень воды поднимался, в то время как с наклонной плоскости спуска откатывалась волна посильнее. Их очередное столкновение пришлось как раз на шарик синей бумаги, который погрузился в воду, всплеснув, как пощечина; у вертикальной стены взметнулись несколько пенных брызг, а пучки водорослей вновь скрылись в мощной волне, которая затем добралась и до впадинки, выщербленной в каменной кладке.
Волна сразу отхлынула; мягкие водоросли распластались на мокром камне, протянувшись вдоль него, в сторону пологого склона. Внутри светлого треугольника в маленькой лужице отражалось небо.
Но еще прежде, чем она успела окончательно высохнуть, сверкание лужицы внезапно померкло, как будто на нее легла тень какой-то большой птицы. Матиас посмотрел наверх. Серая чайка, подлетевшая сзади, снова так же невозмутимо и медленно начала описывать в воздухе ту же горизонтальную траекторию: концы ее неподвижных крыльев были слегка опущены, голова повернута вправо, круглый глаз устремлен на воду – или даже на корабль, а может, и вовсе ни на что.
Но если тень, промелькнувшая над лужицей, и была тенью чайки, то во всяком случае не этой, судя по их взаимному расположению.
Внутри светлого треугольника ямка на дороге подсохла. У нижнего края причала вода, поднимаясь, выбрасывала водоросли наверх. В четырех-пяти метрах левее Матиас заметил выдолбленный знак в форме восьмерки.
Это была лежащая восьмерка: два одинаковых кружка диаметром чуть менее десяти сантиметров соприкасались друг с другом боками. В центре этой восьмерки виднелось красноватое утолщение, похожее на ржавый стержень, оставшийся от железного болта. Два кружка по обеим сторонам от него, вероятно, со временем были выдолблены на камне кольцом, которое крепилось к стене вертикально при помощи болта и во время отлива свободно раскачивалось волной то вправо, то влево. Очевидно, к этому кольцу когда-то привязывали канаты, чтобы пришвартовать корабль к причалу.
Но кольцо было расположено так низко, что наверняка почти всегда оказывалось под водой – иногда даже на глубине нескольких метров. С другой стороны, его скромные размеры, казалось, не соответствовали толщине обычно используемых канатов даже для швартовки маленьких рыбацких лодок. К нему можно было привязывать разве что прочные бечевочки. Повернувшись на девяносто градусов, Матиас перевел взгляд на толпу пассажиров, а затем опустил глаза, уставившись на корабельную палубу. Эту историю ему часто рассказывали. Был дождливый день; его оставили дома одного; вместо того чтобы делать на завтра домашнее задание по арифметике, весь день он провел у окна, выходящего во двор, рисуя морскую птицу, которая села на один из столбов ограды в конце сада.
Был дождливый день – казалось бы, такой же, как все дождливые дни. Он сидел лицом к окну за массивным столом, задвинутым в оконную нишу, подложив на стул две толстые книги, чтобы было удобней писать. В комнате, наверное, было очень темно; должно быть, свет падал только на полированную дубовую крышку стола, которая – хотя и едва заметно – блестела. Единственным по-настоящему светлым пятном была лишь белая страница тетради и еще, вероятно, лицо мальчика, а может, даже и его руки. Он сидел на двух словарях – по-видимому, уже несколько часов. Он почти закончил рисунок.
В комнате было очень темно. За окном шел дождь. Большая чайка неподвижно сидела на столбе. Он не видел, как она прилетела. Не знал, как долго она там сидит. Обычно они не подлетали так близко к дому даже в самую плохую погоду, хотя от сада до моря было всего метров триста голых холмистых лугов, которые волнами подходили к полукруглому вырезу залива, граничащего слева с подножием скалистого обрыва. Эта часть сада представляла собой не что иное, как квадратный участок луга, где каждый год высаживали картофель; его обнесли (чтобы не заходили овцы) проволочной оградой, укрепленной на деревянных кольях. Чрезмерная толщина этих кольев свидетельствовала о том, что они не предназначены для подобных целей. Тот, что возвышался в конце центральной дорожки, был еще массивней, чем все остальные, хотя на нем висела легкая решетчатая калитка; это был столб цилиндрической формы – грубо отесанный ствол сосны, почти плоская верхушка которого (в полутора метрах от земли) была для этой чайки идеальным насестом. Птица сидела в профиль, повернув голову в сторону ограды, одним глазом глядя на море, а другим – на дом.
В это время года на квадратном участке сада между домом и оградой не оставалось, по сути, никакой зелени, кроме нескольких чахлых запоздалых сорняков, пробивающихся сквозь ковер пожухлой травы, которая уже многие дни гнила под дождем.
Погода стояла тихая, ни ветерка. Моросил мелкий, слабый дождик, который застил горизонт, однако на близком расстоянии видимость из-за него не ухудшилась. Напротив, казалось даже, что в этом промытом воздухе самые близкие предметы обретали дополнительный блеск – особенно если они были такими светлыми, как чайка. Он изобразил не только контуры ее тела, сложенное серое крыло, единственную лапу (за которой пряталась вторая, в точности такая же) и белую голову с круглым глазом, но и кривой разрез клюва с загнутым кончиком, рисунок хвостового оперения, а также оперения по краю крыла и даже чешуйчатый орнамент на лапе.
Он рисовал на очень гладкой бумаге твердым и очень остро заточенным карандашом, почти без нажима, чтобы не оставлять следов на следующих страницах тетради. У него получалась четкая черная линия, которую никогда не приходилось стирать – настолько тщательно он старался воспроизвести оригинал. Склонив голову над рисунком, положив локти на дубовый стол, он уже начинал чувствовать усталость от того, что так долго сидит, свесив ноги, на таком неудобном сиденье. Но двигаться ему не хотелось.
Позади него, в доме, было пусто и темно. Комнаты, располагавшиеся в ближней части дома, у дороги, были еще темнее, чем остальные – за исключением утренних часов, когда их освещало солнце. Однако в комнату, где он рисовал, свет проникал только через это единственное окно: маленькое, квадратное, глубоко посаженное в толще стены; мрачные обои; тесно поставленная высокая, массивная мебель из мореного дерева. Там было по меньшей мере три огромных шкафа, два из которых стояли вплотную друг к другу напротив двери, выходящей в коридор. В третьем из них на нижней полке в правом углу как раз и находилась обувная коробка, куда он складывал свою коллекцию веревочек.
В укромном углу у подножия причала уровень воды то поднимался, то опускался. Быстро размокший комок синей бумаги наполовину расправился и плавал в воде, в нескольких сантиметрах от поверхности. Теперь он стал больше похож на обертку от пачки обычных сигарет. Она следовала движению воды, но поднималась и опускалась по одной и той же вертикальной оси – не приближаясь к стене и не удаляясь от нее, не перемещаясь ни вправо, ни влево. Матиас без труда мог охарактеризовать ее положение, поскольку видел ее как раз в той стороне, где находился знак в форме восьмерки, выдолбленный в камне.







